1. У Орхана Памука выходит новый роман «Рыжеволосая Женщина», а за роман «Мои странные мысли» он только что получил премию «Ясная поляна» — это, кажется, первая в России попытка сделать что-то похожее на международный «Букер», с не менее сильным составом номинантов. Помимо текста Лизы Биргер на «Горьком», на этой неделе в интернете появился отрывок из «Рыжеволосой Женщины» в переводе Аполлинарии Аврутиной, а еще — интервью с Памуком Галины Юзефович: турецкий писатель объясняет, почему соображения о европейском и азиатском образах мыслей наивны, охотно играет в игру «Толстой или Достоевский», рассказывает, как ему удалось написать роман о представителе рабочего класса («Обычно о них пишут с точки зрения интеллектуалов из среднего класса и делают это с изрядной долей мелодрамы и аффектации. Именно этого я и пытался избежать»). Когда Галина Юзефович спрашивает у него, правда ли, что действие «Рыжеволосой Женщины» разворачивается не в Стамбуле, Памук отвечает, что так и не смог расстаться с городом, который дает ему вдохновение: «…пустошь, на которой ищут воду мои герои, расположена неподалеку от Стамбула. Через тридцать лет этот участок оказывается проглочен бесконечно расширяющимся городом, то есть „Рыжеволосая Женщина” начинается за пределами Стамбула, а заканчивается внутри его, потому что город как бы проглатывает мой текст».
2. Издание «Православие и мир» публикует отрывок из книги протоиерея Георгия Ореханова о конфликте Православной церкви со Львом Толстым — конфликте, который продолжается и после смерти писателя. Книга называется «Лев Толстой. Пророк без чести», и после такого названия браться за нее как-то не хочется, но отрывок, где протоиерей Ореханов рассуждает, может ли церковь простить Толстого, оказывается познавательным. Священник анализирует «религию Толстого» («Она должна главным образом отвечать на вопрос о смыслах, в частности, на вопрос о смысле жизни, но отвечать так, чтобы ответ никоим образом не апеллировал к какой-либо метафизике и каким-либо трансценденциям»), но ставит писателю в вину то, что он при всем своем знании народа не брал в расчет действительную огромную роль православия в народной жизни. Далее Толстой обвиняется в убийстве художественности — не только в самом себе, но и в других авторах; художественность, то есть сложность миропонимания и представление о красоте мира, по мнению Ореханова, без веры невозможна. К Толстому, который «много сделал для десакрализации русской жизни, сознания и души», здесь возводятся явления, противные православному христианину в современной общественной жизни — вплоть до перформанса Pussy Riot и (буквально) богохульной надписи на заборе. Что касается вопроса о посмертном возвращении Толстого в лоно церкви, то ответ Ореханова однозначен: нет, никакого прощения, прежде всего потому, что это будет неуважением к Толстому, который ушел из церкви сознательно.
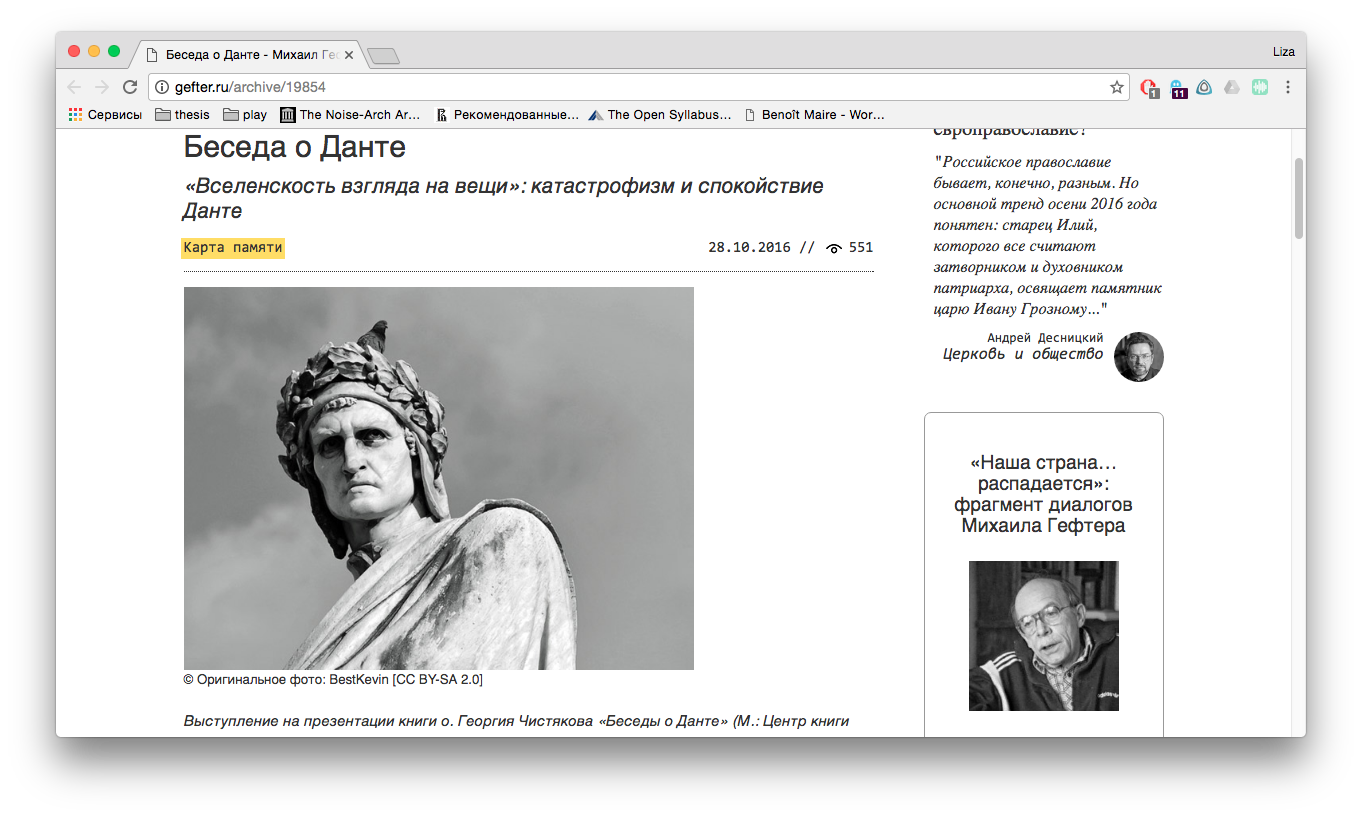
3. В перпендикуляр к предыдущему сюжету. Только что вышла книга о. Георгия Чистякова (1953–2007) «Беседы о Данте», в которой собраны его радиобеседы и статьи о «Божественной комедии»; книга, где сочетаются его дар филолога и дар богослова. На «Гефтере» опубликовано выступление Ольги Седаковой на презентации книги. Седакова, сама много занимавшаяся Данте, считает, что, невзирая на большую российскую традицию переводов и интерпретаций, «Беседы» Чистякова — «первая настоящая пропедевтика Данте для нашего читателя»: «Отец Георгий говорит, что Данте становится для своего читателя тем, кем для самого Данте стал Вергилий, — проводником в самую глубину вещей. Беседы отца Георгия — рассказ о его личном следовании Данте. Для этого требуется своего рода конгениальность. Данте выбирает своих читателей. Избирательное сродство, связывающее Чистякова и автора „Комедии”, легко заметить, но труднее определить. По-моему, это прежде всего открытость, вселенскость взгляда на вещи — и страстное желание осуществить „правду Божию” здесь и сейчас».
4. Философ и писатель Дмитрий Галковский, автор «Бесконечного тупика» и «Друга утят», продолжает в своем Живом журнале ревизию русского литературного канона. После Булгакова и Маяковского пришла очередь Пушкина. Галковский рассматривает судьбу и творчество Пушкина в контексте собственной национальной историософии, исправляя известную гоголевскую сентенцию о том, что Пушкин — «это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет» следующим образом: «Пушкин — это судьба гениальной русской личности в ближайшие двести лет». Вообще говоря, «пушкинский миф» здесь деканонизируется едва ли не самым радикальным со времен Абрама Терца образом. В первой части анализируется галломания семьи Пушкиных и ранняя пушкинская биография: «Учебная программа Лицея была оторвана от жизни, упор делался на гуманитарные предметы, включая стихосложение и рисование. Главное, учеников не отпускали к родителям даже на каникулы. <…> Но, в общем, пушкинский лицей выпустил „институток”. Неудивительно, что они мерли как мухи, и к 1837 году из 30 выпускников умерло 9». Во второй части — конспирологическая трактовка восстания декабристов («Николай I и был декабристом, совершившим государственный переворот 14.12.1825 года») и положение Пушкина после михайловской ссылки: «Николай рассчитывал, что Пушкин будет главным ходатаем по делу декабристов, что даст возможность властям проявлять разумную гуманность и постепенно восстанавливать отношения с либеральной оппозицией. Пушкин этой роли совершенно не понял и поставил себя в двусмысленное положение. Он как щенок набросился на Николая и измазал его своими слюнями». Продолжение следует.
5. За отчетный период в «Журнальном зале» появились свежие номера «Октября» и Homo Legens. В «Октябре» — новый роман Натальи Ключаревой «Счастье»; читатели, помнящие роман «Россия: общий вагон», узнают здесь характерный для Ключаревой тип героя — идеалистично открытого, наивного, уязвимого и в то же время очень сильного. Герои Ключаревой внеположны обыденному миру и этой внеположностью защищены. Больше того, этой внеположностью они его побеждают: изображаемый в прозе Ключаревой мир вовсе не пряничная сказка, напротив, он узнаваем и чудовищен, но его можно преодолеть. Вторая публикация, на которую здесь стоит обратить внимание, — отрывок из книги Ирины Лукьяновой о Катаеве. Можно преположить, что она выйдет в серии «ЖЗЛ», где публиковалась лукьяновская биография Чуковского и где недавно была выпущена другая книга о Катаеве — Сергея Шаргунова. Если мы угадали, то, значит, «Молодая гвардия» продолжит публиковать книги, представляющие разные взгляды на героев и во многом друг другу противоречащие. Это можно приветствовать.
В Homo Legens — стихи одного из главных эстонских поэтов Яна Каплинского. На русский язык их перевел сам автор: «Ненависть ищет себе костюм и еще не знает / в каком облике в какой роли прийти к нам / выбрать ли Louis Vuitton Yves Saint-Laurent или Dior / ненависть так же как и любовь – сама себе вечность / <…> она верит что повелевает ветром и солнцем / она знает нас людей но она не знает / что есть то чего она не в силах понять / чем она не в силах управлять – это улыбка / первая улыбка малыша своей маме / улыбка мертвого Вегенера / что однажды растопит льды Гренландии». Здесь же — новые стихи Евгения Никитина; название его последнего сборника «Стэндап-лирика» очень точно отражает то, что он делает. Стихи Никитина одновременно смешны — и очень грустны, их автор ставит себя в крайне уязвимую позицию, и это внушает уважение:
Надя Басова, любовь моего детства,
сидела со мной за одной партой.
После уроков, когда было наше дежурство,
мы убирали класс.
— Ну что, Никитин, герой Советского союза, —
говорила Надя Басова, —
подметай внимательнее, иначе
я заставлю тебя глотать эту пыль.
Будешь плакать и есть горстями.
Знаешь, Никитин, у нас дома
лежит кассета, на которой записано,
как ругаются евреи. Это п****ц, Никитин,
так, как вы там ругаетесь,
русскому и в голову не придет
так ругаться. Хорошо, Никитин,
теперь иди, помой тряпку.
И, конечно, стихотворение о смерти кота, совсем уж пронзительное.
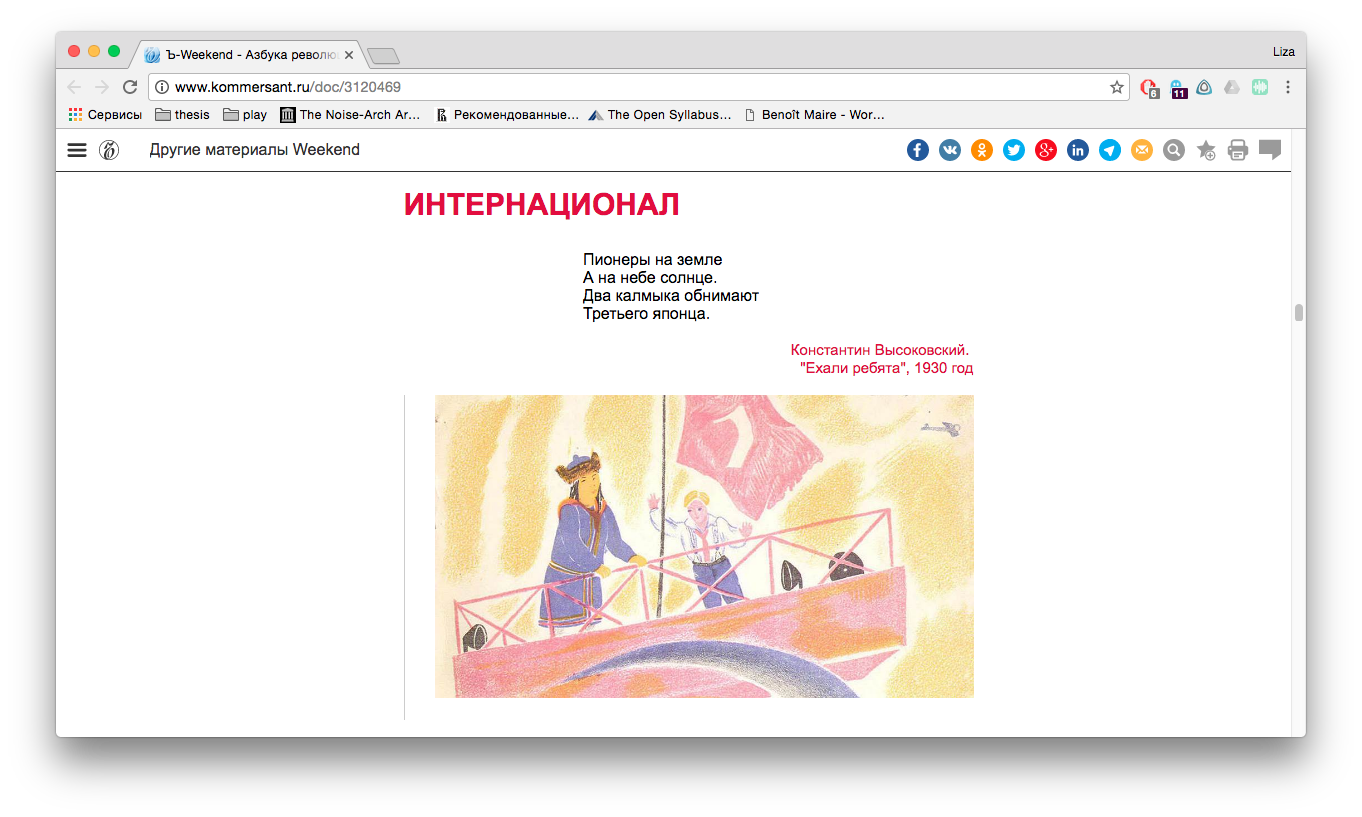
6. В Москве сейчас работают сразу три выставки, посвященные истории детской книги в России, — три части одного большого проекта. «Коммерсантъ» по этому случаю составил «Азбуку революции» из детских стихов 1920-х — 1930-х годов: по большей части это чтение, достойное антологии «Уткоречь» уже упомянутого Галковского, и по-своему упоительное. Так и видишь очередь детей, выстроившихся на прием к Калинину:
Если ты чем озабочен,
Не печалься этим очень,
А — к Калинину иди!
И —
У него спроси совета!
Он и «Староста» на это!
Среди прочно забытых авторов вроде Джека Алтаузена или Дмитрия Семеновского здесь можно встретить и Маяковского и — что для кого-то может оказаться сюрпризом — Хармса и Введенского: «Было вначале шесть партизан / в первом отряде Семена Буденного, / Но из рабочих, матросов, крестьян / выросла Первая конная». Известно (и заметно), что Введенский к детским стихам относился как к откровенной халтуре, а вот из великой детской поэзии Хармса для публикации выбрано самое худшее и грустное: безнадежные вещи о шпионах и социалистическом соревновании.
7. Дмитрий Быков*Признан властями РФ иноагентом. прочитал большую лекцию «Гарри Поттер и холодная война», где сделал попытку спроецировать события поттерианы на современную историю («Вот Залдостанов — это как раз типичный Пожиратель смерти. И у него на лице написано, что он уже так ее нажрался, что она у него уже не помещается»). Получается неутешительно: по Быкову, мы сейчас то ли в четвертом томе, где только что возродился Вольдеморт, то ли в шестом, где сгущаются тучи перед «горячей» войной. Помимо этих мрачных параллелей, запоминается рассказ о двух моментах, после которых Быкову стало ясно, что Роулинг — великий писатель. Первый — это описание формулы возрождения Вольдеморта («Кровь врага, плоть слуги и кость отца»), второй — пребывание Гарри Поттера в лимбе, где ему встречается искалеченная душа его врага: «Они всегда в последний момент становятся бедными. Так вот надо помнить, что это плачущее, мелкое, омерзительное зло — это саможаление, самоумиление, оно сидит в каждом из нас». Традиционное для разговоров о «Гарри Поттере» предупреждение: в тексте есть спойлеры из «восьмой книги».
8. Ольга Балла пишет на «Кольте» о вышедшей в латвийском издательстве Literature Without Borders книге Сергея Жадана «Все зависит только от нас». Сюда попали переводы на русский избранных стихотворений Жадана, вплоть до недавнего цикла «Почему меня нет в социальных сетях», посвященного украинской войне. В рецензии есть неожиданное сравнение: «Невозможно не обратить внимание на то, что Жадан — ровесник нашему Борису Рыжему (точный ровесник, одногодок, старше его на шестнадцать дней), который в своем Свердловске писал, в сущности, о том же самом: о бандитских девяностых, о ранних насильственных смертях ровесников, о темном времени хаоса. Но какая громадная разница. Рыжий — горек и трагичен. Жадан — сколько бы ни был страшен и беспощаден — нет. Он не о распаде и конце. Он — даже когда об убийствах и жестокости — о рождении нового мира на обломках старого». Тот же вывод Балла делает и о военных стихах Жадана: «эта поэзия, переполненная едва ли не всей состоявшейся до нее историей, обломками ее горького опыта, — все-таки поэзия нового, после многих крушений, начала мира. <…> Это упрямая, сильная поэзия молодого народа, у которого все еще впереди».
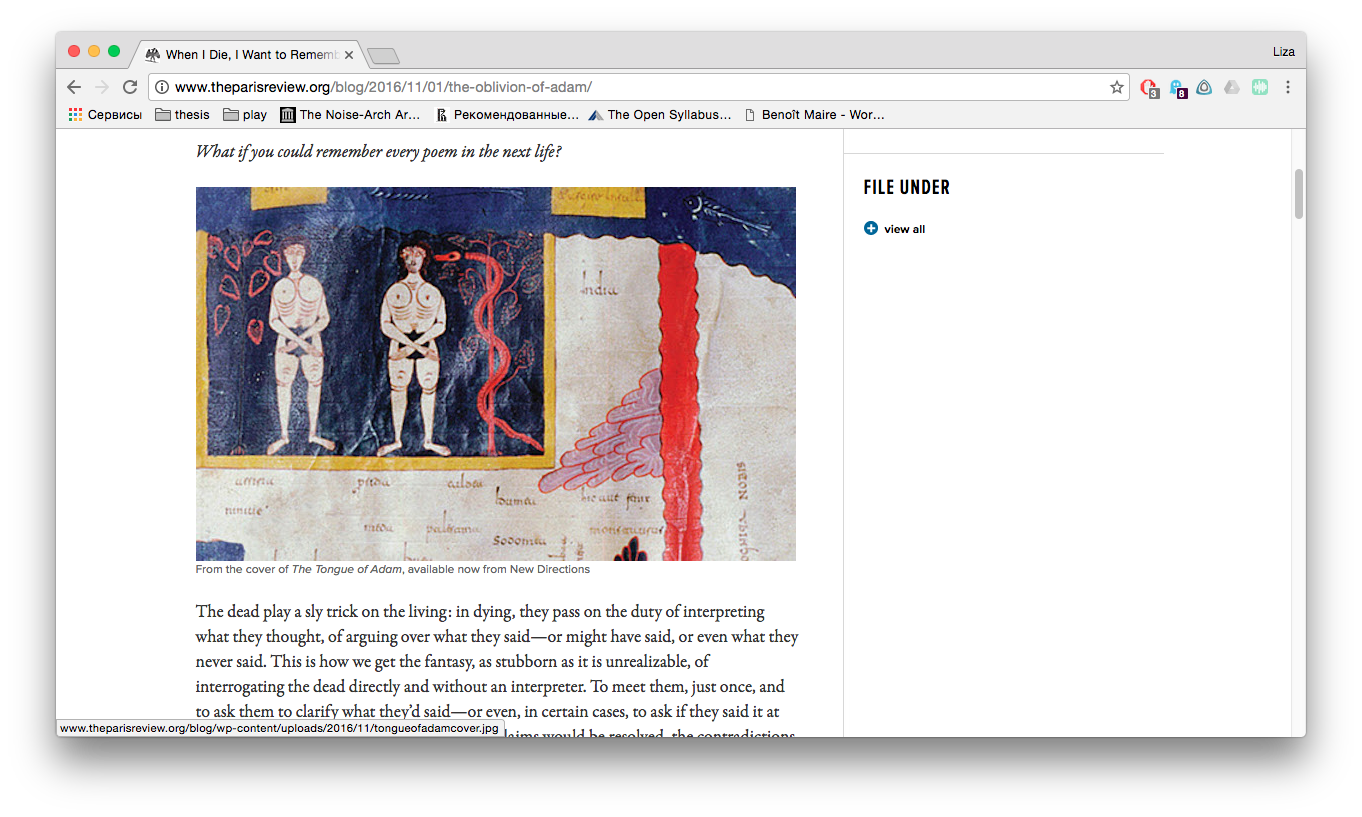
9. The Paris Review публикует эссе марокканского писателя Абдельфаттаха Килито о произведении великого сирийского поэта XI века Абу-ль-Аля аль-Маари «Послание о царстве прощения». «Послание» относится к особому арабскому жанру «разговоров с мертвыми»: оно описывает путешествие богослова Ибн аль-Кариха в загробный мир. Аль-Карих встречается здесь с умершими поэтами (как благословенными, так и «проклятыми» зиндиками), а еще с Адамом и пророком Мухаммедом. О «Послании» часто говорят как о тексте, предвосхищающем «Божественную комедию»; в исламском литературоведении существует версия, что Данте был с «Посланием» знаком. О сатирической подоплеке «Послания» можно прочесть здесь.
Килито интересует то, что в «Послании о царстве прощения» говорится о поэзии и о забвении языка. Сокровенная мечта аль-Кариха — попав в рай, сохранить в своей памяти все стихи, выученные им в жизни. В раю он встречает поэтов, чьи стихи читал, и поражен тем, насколько их облик не соответствует их писаниям. Удивительные трансформации происходят не только с поэтами, но и со всем, что аль-Карих видит в райском саду: растениями, фруктами. «Все это значит, что Ибн аль-Карих — второй Адам, — пишет Килито. — Прародитель человечества, сотворенный из нескольких пригоршен глины, не знает названий предметов, встречающихся ему в мире, но наблюдающий за ним Бог научил его нужным словам». В раю герой аль-Маари не рад чудесам, постоянно сравнивая их с тем, что известно ему из поэзии: «Вспоминая об ученых диспутах своей земной жизни, Ибн аль-Карих устраивает пир, на который приглашает поэтов и грамматиков. Разумеется, довольно вскоре вспыхивает спор, пирующие обмениваются оскорблениями, начинается потасовка. Таким образом Ибн аль-Карих насыщает рай темами и мотивами поэзии и, подобно удачливому Дон Кихоту, если уместно такое сравнение, живет в соответствии с тем, что читал и слышал». Наконец, аль-Карих встречает настоящего Адама: «Они заводят разговор, в котором филологии уделено преимущественное внимание. Здесь особо подчеркивается… тема забвения». Ибн-Карих расспрашивает Адама о гномических текстах, которые приписывает ему традиция, и волнуется, не могло ли случиться так, что Адам забыл свои стихи: в конце концов, арабское слово «инсан» («человек») происходит от арабского «нисян» («забывчивость»). Но Адам отвечает, что никак не мог быть автором этих стихов: в раю он говорил по-арабски, а будучи изгнан оттуда, стал говорить по-сирийски и говорил на этом языке до самой смерти. «Когда бы он мог сочинить стихи, которые Ибн аль-Карих так стремится ему приписать? Во время жизни на земле? Но тогда он говорил по-сирийски, а стихи написаны на арабском. Во время жизни в райском саду? Но разве он мог бы сказать, что „мы возвратимся в землю”, если тогда ему была неведома смерть? А мысль, что он написал их по возвращении в рай, абсурдна: ведь он стал бессмертным, и говорить о смерти ему ни к чему». Эссе Килито — часть книги «Язык Адама», которая скоро выйдет в переводе Робина Кресвелла в издательстве New Directions.
10. На Lithub опубликовано большое интервью сомалийско-британской писательницы Надифы Мохамед с Тони Моррисон — лауреатом Нобелевской премии, автором «Возлюбленной». Моррисон вспоминает о своих родителях — матери, которая чудесно пела, и отце, который работал сварщиком на корабельном строительстве («Однажды он пришел домой и сказал мне: „Сегодня я сварил идеальный шов. Он был такой чистый, такой превосходный, что под ним я оставил сваркой свои инициалы”»). Тут же — рассуждения о материнстве, сексуализации детства, религиозном воспитании, телесериалах, движении Black Lives Matter. Вообще это одно из тех интервью, где собеседники понимают друг друга с полуслова: Мохамед считает себя ученицей Моррисон, она моложе ее на полвека, но в их биографиях и семейных историях много схожего. Одно из самых замечательных мест — искреннее недоумение Моррисон по поводу всепланетно транслируемой личной жизни Ким Кардашьян и Канье Уэста: «Я слышала, что муж, Канье Уэст, на Рождество подарил ей… ох, какая пошлятина — сказать противно — сто пятьдесят подарков!».
11. В блоге издательства Оксфордского университета — небольшой текст филолога-классика Энтони Верити о тех трудностях, с которыми сталкивается современный переводчик «Одиссеи». Верити только что выпустил собственный перевод «Одиссеи», и перед нами переводческое предисловие. Важнейшая из трудностей — стиль: «Как всем нам известно, никто никогда не говорил на гомеровском греческом. Это сплав различных диалектов, главным образом ионийских, и цель их использования — отдалить историю от повседневности, сообщить ей достоинство, приличествующее повествованию о героических деяниях давнего прошлого. При этом часто Гомер великолепно звучит на современном английском». Сегодняшний поэтический английский, на котором никто («за исключением разве что Дерека Уолкотта») не пишет эпос, непросто приспособить для такой задачи, если не отсылать читателя к английскому же поэтическому прошлому. «Одиссея» подходит для этого лучше, чем «Илиада»: герой «Одиссеи» «выживает во враждебной среде, полагаясь на собственную хитрость. Больше того, те, с кем его сводит судьба, — люди из самых разных социальных слоев, этот круг шире, чем небольшой воинский мир „Илиады”. Действие „Илиады” происходит в Трое и на равнине перед ее стенами. „Одиссея” показывает нам большую часть известного грекам мира… а также волшебные края, где может появиться кто угодно и случиться что угодно. <…> Все это значит, что переводчику предстоит отыскать множество разных голосов, описать необычные места и происшествия, передать интонацию разговоров разных людей». Верити скромно предлагает решить читателю, выполнил ли он эту задачу, а мы заметим, что его рассуждения и похожи, и не похожи на то, что говорит о своем труде современный переводчик «Одиссеи» на русский — Григорий Стариковский.
12. В Бронксе, одном из пяти боро Нью-Йорка, живет почти полтора миллиона человек. До сих пор в нем, как ни странно, работал только один книжный магазин — большой филиал Barnes & Noble. Притом открывался этот магазин с большим скрипом, после писем и петиций, и построили его в неудобном месте, куда без машины не доберешься, — но хоть так. В 2014 году он едва не закрылся, но тогда его сумели отстоять. И вот теперь Barnes & Noble в Бронксе закрывается окончательно. Автор The New Yorker Эндрю Борыга вспоминает место, которое помогало ему примириться с жизнью: «Я уже подумывал всерьез стать писателем, и Barnes & Noble был одним из немногих мест, где я мог спокойно сидеть среди других детей, которые выглядели как я, говорили как я и любили читать как я. Мы сидели с книгами в проходах между шкафами, поджимая колени, когда кому-то было надо пройти». Возможно, вскоре в Бронксе все же откроется новый магазин (и по совместительству винный бар), но его будущая владелица Ноэль Сантос, которую теперь поздравляют с монополией, недовольна: «На весь Бронкс меня не хватит. Даже если бы мой магазин и Barnes & Noble стояли рядом, для боро этого недостаточно».
