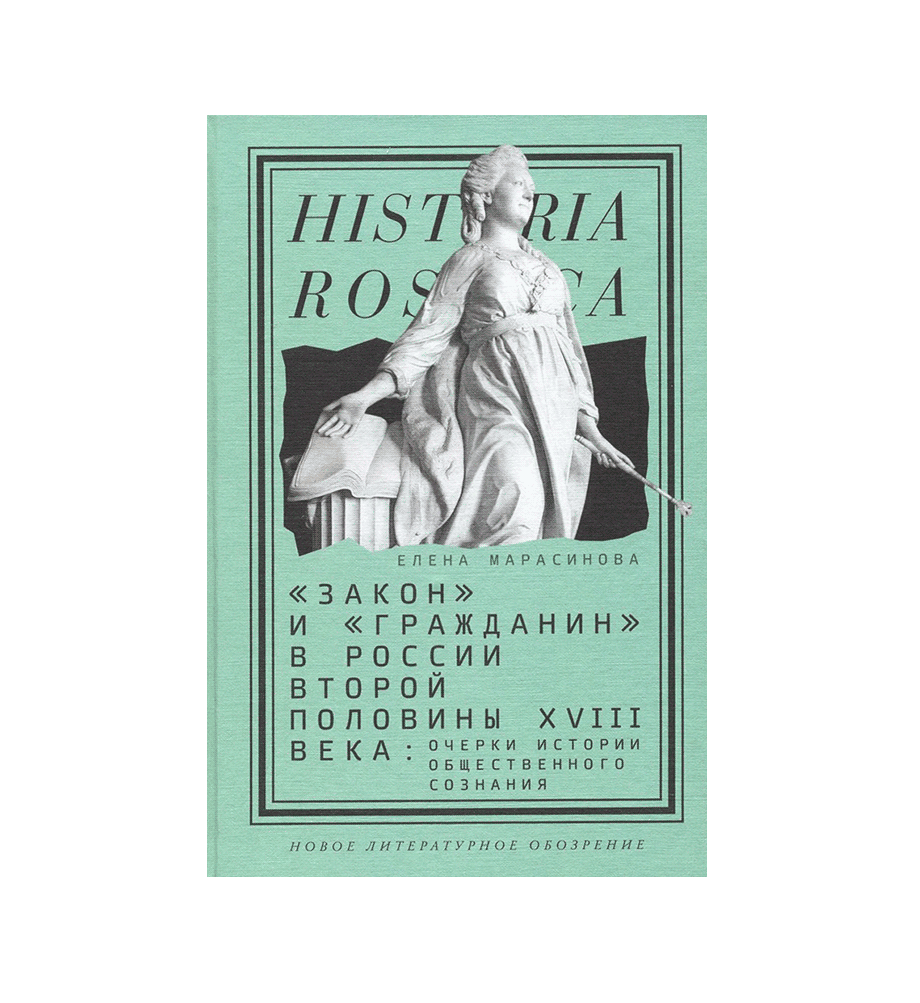Лихоимство и ласкательство
Историк Елена Марасинова о кровопускании и казнокрадстве в XVIII веке
Почему в России XVIII века люди не стеснялись рассказывать в письмах о геморроидальных коликах, как отношения императрицы Елизаветы Петровны с Богом привели к мораторию на смертную казнь и откуда взялось публичное покаяние? «Горький» обсудил с историком Еленой Марасиновой ее новую книгу «„Закон“ и „гражданин“ в России второй половины XVIII века: Очерки истории общественного сознания», вышедшую в издательстве «Новое литературное обозрение».

Как вы начали заниматься историей России XVIII века, каков основной предмет ваших занятий?
Книга, вышедшая в издательстве «Новое литературное обозрение», была подготовлена в рамках моей работы в Институте российской истории РАН в центре изучения русского феодализма. Это моя третья монография — по ней и двум предыдущим можно проследить, как менялось и само время, и основные тенденции в исторической науке. Моя первая работа была посвящена психологии дворянства, тогда эта тема звучала новаторски. Я начала разрабатывать ее еще в начале 1980-х годов, в период самого консервативного и идеологически малоподвижного социализма. Тем не менее на историческом факультете МГУ была создана целая школа по исследованию дворянского сознания. Ею руководил академик Леонид Милов. У него была замечательная идея — посмотреть, каким образом сознание дворянства отражалось в различных документах. Для того чтобы понять менталитет человека прошлых эпох, нужно правильно прочитать исторический документ. В группе Милова сознание русского дворянина рассматривалось по письмам, мемуарам, путешествиям, публицистическим произведениям, художественной литературе. Мне достались как раз письма, поэтому моя первая работа посвящена сознанию дворянства в эпистолярных источниках. Когда этот этап завершился, у меня возникло ощущение, что в России XVIII века сложилась действенная система социального контроля, направленная на воспитание служилого сословия. Главной доблестью и честью русского дворянина стала «служба государству и отечеству» — такой внутренний императив у целого сословия нелегко воспитать. Поэтому моя вторая работа была посвящена, пожалуй, одной из самых актуальных тем для русской истории — взаимоотношению власти и личности. Обычно в исследовательских работах подобного плана ставится проблема «власть и общество», но при таком подходе утрачивается индивидуальное начало, поэтому я сконцентрировала внимание именно на отношениях государства и личности. А третья книга посвящена и тем, и другим сюжетам — она называется «„Закон” и „гражданин” в России второй половины XVIII века: Очерки истории общественного сознания». В названии обыгрывается главный подход книги — я иду от языка того времени, рассматриваю, что понимали люди XVIII века, причем принадлежащие к разным социальным стратам, под понятиями «закон» и «гражданин». «Закон» отражает взаимоотношения личности и государства, а понятие «гражданин» отражает представление личности о социальной структуре общества, о своем месте и роли в этой структуре. Этому посвящены мои занятия XVIIII веком и три монографии, одна из которых вышла совсем недавно.
То есть cначала вы занимались чем-то в духе школы «Анналов», истории ментальностей, а сейчас движетесь к изучению исторических понятий, как у Райнхарта Козеллека?
Да, в какой-то степени я совмещаю и тот, и другой подходы, хотя в нашей науке сейчас в известной степени доминирует иллюстративный подход. Пожалуй, отличие моего метода от школы Козеллека заключается в том, что Begriffsgeschichte (история понятий) ставит во главу угла именно исследование содержания понятий, и это ее конечная цель. А для меня это инструмент, позволяющий отойти от позитивистской описательности, к которой, как правило, сводится изучение XVIII века, и немного по-другому взглянуть на прошлое.
Вы говорите о недостатках позитивистской методологии — а как вы оцениваете труды современных теоретиков типа Мишеля Фуко, используете ли вы их в своей работе?
Я думаю, что «Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы» Мишеля Фуко и вообще направление, которое можно назвать биоисторией — интерес к тому, как человек относился к своему телу, к пространству, как власть манипулирует подданными, — очень важно само по себе, и, кроме того, этими авторами были выработаны важные методологические приемы. Безусловно, я внимательно читала Фуко, у него много плодотворных идей. Например, что публичная смертная казнь и даже ее имитация являются формой мести государства преступнику, назидательной и детально разработанной. Однако иногда у меня возникала мысль, что если бы Фуко знал русский материал XVIII века, то, вероятно, его работы приобрели бы несколько иную тональность. Я сейчас имею в виду использование театрализованной имитации смертной казни и публичного покаяния в качестве наказания за тяжкие преступления. Русская Церковь не знала публичного покаяния в прямом смысле этого слова, потому что во времена принятия Киевской Русью христианства в Византии уже существовала тайна исповеди. Но светская власть в XVIII столетии разработала удивительные театрализованные сценарии, смысл которых заключался в духовной казни преступников: зачитывались прегрешения убийц, выносился приговор, затем они шли в Кремль по тому же пути, что идут на эшафот, поворачивали к Успенскому собору, и там происходило их публичное покаяние.
На мой взгляд, биоистория у нас еще не разработана. К примеру, меня всегда поражают письма просвещенных людей XVIII века, совсем не похожие на наши. Екатерина начинала письма Вольтеру или Гримму с невиданных физиологизмов. Люди подробно описывали, как они пускают кровь, ставят пиявок, что происходит с их организмом без малейшего чувства стыда, которое характерного для современного человека. Громадное количество физиологизмов в письмах дворян XVIII века наводит на мысль, что они исследовали свое тело как какое-то медицинское пособие по образу анатомических театров, введенных Петром. Геморроидальные колики, кровопускания — любые подробности описывались людям, с которыми автор письма даже не имел родственных отношений.
Расскажите, пожалуйста, о вашей последней работе.
Я исследовала понятия «закон» и «гражданин», не ограничиваясь изучением политического языка — это только инструмент, к которому добавляются и другие методы анализа. Книга состоит из трех глав и посвящена нескольким сюжетам. Первый сюжет — восприятие русским человеком XVIII века, в том числе и монархами, государственного закона и закона Божьего. Первая глава книги рассказывает о таком удивительном феномене в русской истории, как отмена смертной казни, совершенно невиданном для Европы — негласный мораторий был введен на двадцать лет в период правления Елизаветы Петровны. По всей видимости, прав князь Щербатов, который писал, что перед переворотом она просила Спасителя перед иконой, чтобы он помог ей занять родительский престол, и, если это произойдет, пообещала отменить смертную казнь. Елизавета ни разу не нарушила своей заповеди, несмотря на неодобрение ближайшего окружения и недовольство Сената. В период ее правления использовался и такой удивительный способ наказания, как «политическая смерть». Вместо смертной казни существовала ее театрализованная версия, не подразумевавшая смерти. Мораторий при Екатерине, защищавшей свою власть, трижды нарушался: во время дела поручика Василия Мировича, пытавшегося освободить несчастного Иоанна Антоновича, с младенчества заточенного в крепость, а также после Чумного бунта в Москве. Екатерина ввела новую форму религиозного, церковного наказания — покаяние, применяющееся через светские суды. Это тоже невиданное явление в русской истории — когда не церковь, а светский суд назначает наказание покаянием (сама эта тенденция возникла еще при Петре).
Далее в книге я попробовала сопоставить понятия «государева воля» и «закон» и пришла к выводу, что совсем не любое решение, не любой каприз и не любое намерение государя, несмотря на его самодержавную власть, становилось законом. Законодательство XVIII века удивительно, оно абсолютно не похоже на наше. Оно казуально и прецедентно, часто указу предшествует громадная преамбула, которая просто описывает некий случай. Допустим, какие-то офицеры плохо себя вели во время спектакля в Эрмитажном театре и даже разорвали занавес ложи. Екатерине это было очень обидно, и она издала указ, согласно которому те, кто произведен в офицеры из унтер-офицеров, но не являются потомственными дворянами, не допускались в Эрмитажный театр. Или такой казус: на смотр не могут явиться дворяне, потому что у них нет сапог. Издается указ — местные канцелярии должны следить, чтобы у дворян были сапоги и все приезжали на сборы. На самом деле Полное собрание законов Российской империи — удивительный набор историй. Таким образом, закон в XVIII веке имел двоякую функцию. С одной стороны, он был подобием манифеста; с другой — содержал конкретные инструкции, а иногда являлся и просто пожеланием. Например, законы о том, что казнокрадство и взяточничество, или, как тогда говорили, «лихоимство и ласкательство» — преступное действо, издавались почти каждый год (понятно, что эти указы были серьезным напоминанием). Конечно, проходили суды над взяточниками, но регулярное издание законов одного и того же содержания показывало не только то, что этот порок не истреблялся, но и то, что государство было прекрасно осведомлено об этом.
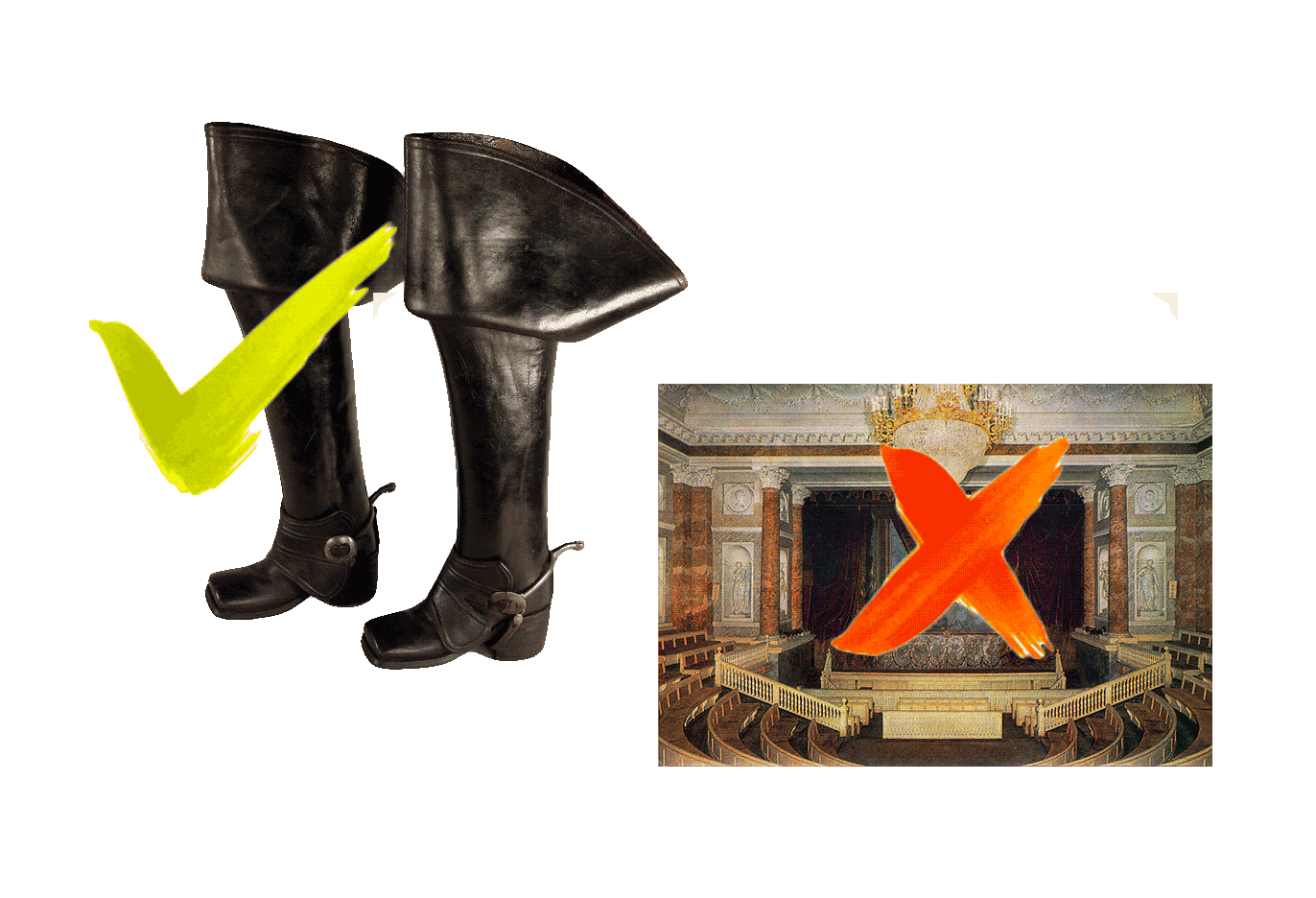
Последняя часть моей работы посвящена формированию понятия «гражданин» (в русском языке, как и во многих других языках, оно трансформировалось из понятия «горожанин»), означавшего человека, который имеет не только обязательства перед государством, но и определенные права. Например, Екатерина запретила использовать слово «раб» в прошениях на высочайшее имя и в любых бумагах, поступающих престолу. Нужно сказать, что дворяне неособенно следовали этому и иногда спонтанно ставили подпись «нижайший раб» в своих донесениях. Но тем не менее так называемые «горизонтальные связи» усиливались в среде русского общества, особенно в его образованной и политически активной части. Неслучайно воспитатель наследника престола великого князя Павла Петровича канцлер Никита Панин писал: «Где произвол одного есть закон верховный, там прочная общая связь и существовать не может; там есть Государство, но нет Отечества; есть подданные, но нет граждан, нет того политического тела, которого члены соединялись бы узлом взаимных прав и должностей».
Не могли бы вы кратко охарактеризовать эту эпоху, вторую половину XVIII века? Чем она интересна? У неспециалиста представления о том времени расплывчатые, в массовой культуре оно представлено очень условно.
Я думаю, что это была одна из самых благополучных эпох в русской истории, ее благополучие определялось балансом, которого достигла страна к середине и концу XVIII века после петровских реформ. В чем заключался этот баланс? Первое — кооперация между властью и дворянством. Дворянство к этому периоду уже становится, если можно так сказать, несущей конструкцией общественного здания. При этом оно не идет на очевидный конфликт с властью, который проявится в начале XIX века. Первый поэт России, Гавриил Державин, был статс-секретарем Екатерины. И среди дворянства формула «служба государю и отечеству» еще не раскололась на понятия службы отечеству и службы государю, которые в XIX веке далеко не всегда совпадали. Дворянство уже не сословие, обязанное служить, оно получило Манифест о вольности дворянства, Жалованную грамоту, но при этом продолжало работать на благо империи, и это, конечно, сказалось на эффективности политики Екатерины.
В этот период развиваются науки и просвещение, формируется образованное сословие, соответствующее европейскому уровню. Кроме того, мы можем наблюдать определенную гуманизацию отношений, которая проявлялась в незначительных, на первый взгляд, деталях: Екатерина отказалась от полуимен при обращении к придворным и не позволяла себе, в отличие от Петра I, говорить «Ивашка», «Алексашка». В то время формировалась общественная мысль, и большую роль в этом сыграла сама императрица. С другой стороны, традиционно считается, что вторая половина столетия была периодом максимального усиления крепостничества, однако мало кто знает о так называемом «экономическом либерализме» Екатерины II, которая позволила крестьянам заниматься неземледельческими промыслами.
Кроме того, в XVIII веке присоединяются новые территории, которые еще не подвергаются жестокой русификации — просто потому, что у власти не хватало на это сил. Период равновесия и баланса был недолгим, он нес в себе зарождающиеся конфликты, но обвал случился уже в XIX веке. Всем этим по-своему привлекают середина и вторая половина XVIII века.
Как изучается этот период? Эпизодически появляются какие-то интересные исследования — например, работы Зорина о рубеже XVIII и XIX веков, но такое ощущение, что в этой сфере нет почти ничего яркого и имеющего значение для неспециалистов.
Возможно, дело в представлении о какой-то удаленности и искусственности, барочности этого периода, напрямую не связанного с сегодняшним днем. Между нами и XVIII веком стоит — помимо ХХ — яркий и более близкий нам по литературе XIX век. Что касается современной науки, занимающейся XVIII столетием, то я бы выделила несколько направлений.
Первое — исследование человека. Поскольку до 1990-х годов крен был больше в экономическую историю, то с началом перестройки особое внимание стали привлекать повседневность и быт, сознание человека. И это очень важное направление. Речь идет не только о работах Андрея Зорина, выходят, например, сборники истории европеизации личности в XVIII веке. Нужно отметить семинар по тому же периоду, который действует в Германском историческом институте в Москве, несколько раз в месяц там проходят публичные заседания.
Второе направление — изучение усадебной культуры. Усадьба — феномен прежде всего XVIII — начала XIX веков. Есть Общество изучения русской усадьбы, есть Воронцовское общество, Дашковское общество, где собираются люди, исследующие наследие Екатерины Романовны Дашковой и всего рода Воронцовых. Помимо этого, есть третье направление, изучаются законодательство и реформы XVIII века.
Почему исследования XVIII века не имеют резонанса? Я думаю, потому, что их авторы не пытаются провести линию между XVIII веком и современностью, хотя прошлое никуда не уходит — наоборот, прорастает в наши дни. Ученые такой цели не ставят, они несколько замкнуты в своих интересах, но, если этот период сопоставить с современностью, он откроет очень многое. Меня, например, поражает в XVIII веке громадное внимание власти к системе дворянского социального престижа. Я могу сказать, что сейчас власть не обращает большого внимания на то, что для человека является престижным. А Пушкин неслучайно говорил: «Пружина чести, наш кумир! // И вот на чем вертится мир!» Как только возникает серьезный зазор между пониманием престижа отдельной личности и интересами общества, начинаются серьезные разногласия — прежде всего между властью и элитами. В XVIII веке власти удавалось удерживать под контролем систему социального престижа дворянина самыми разными путями: авторитетом чина, привилегией «служить Отечеству», данной высшему сословию. Власть поставила дворянство на самую высокую ступень общества именно потому, что это служилое сословие, а не потому, что это сословие помещиков. Каналы социального контроля, манипуляции сознанием, иногда совершенно виртуозные, — чрезвычайно интересный аспект, который может прозвучать очень современно.
Можете ли вы порекомендовать какие-нибудь работы о XVIII веке людям, слабо знакомым с этим материалом?
Тексты XVIII века нельзя разделить на публицистические и литературные в силу жанровой размытости, поэтому литература и общественное сознание тогда были тесно связаны. Очень продуктивно этим временем занимались не только историки, но и литературоведы. Начну с удивительного эссе Василия Ключевского «Евгений Онегин и его предки», в котором буквально в нескольких штрихах дается психологический портрет дворянства за полтора столетия. Что делал прадед Онегина и как он служил, как его дед уже получал образование, как его отец понимал, что нужно дать образование сыну и т. д. — и как «хандрил» Онегин, и как потом будет «скучать» Печорин. В 1930-е годы последовали замечательные публикации литературоведа Григория Гуковского, посвященные литературной дворянской среде, но в тот период все было очень тесно связано: Фонвизин — ближайший друг канцлера Панина и его брата Петра Панина (исследование Гуковского «Дворянская фронда в литературе 1750–1760-х годов»). Еще мне очень нравится обобщающая работа покойного, к сожалению, английского профессора Исабели де Мадариаги «Россия в эпоху Екатерины Великой», яркого и энциклопедически образованного специалиста по XVIII веку. Интересные работы у Ирины Кулаковой, в частности по визуальной истории и истории Московского университета. Профессор Московского университета Наталья Вадимовна Козлова недавно издала обширное собрание материалов, посвященных духовным завещаниям дворян, — удивительный источник. Есть сборники, которые выпускаются по результатам конференций Германского исторического института. В целом, я считаю, что русская и зарубежная школы изучения России XVIII века очень мощные. Достаточно сказать, что в Англии есть специальное общество по изучению русского XVIII века, которое проводит каждый год конференции под Лондоном.