«Ленин не был социальным расистом»
Лев Данилкин и Алексей Юдин об искусстве и политике большевиков
Вчера, 22 апреля, был день рождения Владимира Ильича Ленина — в честь этого «Горький» публикует расшифровку беседы писателя Льва Данилкина и историка Алексея Юдина, посвященную отношениям вождя мирового пролетариата и других большевиков с искусством. Диалог состоялся в прошлом году в Нижнем Новгороде, в рамках совместного цикла публичных лекций «Искусство и революции» Волго-Вятского филиала Государственного центра современного искусства и Российского государственного гуманитарного университета.
Алексей Юдин: Давайте начнем с просмотра короткого фрагмента оттепельного фильма режиссера Юрия Вышинского «Аппассионата».
АЮ: Что это было? Хрестоматийная сцена, описанная многократно и изображенная тоже. Что здесь настоящего? Музыка настоящая, это действительно Бетховен, действительно «Апассионата», и пианист настоящий — Рудольф Керер, сравнительно недавно ушедший, он снимался в этом фильме. Все остальное нуждается в комментариях, а комментарии за вами. Небольшое уточнение — наш фильм 1963 года. И немного личного — это год моего рождения. Таким вошел Ленин в мою собственную историю. Перед нами совершенно иконический профиль: вот хотя бы этот характерный поворот на камеру. Как же все-таки похож Борис Смирнов в роли Ленина на канонический образ вождя! А все остальное нуждается в расшифровке и комментарии. В общем, с Ленина мы сегодня и начнем.
Лев Данилкин: Мне кажется, вы все знаете, откуда эта история. Этот фильм — вольная экранизация очерка о Ленине. Там воспроизведен момент истины, когда он застает Ленина — этого рационального человека, «думающую гильотину» — врасплох. Вдруг он оказывается у Горького дома, заходит пианист, который играет сначала Шопена, потом Бетховена. Ленин вдруг начинает «говорить сердцем»: эта музыка, признается он, действует на него таким образом, что «хочется людей по головкам гладить, а надо бы лупить по рукам. Должность, скажу я вам, адски сложная». Этот эпизод есть в фильме. Насколько действительно это момент истины для Ленина, я не уверен. Фильм шестидесятнический — Ленин превращается из старшего товарища и наставника Сталина, каким он подавался в тридцатые и сороковые годы, в «самого человечного человека», в воплощение человечности — вот это настоящий Ленин, это то ради чего, собственно, он и сделал революцию: чтобы люди могли чувствовать себя людьми, чтобы победить тот капитализм, который заставляет их быть животными, свиньями. Вот такая музыка как раз и задает тот идеал человечности. Насколько Ленин был чувствителен? На самом деле это не единственный момент, когда мы застаем его в таком странном виде — не монументальном: есть воспоминания о том, что он украдкой смахивал слезу на постановке «Дамы с камелиями».
АЮ: Это какой год?
ЛД: Это еще до революции, когда он находился в эмиграции. Нулевые годы ХХ века. Словом, смысл в том, что каждая эпоха пытается перепридумать своего Ленина. В девяностые годы его представляли как объект поп-арта, как Микки Мауса, как гриб. В тридцатые годы это был «Ленин в Октябре», такой странный, чудаковатый тип, эксцентрик, которому нужен кто-то более вменяемый, более рациональный — например, Сталин, который там присутствует и приглядывает за ним. А вот каким Ленин был на самом деле — это история не в двух словах.
АЮ: Да. Небольшой комментарий. Вы ведь понимаете, почему здесь присутствует Лев Данилкин? Это автор новейшей, живейшей и интереснейшей биографии Ленина. Как историк я задаю ему вопросы практически как очевидцу. Другого такого наблюдателя за нашей недавней историей, за биографией Ленина, у нас просто нет.
ЛД: Нет, это важно… Я провел чуть больше времени, чем просто «человек с улицы», за чтением текстов Ленина, но я не выдаю себя за историка, и это важно.
АЮ: Это нам как раз и нужно. Вид у вас немного, конечно, уставший после этого труда, но тем не менее (зрителям) пользуйтесь: это уникальная возможность, вы можете получить ответы из практически первых рук.
ЛД: Важный момент, конечно, что Ленин слушает именно классическую музыку, это существенная вещь…
АЮ: Там есть момент, где он говорит, что слушал 12-й этюд Шопена, кстати, называемый «Революционным». Это достоверная деталь?
ЛД: Да. Эта вещь присутствовала в репертуаре Инессы Федоровны Арманд, которая, по рассказам, была прекрасной исполнительницей и предпочитала как раз Шопена и Бетховена.
Но Ленин еще любил очень Вагнера, любил русские романсы. Когда ехал в этом пресловутом пломбированном вагоне, где с ним были 32 человека, это же длилось не один день, им было скучно, и они пели все время — например, ему пели «О чем печалишься, наш атаман».
АЮ: А он подпевал?
ЛД: Есть разные отзывы о качестве его вокальных данных, но Крупской нравилось, другим в меньшей степени, кого-то раздражало. Он часто пел, да.
АЮ: Кстати, это я впервые от вас услышал, что в пломбированном вагоне он ехал в котелке, а знаменитой кепки не было вовсе. Это так?

ЛД: Ну, в принципе, можно рассказать историю Ленина через историю его манеры одеваться, историю его костюма, он интересовался этим, тот же Горький на Капри вспоминает, что Ленин листал «Историю костюма» с интересом. Ту самую кепку он приобрел в стокгольмском универмаге, но на самом деле он и раньше ходил в кепках, есть много свидетельств. С другой стороны, он носил и цилиндры в 1890-е годы — есть такие воспоминания. Но вот это вряд ли уже шведская кепка — скорее кепка рабочего Емельянова. Это удивительная фотография, кстати: тот самый Ленин в Разливе, который выдает себя за рабочего. Туда приехал фотограф в Разлив, на это озеро, и там были неподходящие условия для съемки, и их с Зиновьевым поставили на колени, потому что невозможно было снять, то ли не было треноги, то ли она не подходила по высоте, — и вот на этой фотографии он стоит на коленях. Левая фотография — такая хрестоматийная — Ленина в парике, а вот правая печаталась только один раз за все советское время в альбоме фотоискусства «Ленин», он на ней гораздо меньше похож на веселого и человечного человека, в нем скорее что-то уголовное. То есть он мог — при желании — быть разным. Его удивительная склонность к переодеваниям и конспирации сохранилась и после революции. Существуют, если уж зашла речь о кепках, воспоминания человека, приехавшего на конгресс Интернационала уже в году двадцать первом, случайно оказавшегося с ним в машине и заметившего, как Ленин странным образом из одного состояния, в котором он был в кепке, в течение одной секунды надел другую, из кармана, как артист-трансформатор. Ему, по-видимому, нравилась шпионская, конспираторская часть, аспект его политической деятельности.
АЮ: И все-таки, что мы можем сказать о его эстетических вкусах? На первом месте, безусловно, классика. По крайней мере, в музыкальном репертуаре…
ЛД: Вот извините, что я перебиваю. Представьте себе в терминах… Все вы, наверное, знаете фильм «Собачье сердце», обычно принято большевиков ассоциировать со Швондером и его окружением, но это, конечно, не так. Возможно даже, что Булгаков писал профессора Преображенского с Ленина.
АЮ: «Разруха в умах, а не в сортирах» — это ведь абсолютно ленинская фраза.
ЛД: Да, это Ленин, став руководителем государства, обнаруживает, что единственная отрасль промышленности, которая в прекрасном состоянии, это та, что выпускает таблички «лифт не работает». При этом Ленин не был снобом и социальным расистом, которым был, по-видимому, Булгаков. Это довольно существенная разница, конечно.
АЮ: А кто-то из ленинского окружения был снобом?
ЛД: Нет, я не думаю. Если вы участвовали в революционном движении, это маловероятно. Дело в том, что вся их политическая деятельность была тоже таким родом искусства, модернистского политического искусства. Они все, и Ленин прежде всего, были такими деятелями искусств. То, чем он занимался, — настоящее политическое творчество. Совсем это очевидно в первые месяцы советской власти — в официальной советской историографии это называется «триумфальным шествием советской власти», управление посредством бесконечного издания декретов. Уже потом Ленин осознал, что объявление о чем-либо не является перформативом. Во всяком случае, в первые месяцы управления страной это был взбесившийся принтер, издававший эти бесконечные декреты, которые в значительной части не выполнялись, но тем не менее Ленин считал нужным издавать их.
АЮ: Вы сказали «модернистские» — а что мы имеем под этим в виду: авангардное искусство начала ХХ века или модернистскую модель европейской цивилизации XIX века?
ЛД: Ленин был человеком, который не очень хорошо представлял, как на самом деле будет выглядеть будущее, и здесь вот его рассуждение о том, что будущее не война миров, — это приписанная ему вещь. Ленин очень редко изъяснялся такими настоящими пророчествами. Он предполагал, что будущее — это то место, где будет реализовано марксовское и энгельсовское представление о том, что государство как машина насилия будет уничтожено и люди будут заниматься самосовершенствованием и творчеством; что будущее это не то место, где Шариковы подавляют профессора Преображенского. Есть эта знаменитая история — анекдот о том, как Ленин в 1921 году пришел на какой-то митинг и обнаружил плакат, на котором было написано «царству рабочих и крестьян не будет конца»: его невероятно это разозлило, ведь революция делается не для того, чтобы обеспечить эту вечную диктатуру одного класса над другим, а чтобы не было классов вообще, чтоб уничтожить различия и чтобы не существовало машины насилия одного сословия над другим — вот таким представляется Ленину будущее. Ленин и искусство — это близкие темы.
АЮ: Обратимся к мнению и свидетельству другого немаловажного для нас человека — Луначарского. У него есть небольшой очерк-воспоминание «Ленин и искусство», где он пишет: «Повторяю, из своих эстетических симпатий и антипатий Владимир Ильич никогда не делал руководящих идей». То есть у него не было политического проекта пролетарского искусства, искусства будущего? И вообще не было никакой определяющей концепции в этой области?
ЛД: Все люди этого поколения, по-видимому, воспринимали искусство как триггер, который поможет изменить действительность, даже курьезным образом. К примеру, к Ленину, уже как к представителю совнаркома, приходили люди, которые просили выделить средства, для того чтобы раскрасить паровозы какой-то особой динамической раскраской, якобы позволяющей им двигаться быстрее, — он смеялся очень над этим. То есть людям казалось, что изобразительное искусство способно воздействовать на физику. Или был такой в 1904 году, еще в царские времена, революционер Доливо-Добровольский, который ходил и убеждал всех, что оркестры должны играть революционные марши перед театральными представлениями и киносеансами, и именно это вызовет революцию.
АЮ: Очень близко к богдановской идее, и про него мы еще скажем обязательно, про Сан Саныча Богданова.
ЛД: Да, даже на самом деле тот же Троцкий — такой человек ироничный, остроумный. Они, собственно, все умели язвить. Даже он в ноябре 1917 года, перед тем как послать грузовики с вооруженной Красной гвардией, он послал оркестр играть перед зданием Госбанка. Дело в том, что на протяжении нескольких недель никаких денег большевистскому правительству не давали, и они пытались разными способами выцепить их. И первое, что сделали, — послали не вооруженных матросов, а оркестр, который целый день играл перед зданием, что, впрочем, произвело обратный эффект, потому что даже мелкие служащие Госбанка, которые в принципе могли перейти на сторону большевиков, из-за такого странного подхода отказывались сотрудничать с новой властью.
АЮ: И тут мы, соответственно, попадаем прямо в булгаковский роман «Мастер и Маргарита»… В общем, никакого проекта по отношению к искусству у Ленина не было. Кстати, тот же самый Луначарский, которому мы скорее склонны доверять, пишет: «Новые художественные и литературные формации, образовавшиеся во время революции, проходили большей частью мимо внимания Владимира Ильича… „Сто пятьдесят миллионов” Маяковского Владимиру Ильичу определенно не понравились. Он нашел эту книгу вычурной и штукарской».
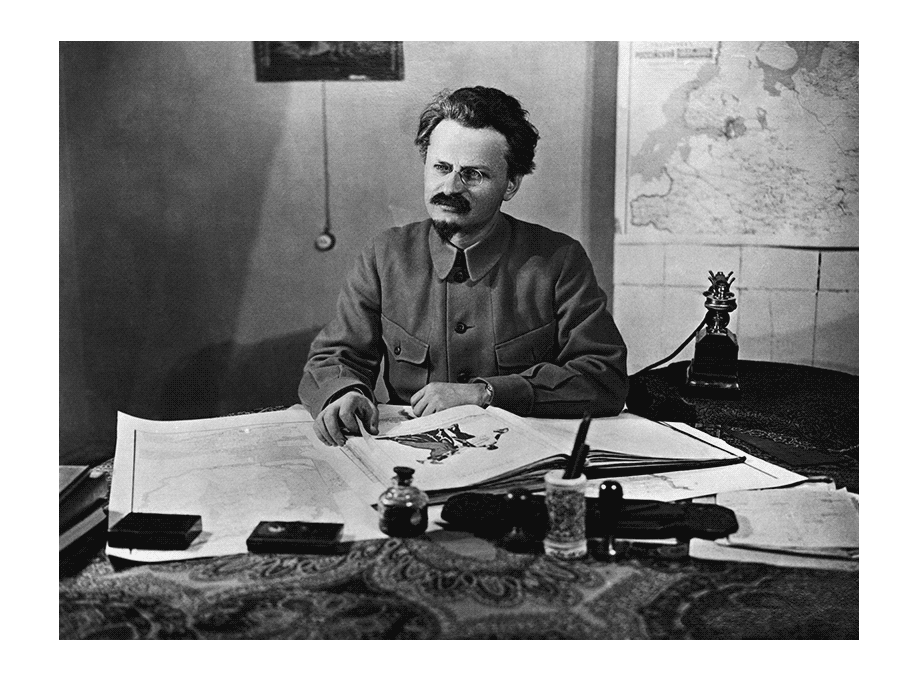
Лев Троцкий
ЛД: По-разному. Луначарский санкционировал такие странные перформансы. Однажды Ленин гулял вокруг Кремля (когда уже переехал в Москву) и обнаружил, что стволы деревьев Александровского сада покрашены в малиновый цвет. Это Луначарский санкционировал акцию молодых художников. Ленин, конечно же, пришел в ужас и потребовал вернуть деревьям их естественный цвет. В принципе, он понимал важность сигналов о том, что мир изменился, — с революцией начинается абсолютно новая эпоха. И в этом смысле введение метрической системы… Он понимал, зачем французской революции придуман новый календарь: нужно было показать обывателю, что мир стал другим окончательно. Разработанный с участием Ленина план монументальной пропаганды, когда столичные города уставлены памятниками и статуями великих людей, — это тоже удивительная история. Но, по-видимому, все-таки были какие-то пределы…
АЮ: С футуризмом у него было как-то особенно напряженно. По свидетельству Луначарского, когда вместо грандиозного монумента Александру III напротив Храма Христа Спасителя поставили какую-то очень странную вещь, спросили Ленина — и он сказал: «Я тут ничего не понимаю, спросите Луначарского». И вот такое резюме этой истории от самого Луначарского: «На мое заявление, что я не вижу ни одного достойного памятника, он очень обрадовался и сказал мне: „А я думал, что вы поставите какое-нибудь футуристическое чучело”».
ЛД: Ленину как частному человеку, вероятно, не нравился сам тип этого искусства — чересчур авангардные, радикальные, формальные эксперименты.
АЮ: Беспредметное искусство. В этом он был такой олдскульный парень.
ЛД: Да, этому тоже есть объяснение — наверное, мы успеем про это поговорить. Его по-настоящему раздражало, что футуристы узурпировали место пролетарской культуры, на том основании, будто бы существует особая пролетарская культура победившего класса, класса гегемона, культура, которая сгенерирована этим новым классом и якобы совпадает с культурой футуристов. Видимо, это бесило по-настоящему: когда футуристы пытались выдать свое творчество за какой-то культурный продукт победившего класса.
При этом Ленина раздражал Маяковский — но до известных пределов. Например, когда он прочел «Прозаседавшиеся», ему понравилось, при всем том, что это Маяковский, ритмически узнаваемый.
АЮ: «Административно давно не получал такого удовольствия» — там про художество нет и речи.
ЛД: Да. Это актуальное… Тот текст, что напечатали, кстати, в «Известиях», что ровно такая поэзия нужна в новых газетах.
АЮ: То есть это агитация?
ЛД: Ну агитация — это все-таки то, что способствует непосредственному возбуждению толпы. Но да, это скорее пропагандистский материал, сатира.
АЮ: Пролетарское это искусство… неслучайно же было сказано. А что это за концепция такая? Чем она обосновывалась, кто был ее архитектором? Какие, собственно, были отношения у этого человека, выступившего с концептом пролетарской культуры, и Лениным? И почему за это, кстати, попало Луначарскому?
ЛД: С пролетариатом как классом были довольно сложные отношения, не такие простые, как их описывают в перестроечной публицистике, когда Ленина называют вождем мирового пролетариата. Во-первых, Ленин — автор книги «Что делать?», где черным по белому написано, что пролетариат самостоятельно не в состоянии выработать политическое сознание, и для этого нужен авангард, революционная интеллигенция, та часть общества, которая в состоянии перевести требования из экономических в политические… потому что обычно пролетариат, который в рамках капитализма вступает в конфликт с хозяевами, готов свернуть протест на требованиях повысить зарплату. Требования изменить власть, преодолеть отношения слуги и господина, по Ленину, сам пролетариат не в состоянии выработать, это и есть политическое сознание. Соответственно, Ленин очень скептически относился не к возможности пролетариата выработать собственную культуру, а к заявлениям, будто она уже выработана. Многие коллеги Ленина полагали, что у пролетариата есть готовая культура, Ленин же доказал, что сначала нужно освоить традиционную буржуазную культуру, а потом уже в ее недрах созреет и пролетарская культура, поспешишь — людей насмешишь. Так же как марксистское учение созрело внутри буржуазной парадигмы. Потому что, по Богданову, который был великим большевиком и коллегой Ленина по партии, пока последний его оттуда не выгнал…
АЮ: Это вот как раз они, да? Ленин и Богданов?
ЛД: Да, играют в шахматы. Ленин проигрывает, кстати.
АЮ: А это видно.
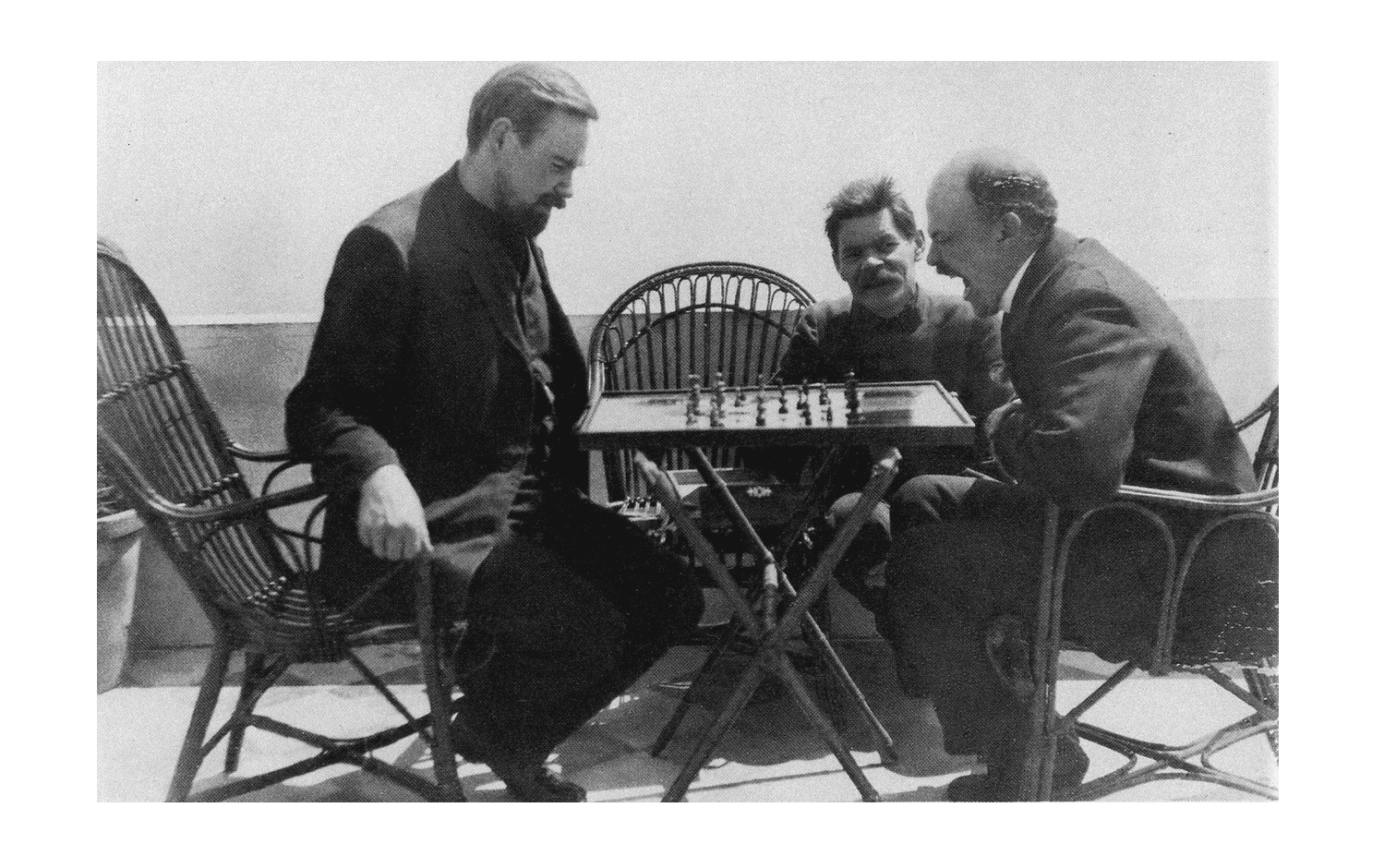
Владимир Ленин в гостях у Максима Горького на Капри играет в шахматы с Александром Богдановым, 1908 год
ЛД: Богданов полагал, что революция 1917 года оказалась некоторым образом преждевременной, потому что пролетариат недостаточно созрел в рамках капитализма. Ответом Ленина было соображение о том, что ровно в тот момент, когда пролетариат совершает революцию, когда он экспроприирует экспроприаторов, он совершает колоссальный скачок; и с этого момента, осознав собственные силы, пролетарий может свободно построить собственную культуру, потому что, если он будет вечно ждать, пока созреет, это не больше, чем дурная бесконечность. Проблема дурной бесконечности в том, что вы никогда не можете достигнуть своей цели: вы живете при капитализме и думаете, что хорошо бы перейти в другое состояние, но ничего так и не происходит.
АЮ: Качественный скачок — когда он переходит на другой уровень. А вот из самого Богданова, статья «Возможно ли пролетарское искусство?»: «Искусство — одна из идеологий класса, элемент его классового сознания; следовательно, — организационная форма классовой жизни, способ объединения и сплочения классовых сил. Таким оно было и раньше, но не так оно понималось». А дальше он утверждает, что существует особое пролетарское искусство, и приводит интересный пример — стихотворение некоего Самобытника «Новому товарищу». Не знаю, кто такой Самобытник…
ЛД: Это отдельно пролеткульт…
АЮ: Цитирую:
Словно каменный колосс,
Стань у бешеных ремней…
Пусть сильнее шум колес,
В цепь еще звено вплелось…
Рать сомкнулася плотней —
Не робей!
Что говорит нам далее Богданов? «Свершилось! Новый член вступил в многомиллионное братство; словом поэта он посвящен в рыцари мир преобразующей Идеи…». Дальше он задается вопросом, существует ли пролетарское искусство, и отвечает: «Итак, пролетарское искусство возможно? Нет, оно не только возможно. Оно необходимо, и — оно существует. Вот я привел маленькое стихотворение рабочего поэта. Найдите мне в старой мировой литературе его художественную идею, мотив, его проникающий. Уверяю вас — не найдете. Этот мотив и есть товарищество, он пролетарски-классовый, он незнаком старой культуре». Вот, в принципе, этот качественный скачок на примере одного стихотворения. Богданов видел в этом эстетическую революцию.
ЛД: Я, конечно, не собираюсь расписываться за Ленина; понятно, что нигде не описано то, как он прочел это стихотворение, но, мне кажется, он воспринял бы это как мешанину их плохо переваренного Блока, какого-то символизма, псевдофольклора…
АЮ: Что-то гражданственное, Некрасов-лайт…
ЛД: Этот вихрь, пляска, нечто декадентское, символистское.
АЮ: Да, и декадентское что-то есть… То есть Владимира Ильича это не впечатлило бы, как впечатлило Богданова?
ЛД: Еще раз говорю, что мы не можем реконструировать… Это было бы шарлатанством с моей стороны — выдавать свои соображения за ленинские, я не люблю все эти трансляции из головы. Но, вообще, да, он говорил о том, что сначала нужно освоить буржуазную культуру, не по верхам услышав что-то. С другой стороны, у Ленина были прекрасные отношения с прекрасным поэтом Демьяном Бедным.
АЮ: Что это за удивительные отношения?
ЛД: Они действительно удивительные, потому что они познакомились с ним заочно в 1912 году, Демьян пришел работать в «Правду», Ленин вступил с ним в переписку, когда уехал в Польшу, и воспринимал его… вообще, у Ленина были сложные отношения с газетой в начале, редакция почти бунтовала, задерживала ему зарплату. Он не очень понимал, что происходит в Петербурге, и поэтому ему нужен был свой человек, который бы докладывал ему, что происходит. Поэтому он вступил в переписку с подвизавшимся там в разделе культуры Демьяном Бедным, который рассказывал ему об обстановке в редакции и среди прочего выражался пассажами личного характера в духе «пришлите мне свой патрет, лысый ли вы, как и я», — он рассказывал Ленину, какими средствами от облысения пользуется, и Ленин был вынужден, не знаю с удовольствием или нет, читать такие вот странные смешные письма. При этом, несмотря на естественное отторжение от такого рода поэзии, он никогда не был любителем поэзии Демьяна Бедного, но уважал ее агитационную силу. Искусство Демьяна Бедного на тот момент резонировало с энергетикой революции и Гражданской войны. Его посылали на фронт, он в 1919–1920-х годах был популярен — примерно как сегодня группа «Ленинград».
АЮ: Да?
ЛД: Да, вот так выглядели выступления Демьяна Бедного. Он прекрасно исполнял свою политическую функцию — настраивать массы на революционную борьбу.
АЮ: Будем следить за творческой эволюцией Шнура в этой связи. Давайте вернемся к Луначарскому. Ведь культурная политика раннего большевизма — это все-таки Луначарский. Какие у него были воззрения?
ЛД: Он был как раз таким классическим интеллигентом, который встал на точку зрения пролетариата. И более того он, может быть, потому что сталкивался… Ленин много лет работал в пролетарской среде в 1890-е годы и знал, как выглядит пролетариат, не по книжкам.
АЮ: Чем была для Луначарского эта его «пролетарская точка»?
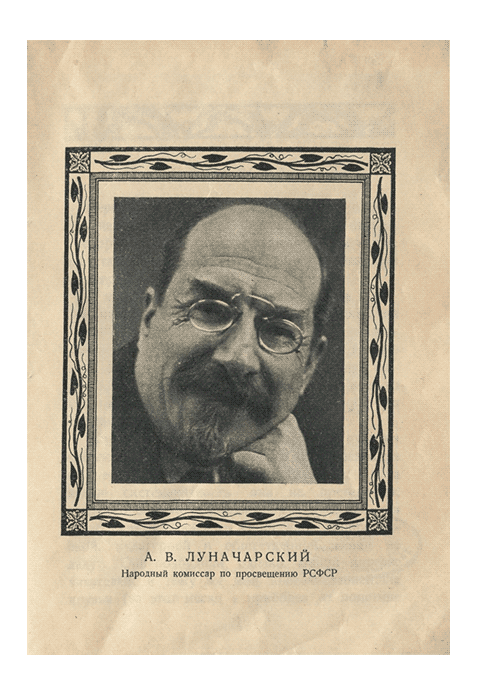
ЛД: Ну это не то, как вот сейчас говорят: «народ устал от Путина» или «народ, который желает свергнуть самодержавие», — как интеллигенция обычно разговаривает о своем народе…
АЮ: Как взрослые с детьми?
ЛД: Нет. Для Ленина, и вообще марксиста образованного, никакого абстрактного «народа» на самом деле не существует. Общество, у которого есть какие-то свои объективные классовые интересы, даже крестьянство, на самом деле было показано в знаменитом цикле «О Толстом»… Теоретически крестьянство должно состоять… Объективные условия российского капитализма состоят в том, что они пугают крестьянина, потому что так называемое крестьянство — это совершенно разные группы людей. Когда в русскую деревню уже пришел капитализм, есть кулаки, которые вполне функционируют внутри капиталистической модели, и есть бедняки, которые уже стали жертвами этой капиталистической машины. Так получается, что даже крестьянство оказывается разным, и какая-то значительная часть его оказывается на революционной точке зрения. И, собственно, это не какие-то измышления экономиста, которые описаны Лениным в «Развитии капитализма в России». Особенно события 1906 года подтверждают этот теоретический анализ, потому что крестьянская война становится, по сути, продолжением пролетарской революции. Это означает, что вы таки можете делать революцию в еле-еле капиталистической России, где очень мало рабочих.
АЮ: Почему?
ЛД: Потому что она поддерживается крестьянской войной. Потому что крестьянство объективно вынуждено стать революционным классом и встать на сторону пролетариата. Попробуем вернуться к Луначарскому…
АЮ: Но сначала я приведу пример из Ленина. Вот статья «Толстой и его эпоха», где он ссылается, конечно, на «Анну Каренину», конкретно на Левина, и приводит такой пассаж последнего: «Разговоры об урожае, найме рабочих и т. п., которые, Левин знал, принято считать чем-то очень низким, … теперь для Левина казались одни важными. „Это, может быть, неважно было при крепостном праве, или неважно в Англии. В обоих случаях самые условия определены; но у нас теперь, когда все это переворотилось и только укладывается, вопрос о том, как уложатся эти условия, есть единственный важный вопрос в России”, — думал Левин». И дальше продолжает уже Ленин: «„У нас теперь все это переворотилось и только укладывается”, — трудно себе представить более меткую характеристику периода 1861–1905 годов». Но, «подобно народникам», Толстой «не хочет видеть, он закрывает глаза, отвертывается от мысли о том, что „укладывается” в России никакой иной, как буржуазный строй». То есть, отталкиваясь от Левина, мы получаем кого? — Ленина, и в придачу подтверждение в том, что из того, что «переворотилось и укладывается», неизбежно исходит вся дальнейшая конструкция буржуазного строя.
ЛД: Да, собственно, тот момент, когда в Россию приходит капитализм не в такой форсированной форме и стадии, как в Германии, Англии и Америке, вы попадаете в коридор исторической неизбежности. То есть капитализм достигает своей высшей стадии — империализма, — в этот момент с высочайшей степенью вероятности начинается война, момент, когда нужно делать революцию. Империализм — это как раз когда производство уже обобществлено, свободная конкуренция заменяется монополией, а богатства распределены среди небольшого количества частных лиц. Почему из империализма так легко перескочить в социальную революцию? Потому что для этого есть все условия — уже производство обобществлено, капитализм уже сам это сделал. Следовательно, это не какая-то эксцентричная идея сумасшедшего политикана-экспериментатора, который вдруг затащил страну в свой кошмарный эксперимент. Политический опыт Ленина основывается на большой теоретической подоплеке, марксистском анализе того, что происходит на самом деле. И если вы стоите на пролетарской точке зрения, то вы не просто оказываетесь против войны 1914 года, как обычные левые, а вы желаете поражения собственному правительству, потому что это поражение вызовет революцию. И жертва пролетариата, который много чего отдал в этой войне, окажется ненапрасной, потому что вы сможете превратить войну в революцию. Если вы рождаетесь крестьянином или интеллигентом — это не значит, что вы не в состоянии перейти на точку зрения другого класса. Гибкой в этом плане оказывается интеллигенция, которая в силу своей культурной компетентности в литературе, музыке, искусстве, влияющих влияют на него, способна встать на точку зрения другого — подавляемого, обиженного, угнетаемого — класса.
АЮ: Продолжаем дальше персональный разбор. Вернемся к этому классическому интеллигенту Анатолию Васильевичу, вставшему на точку зрения пролетариата. Собственно говоря, у него есть такая важная работа «Революция и искусство». Там он пишет: «Для пролетарского революционного государства, для советской власти вопрос об отношении к искусству задается так: может ли что-нибудь революция дать искусству и может ли искусство дать что-нибудь революции?» И по-своему, соответственно, отвечает. Все-таки что мы можем сказать о его личных вкусах, пристрастиях и формируемой им государственной позиции? Все это достаточно сбалансированно, или он, может быть, в чем-то задавил личные предпочтения ради какой-то большой цели, великого политического проекта?
ЛД: Ну с Луначарским, смотрите, что мне про него известно и понятно. Он как интеллигент не просто сочувствовал и не то чтобы интересовался пролетариатом, а, видимо, был чувствительнее, чем Ленин, и отсюда его так называемое богостроительство. Если очень коротко, смысл в том, что в рамках марксистского учения пролетариат воспринимается как мессия, который освободит и выведет мир из капиталистического апокалипсиса, который сначала выглядит как диккенсовский ужас — на этих фабриках, похожих на концлагеря, которые в России в 1890-е годы так и выглядели. Либо все заканчивается страшной бойней, устроенной капиталистами — Первая мировая война. С другой стороны, эта чувствительность Луначарского проявляется в известном анекдоте-истории о нем, когда он пытался отказаться от поста наркома просвещения. В Петрограде не было Гражданской войны осенью 1917-го, а в Москве была, неделю шла, с обстрелом Кремля… и якобы, когда Луначарский узнал о том, что поврежден Собор Василия Блаженного, чуть ли не наполовину разрушен Кремль, он сказал, что боится и не хочет участвовать в новом правительстве, которое относится к культуре таким образом. Но у Луначарского была и другая сторона, отличающая его от Ленина, — его склонность к экспериментам: он прислушивался к молодой радикальной части художественного сообщества — отсюда его одобрение идеи покраски стволов деревьев, отсюда его репутация. У него даже была кличка Лунапаркский.

Максим Горький
Вообще, еще раз говорю, что не надо проводить существенную грань между Лениным, Луначарским, Троцким, Богдановым. Первые месяцы советской власти — это когда вы видите, что получилось, что вы захватили власть в одном-двух городах, а через пару недель обнаруживаете, что советская власть уже дошла до Владивостока, и это дает вам политический адреналин, вы позволяете себе больше, чем это диктуют рациональные соображения. В этом смысле Ленин специально обращался к марксистским талмудистам, чтобы ему нашли цитату из Маркса (которую он смутно помнил) о том, что каждая революция должна пойти чуть дальше, чем может совершить. И это тоже жест художника-новатора, для которого революция не просто разрушение старого государства и строительство нового, но и политический эксперимент. Опять же, происходили удивительные вещи, связанные с просвещением. По крайней мере, не с подачи Луначарского. Был момент, когда предполагалось, что малолетние дети должны приучаться к труду с самого начала. Появлялись детские сады, где трехлетние дети сами себе должны были готовить еду, выносить за собой мусор и так далее. Этот эксперимент быстро был свернут, они попробовали — не получилось, ну значит надо идти дальше. Но это не значит, что к власти пришли маньяки, жаждущие безудержного экспериментаторства: просто была такая эпоха, в которой буржуазные и умеренные типы полагали, что вот сейчас нужно зайти дальше чем обычно. И Луначарский как раз такой человек, как и Ленин, при этом ему было любопытно зайти дальше.
АЮ: У нас еще есть Троцкий. Что мы о нем можем сказать? У него все-таки есть установочные работы, посвященные нашей теме, «искусство и революция». Например, книга «Литература и революция» 1923 года или письмо в редакцию «Партизан Ревю» уже эмигрантского периода. Но для ранних послереволюционных годов эта фигура, конечно, чрезвычайно значительная.
ЛД: Троцкий из всей этой компании был талантливее, радикальнее в литературном смысле вообще, чем все остальные.
АЮ: Как журналист?
ЛД: Как писатель, как оратор.
АЮ: Писатель в чистом виде?
ЛД: Послушайте, ну это странные конструкции.
АЮ: А его претензии? Он ведь писал нечто художественное.
ЛД: Вообще РСДРП как таковая была партией литераторов, Богданов писал романы — «Красная звезда». Даже люди, условно говоря, второго плана в смысле литературных талантов — как Крупская, как Сталин, как Лепешинский — хорошие писатели. Средний уровень партии как партии литераторов был крайне высок. Троцкий радикально отличался и от этого среднего уровня. Марксистская эстетика восходит к плехановской эстетике, где искусство рассматривается как продукт определенной общественной формации. Рыцарский роман как продукт феодального общества, роман «Робинзон Крузо» как продукт зарождающейся буржуазии и так далее. Собственно, любопытны его попытки и эксперименты в сфере нового быта, выстраивания нового человека. Его ведь по-разному можно выстраивать: можно так, как Троцкий, — через класс; а можно, как в фашистской традиции, — через отсылки к корням, почве, расе.
АЮ: Ну это специфика германского национал-социализма, а у итальянского фашизма были другие предпочтения, если брать Дуче и компанию. В фашистской Италии как раз развивался свой футуристический эксперимент как своего рода культурно-политический инструмент.
ЛД: Выстраивать нового человека как бы с нуля. Эта марксистская доктрина пролетария как человека, отчужденного от всего, от семьи, от корней — голый человек на голой земле, переживший этот кошмар капитализма, должен выстраивать действительность вокруг себя, свое будущее с абсолютного нуля. Ленин, кстати, не разделял этот взгляд, он был за освоение опыта буржуазной культуры. Любопытно, как Троцкий уже в 1920-е годы рассуждал о роли кинематографа, роли нового языка, литературы — о том, до чего у Ленина не доходили руки… Его занимало… Если раньше сознание и быт, традиции ритуалов сохранялись, то что теперь советская власть готова предложить новому рабочему? Он придумал новую обрядность, новое развлечение, в рамках которого советский человек может выработать эту новую культуру.
АЮ: Приведу цитату из позднего интервью Троцкого, где-то 1939 года. Это то самое письмо в редакцию «Партизан Ревю», названное «Искусство и революция». В нем он говорит о том, что «нынешний закат буржуазного общества означает невыносимое обострение социальных противоречий, которые неминуемо превращаются в личные противоречия, порождая тем более жгучую потребность в освобождающем искусстве… Оттого новые течения принимают все более конвульсивный характер, мечась между надеждой и отчаянием. Художественные школы последних десятилетий, — кубизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм — сменяют друг друга, не достигая полного развития. Искусство, которое является наиболее сложным, чувствительным и одновременно наименее защищенным элементом культуры, больше всего страдает от распада и гниения буржуазного общества.
Найти выход из тупика средствами самого искусства невозможно». Вот такая характерная иллюстрация.
ЛД: В принципе, не существует такого абсолютного антагонизма по поводу этой культуры победивших большевиков и, например, декадентской культуры. Потому что для марксистов последняя тоже естественный продукт, когда ваш класс-гегемон находится на подъеме, ваша культура светла и прогрессивна. В тот момент, когда объективно выдвигает на авансцену истории другой класс, между художником и действительностью, его классом, возникает объективное противоречие, он должен выплеснуть его вот в таком декадентском увядающем как бы творчестве. Поэтому декадентское искусство не является для марксиста дегенеративным.
АЮ: Давайте подойдем плотнее к Алексею Максимовичу. Раз мы находимся в Нижнем, то разговор о нем необходим и неизбежен.
ЛД: Я так понимаю, что Горький часто акцентировал момент, что он не политик и в политике он понимает плохо, — на самом деле он художник и больше наблюдает за мимикой, жестами, смехом Ленина. Вообще отношения Ленина и Горького в советской традиции описываются как почти безоблачные, хотя на самом деле были разные периоды. В письмах Горькому Ленин редко фальшивит, но, если читать подряд его письма, самая фальшивая интонация возникает как раз там, где Ленин съезжает на такой благостный тон, иногда он устраивает Горькому почти фомаопискинские истерики. Это все любопытное, кстати, чтение в плане интонаций. Особенно Ленина раздражает, что Горький начинает вести свою политическую игру в тот момент, когда вместе с Богдановым устраивают школу на Капри в 1909 году; что Горький сам пытается выстроить отношения с пролетарием, не опираясь на традиционный марксизм. В 1917 году между Лениным и Горьким идет почти война, потому что Горький предполагает, что Ленин — человек подбивающий пролетариат на ту революцию, которая не вполне ему нужна. Горький, как и Луначарский, практически боготворил пролетариат, он ненавидел крестьянство, с невероятным презрением относился к нему, потому что крестьяне — это такой класс с буржуазным сознанием, а нужно поработать на фабрике, чтобы «вывариться в фабричном котле» и приобрести сознание нового человека. Для него каждый пролетарий — это ценная единица, а тут появляется Ленин, который бросает российский пролетариат в костер своих амбиций, как фокусник подманивает пролетариат ложными целями, а потом в какой-то момент уничтожит его. Дальше они практически не общаются, и только в 1918 году, после выстрела Каплан, Горький приезжает к Ленину в Кремль и у них налаживаются отношения. Горький становится заступником интеллигенции, которая ленинским режимом маргинализована и которая не вполне интересует в данный момент Ленина. Горький задним числом (его «Очерк о Ленине» в двух редакциях) показал, что Ленин и искусство не антонимы.
АЮ: Да, поразительные сцены, которые мы видели на экране, подтверждены его живым авторитетом: он это видел, он это понимал, это чувствовал, то есть это не просто риторика или часть пропаганды — это что-то личное.
ЛД: Возвращаясь к теме Ленина и буржуазного искусства: если мы сейчас выйдем на улицу и спросим, кто такой Ленин, нам ответят, — это немецкий шпион, который пожелал уничтожить всех попов, который посадил интеллигенцию на философский пароход и вышиб из России. И на самом деле часто цитируют такую фразу, как раз из письма Ленина Луначарскому: «все театры положить в гроб». Но, например, на каждую записку о том, чтобы «уничтожить как можно больше попов», есть десять или сто записок о том, что «не сметь оскорблять чувство верующих» и «пожалуйста, дайте достроить храм, начатый до революции», и «не надо превращать церковь в клуб». Или вспомнить рассказы о том, как Ленину предлагали закрыть Большой театр, потому что там по-прежнему продолжают ставиться буржуазные оперы и балет, а Ленин с присущей ему внятностью и рациональностью говорит о том, что театр нужен не только для того, чтобы класс-гегемон мог выражать свои классовые интересы, но и просто для отдыха, — и в этом смысле не нужно запрещать «Евгения Онегина»: люди, которые поработали, им нужно отдохнуть — это удивительное бытовое объяснение важности искусства, которым Ленин не стесняется пользоваться.