«Скучно жителям барака»: о поэзии Игоря Холина
Александра Володина о том, как устроено творчество выдающегося представителя Лианозовской школы
Игорь Холин — знаковая фигура советской неподцензурной поэзии, автор до примитивности ясных и обескураживающих этой ясностью произведений. В его рубленых, лапидарных стихах действуют и бездействуют пьяницы, дворники, уборщицы, марсиане, сторожа, продавщицы пивного киоска, а также управдом, бухгалтерша Рая, робот-людоед, испуганная землечерпалка и Пабло Пикассо. О творческой вселенной Холина рассказывает Александра Володина.
Стихи Холина обладают фантомной фольклорностью: легко поверить, что эти строки — анонимное народное творчество наподобие пословиц и частушек (конечно, если бы сегодня еще можно было всерьез говорить об аутентичном «народном» художественном высказывании). По сей день стихи Холина совершенно по-фольклорному передаются из уст в уста, и, как заметил Лев Рубинштейн, эти строки «кажутся написанными не на бумаге, а, допустим, на заборе. Или на плакате типа „Не проходите мимо”. Или на обшарпанной стене барачного коридора». Павел Пепперштейн писал о Холине, что «всегда воспринимал его как дзен-мастера высочайшего ранга, твердо знающего, что истинная природа Будды — это навозная куча во дворе».
* * *
На днях у Сокола
Дочь
Мать укокала
Причина скандала
Дележ вещей
Теперь это стало
В порядке вещей
О биографии Холина известно мало, а то, что известно, не всегда вызывает доверие — возможно, потому, что легендарным фигурам советского андеграунда положено обладать некой загадочностью. Игорь Холин родился в 1920 году, в годы Гражданской войны попал в детдом, затем бродяжничал, а после был принят воспитанником в армию, в училище «красных старшин» в Харькове. Он прошел всю Великую Отечественную войну, где был дважды ранен, а после войны поселился в Москве. Его первые стихи появляются в 1948 году, отчасти благодаря случаю. Отбывая двухлетний тюремный срок в Лианозово, Холин зашел за книгами в местную библиотеку (ему разрешалось иногда выходить за пределы зоны); библиотекаршей оказалась Ольга Ананьевна Потапова, жена Евгения Леонидовича Кропивницкого.
Вокруг Кропивницкого в те годы стихийно сложилось неформальное объединение поэтов и художников, позже получившее название «лианозовская школа» (она же — «барачная»). В этот кружок, помимо отца и сына Кропивницких, входили поэты и писатели Ян Сатуновский, Всеволод Некрасов, Генрих Сапгир и Игорь Холин, художники Оскар Рабин, Лидия Мастеркова, Владимир Немухин, Николай Вечтомов. Избегая любой институциональности, они не мыслили себя «школой» в традиционном смысле этого слова. По свидетельству Всеволода Некрасова, «... на показах картин бывало, что читались стихи, но „групп” никаких не было. Над „смогистами” посмеивались — не как над поэтами, а именно как над „группой”... Бывали Сатуновский и Некрасов, приезжавшие смотреть рабинские работы заметно чаще других. Бывали близкие приятели хозяина: Сапгир, Холин. И был, естественно, Е. Л. Кропивницкий: сам поэт, кроме того, что художник... А она [„лианозовская школа”] была и не группа, не манифест, а дело житейское, конкретное».
Поэзию членов «лианозовской школы» в самом деле часто относят по ведомству конкретизма, который чуть ранее зародился на Западе: конкретная поэзия подразумевает радикальные эксперименты с языком, в том числе с, казалось бы, неделимыми его элементами. Графические и фонетические эксперименты конкретизма — это диверсия против языковых структур (строк, слов, созвучий), с распадом которых должна, казалось бы, исчезнуть вся художественность и «стихотворность» стихотворения — однако, как выяснилось, порой она не исчезает, даже если искрошить текст на запятые. Стихи «лианозовцев» и правда тяготеют к подчеркнутому лаконизму, визуальности (вспомним один из «Сонетов на рубашках» Сапгира, в котором нет ни единой буквы), зауми и грубовато-«сырой» эстетике необработанного разговорного слова. Но все же кажется, что их эксперименты — и в особенности эксперименты Холина — это исследования не возможностей языка, а возможностей опыта.
Евгению Кропивницкому, который в роли учительской фигуры служил центром лианозовского притяжения, в своих стихах удавалось сочетать «сниженную» тематику и лексику повседневной барачной жизни с традиционными, «твердыми» поэтическими формами:
Молчи, чтоб не нажить беды,
Таись и бережно скрывайся;
Не рыпайся туды-сюды,
Не ерепенься и не лайся,
Верши по малости труды
И помаленьку майся, майся.
(«Секстины»)
Тот же путь избирают поначалу и Холин с Сапгиром, обращаясь, например, к сонетам и используя традиционные схемы рифмовки. В 1950-х годах Холин пишет стихи, которые потом соберет в книгу «Жители барака». Следующая книга — «Космические стихи», затем к началу 1970-х складываются сборники «Воинрид» и «Дорога Ворг». Тогда же он писал и прозу (по мнению исследователей, во многом наследуя М. Зощенко и Ф. Сологубу, но совершенно в своем, холинском духе). В прозе Холин тоже экспериментирует с формами, обращаясь то к «потоку сознания», то к сказовости, то к разговорному языку. Его роман «Кошки-мышки» и сборники рассказов сегодня менее известны и, может быть, не создают того впечатления кристальной точности, как его поэзия, но тем не менее замечательны. Все эти тексты бытовали только в самиздате, и нельзя было даже вообразить себе их публикацию. Параллельно он писал стихи для детей — единственный доступный формат, который мог обойти цензуру.
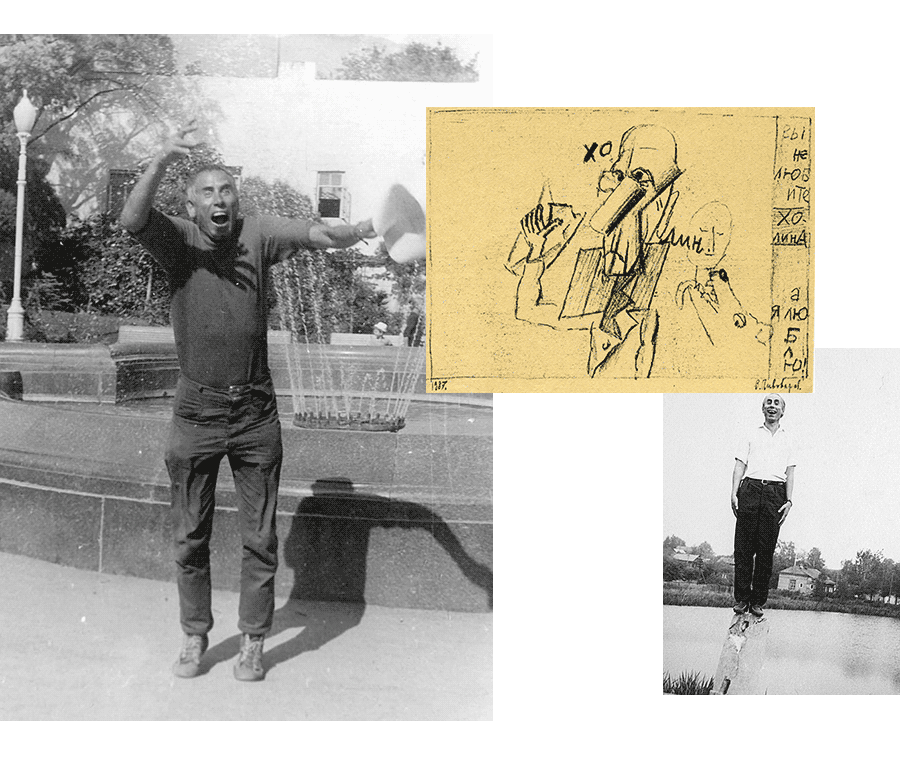
Слева направо: И. Холин. Коктебель, 1964. Фото Г. Сапгира; Игорь Холин, копия рисунка Виктора Пивоварова, 1987 год (коллекция Виктора Пивоварова); И. Холин. Долгопрудная, 1968. Фото М. Долинина
Фото: zerkalo-litart.com, bazaar.ru
Первые книги «взрослых» стихов Холина выходят на родине только в 1989. В 1990-е он возвращается к поэзии и прозе, но полноценное собрание его текстов выходит уже посмертно — в 1999 году. Стихи Холина, безусловно, нонконформистские, поскольку решительно отличаются от стилистики официальной культуры. Однако интересно, что действуя в поле неподцензурной литературы, он при этом не оказывается в оппозиции мейнстримному «советскому» и не нападает с критикой на homo soveticus. Холин, во-первых, куда менее ироничен и саркастичен, чем можно было бы ожидать, а во-вторых, его поэзия осознанно включена в общий контекст советской действительности и без нее невозможна. Рискну сказать, что и советская действительность невозможна без стихов Холина — они предлагают нам пространство, где можно испытать опыт «общего советского».
Называемые или подразумеваемые пространства распахнуты настежь для разных коллективных форм жизни (и никогда — для индивидуального, интимного переживания). Они беспощадно телесны и неприятны:
* * *
Адам
Токарь-инструментальщик
Ева
Слесарь-лекальщик
Место работы
Завод «Пеношлак»
Место жительства
Общежитье
Барак
Хуже Ада
<...>
* * *
В пивной накурено. Петров торчит у стойки.
Получка вся. Теперь конец попойке.
Домой он не спешит, предчувствуя расплату.
Ленивый летний день катит лучи к закату.
Такие «общие места» у Холина — это не только пространства коммунальной жизни, но и общие речевые практики, банальности, клише. В текстах часто используются просторечия, жаргонизмы и обсценная лексика, фразы-клише советского быта: «заполучить четвертинку водки», «Неудача / Иванов / Получил на Луне / Дачу / Лается / На чем свет», «Жмем ваш / Общественно-политический / Рычаг». Клишированные речевые формы служат не передаче некоего осмысленного сообщения, а скорее в качестве сигнала, знака-индекса, отмечающего ситуацию-ощущение «советского», вовлекая в него читателя. Усугубляет ощущение узнавания то, что среди персонажей холинских стихов мы встречаем все тех же Холина, Сапгира, Сатуновского, Кропивницкого и многих других реальных личностей, которые действуют тут на тех же правах, что и остальные:
* * *
У Холина рога
На пояснице
Вы что
Хотите в этом убедиться
Внимание
Снимаю брюки
Прочь
Руки
Суки
Субъект, возникающий и действующий в этих общих пространствах, едва ли может быть соотнесен с такими понятиями, как «лирический герой», «автор-повествователь» или «коллективный субъект». Это ясно видно в цикле стихотворений «Холин», где о «Холине» говорится то в первом, то в третьем лице, то слово «Холин» выступает просто в роли буквосочетания. Поэтический субъект оказывается динамичным — он фактически появляется заново каждый раз, когда произносится «Я», не позволяя читателю создать некий единый образ говорящего. Перед нами — не полифония, напротив, это отказ от утверждения личного голоса, который совершается не с позиции поэта-наблюдателя, взирающего на происходящее, а словно от лица самой буквы: она — часть ткани языка и потому не имеет собственного голоса как такового.
Поскольку автор текста тоже фигурирует в нем, само тело стихотворения ускользает от него, превращается в общее, неполностью подвластное автору. Так очерчивается место со-общения, совместного общения, в которое включены как члены сообщества, так и окружающая их истертая повседневная речь. Такого рода со-общение внутри текстов не передает никакого дополнительного смысла — оно лишь указывает на совместное бытование и говорение персонажей.
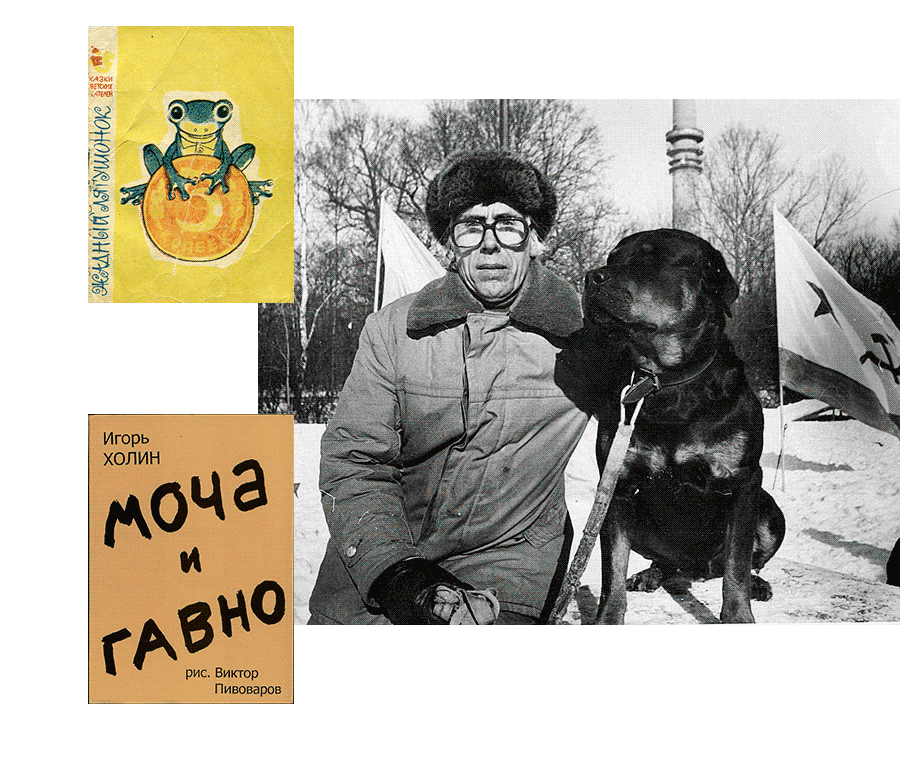
И. Холин с собакой Тунгусом. Москва, 1982; Обложка книги Игоря Холина «Жадный лягушонок», иллюстрации Сюзанны Бялковской, издательство «Детский мир», Москва, 1962 год; Обложка книги Игоря Холина «Холин. Моча и Гавно. № 13», иллюстрации Виктора Пивоварова, 2001 год
Фото: russianartarchive.net, zerkalo-litart.com, bazaar.ru
Из «советского» контекста, который является средой для любого высказывания, невозможно выйти, и поэт, существуя в этом контексте, не дистанцируется от «общего» так, чтобы оглядеть его с горних высей духа. «У меня почему-то всегда так получается: как бы я ни выкрутасничал, что бы я ни придумывал в форме, все равно в результате выходят реалистические стихи», — говорит в интервью Холин. Его стихи — о частных, конкретных ситуациях, происходящих в пространстве общего. Иногда это бытовые, компактные с точки зрения сюжета сценки, как в ранних стихотворениях (циклы «Жители барака» и «Космические»), иногда эти ситуации «вложены» в определенное общее место, расхожую фразу, которая многократно повторяется:
Чтобы бежать к морю
Необходим пропуск
Чтобы лежать у моря
Необходим пропуск
Чтобы убить пламя
Необходим пропуск
<...>
Принципиальна неполнота такого рода списков, построенных на повторах — они могут продолжаться бесконечно, потому эти стихи трудно цитировать отдельно от остального стихотворного цикла. Циклы и серии у Холина состоят из небольших, фрагментированных и порой почти неотличимых друг от друга текстов, которые, кажется, самовоспроизводятся стихийно и помимо чьей-то воли — как безликие факты. Как и во многих других стихотворениях Холина, повтор четных строк в этих двустишиях о пропуске задает ритм повтора со смещением, ритм серии, каждый следующий элемент которой не связан с предыдущим содержательно или формально. Единственное, что их объединяет, — это само действие повторения. Стихотворный цикл таким образом состоит не из отдельных стихов, а из актов производства новых элементов через повтор — что само по себе является внехудожественным действием.
Такой безысходный рефрен подчеркивает, что возможности нашей речи в поле «общего» ограничены, а выхода из этого поля нет: как для перечисляемых занятий необходим пропуск, так и для высказывания необходимо находиться в режиме общего места. Только оно дает возможность высказыванию состояться, и оно же его ограничивает. Неуникальность каждой строки, входящей в серию, позволяет увидеть ту зону неразличимости между тем же самым и иным, между одинаковым (клишированным) и индивидуальным, которая и становится местом совершенно нового ощущения, ощущения общего — не своего и не чужого.
В стихотворениях Холина мы не встречаем в полной мере личностного, интимного высказывания, высказывания об уникальном — оно невозможно, так как личное всегда оказывается вовлеченным в общее место. Этой поэзии чужд романтический подход к пространству, когда оно становится зрелищем, объектом созерцания. Здесь субъект не противопоставлен окружающему его пейзажу (как две разных «природы»), его точка зрения включена в то пространство, где находится субъект, и воспринимает мир изнутри. Эта «захваченность» может быть разной — через превращение в объект («Прежде чем вспыхнуть / Как / Световое табло / Я был / Камнем Фонтенбло»), через абсурдизацию («Если хочешь / В день сдвиганья / Упаду / К тебе в проем / Если хочешь / За страданье / Я отдам тебе / Объем»), через превращение в клише или подчинение речевой инерции («Люди / Оставьте / Меня / В покое / Я / Благонадежней / Покойника»).
Поэтическая бессмыслица и абсурдность не противоречат характеру советской общей речи, чьи знаковые единицы и системы также зачастую алогичны. Так и стихотворения часто построены на приеме сочетания несочетаемого, нарушения причинно-следственных и семантических связей:
* * *
Да здравствует Солнце
Да здравствует ветер
Да здравствует сучка
И сучкины дети
Да здравствует
Медный пятак
Да здравствует просто так
Начало текста может быть маркировано как прямое личное высказывание (чаще всего с помощью местоимений: «Я утверждаю...», «Надо мною...»), однако в следующих строках синтаксические структуры и отдельные слова распадаются, и соответственно смещается субъект речи; уже не понятно, кто говорит и каков референт высказывания:
* * *
Я итал на Ипару
Чачара
Чачара
А вы говорите
Что не было
Светлых
Минут

Виктор Пивоваров. Из цикла «Холин и Сапгир ликующие». 2005
Неологизмы, слова-морфемы, звукопись — скорее след речевой инерции, развивающейся из общих мест и банальных схем высказывания: «Анкета / Поэта / Рост / 193 сантиметра / Папиросы / Казбек / <...> Дом / Храм / Член / Хрен / Тан / Трен / Цык / Вцык / Сик / Сик». Текст, начинающийся с некоей вполне прозаической ситуации («Гражданин Ром / Пришел / В ГАЗПРОМ»), постепенно распадается, превращаясь в семантически бессвязное письмо («Пес квак / Человек пик / Рак / Шмяк»). Это речевое движение в большинстве случаев сохраняет пусть зыбкую, но все-таки легко обнаруживаемую связь со своим источником — с повседневной фразой-клише, с уличной бранью, с «канцелярским» языком и советским тяготением к аббревиатурам и сокращениям: «Дап твою рап / Рап твою дап / Тить твою дить...».
Отмечу это отличие поэтических приемов «лианозовцев» от зауми русского авангарда: если у В. Хлебникова, русских футуристов и поэтов ОБЭРИУ заумный язык противопоставляется обыденной речи, то звуки и морфемы у Холина не служат символическим способом познания проносящихся «перед сумерками нашей души мировых истин». Для Холина поэтическое творчество постоянно сохраняет свою внепоэтическую природу, зачастую находясь на грани found poetry — прямых заимствований фраз или фрагментов текста из непоэтических источников. Язык поэзии не противостоит бытовому языку и не служит средством высвобождения из тоталитарного языка советской эпохи через его отрицание. Эта поэзия рождена в рамках общего речевого поля и живет, сохраняя с ним связь; гипотеза Введенского о том, что «кругом возможно Бог» невероятна в ситуации общего места, для которой нет ничего внешнего и из которой нет выхода.
Так, раз ни откровенность «я», ни ироническая дистанция недоступны, необходима третья альтернатива — поиск возможности неуникального поэтического высказывания. Встречаясь с этими текстами «общего», мы получаем возможность встретиться с переживанием, которое одновременно и ново, и уже известно. Тексты Холина позволяют нам увидеть, каким образом возможна речь, не принадлежащая никому и в то же время (в отличие от советского официоза) принадлежащая неуловимой общности барачных страдальцев. И без нашей способности включиться в переживание «общего» стихи Холина не были бы стихами.
* * *
На асфальте валяется
Папиросная
Коробка
В небе Солнце
Улыбается
Как живое
Один пьяный
Угодил башкой
В плевательницу
Один важный человек
Всунул глаз
В замочную скважину
Лица людей
Стерты
Как каблуки
Мне смешно
Я как все
В. А. Бачинин. «Человек барачный»: поэтическая девиантография Игоря Холина // Человек, 2008, № 5.
Е. Лобков. «Страшный мир» Игоря Холина // Зеркало, 2004, № 23.
М. Маурицио. Незавершенное как законченное и окончательное в поэме Игоря Холина «Умер земной шар» // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 2: Искусствоведение. Филологические науки, 2012, № 3.
Ю. Орлицкий. Стихотворная палитра Игоря Холина // Toronto Slavic quarterly. Toronto, 2017, № 61.
В. Кулаков. О прозе Игоря Холина // НЛО, 1998, № 6.
Кулаков В. Барачная поэзия Игоря Холина как классический эпос новой литературы /
В. Кулаков. Поэзия как факт. М.: Новое литературное обозрение, 1999