«Культура Два путинской эпохи — это скорее фарс»
Беседа с культурологом Владимиром Паперным
— У вашего отца, писателя и критика Зиновия Самойловича Паперного, наверняка была большая библиотека. Расскажите о себе, совсем начинающем читателе, в ней.
— В раннем детстве меня интересовали только книжки из «Библиотечки „Крокодила”», советский юмор был моим любимым чтением. Но первое знакомство с книгами началось с голоса моего отца. Огромное количество и прозы, и стихов отец читал вслух. Потом, когда я сам начал читать, серьезные книжки меня не интересовали, а вот советский юмор, сатира — вот это было очень смешно, это я читал с удовольствием.
Библиотека родителей была огромная, занимала много стен, стеллажей. Самое интересное, что в ней было — книги 1920-х годов, которые отец покупал у Алексея Крученых. В начале 1960-х я его видел несколько раз в кафе «Артистическое» — замшелого вида старый футурист. Жил на то, что распродавал свою библиотеку.
Лет в десять у меня появилась своя маленькая комната, общая с младшей сестрой. Через нее был вход в кабинет отца. У меня там был стол и книжная полка с очень странным набором книг. Какие-то книжки попали от родителей.
К тому времени у меня уже возникла любовь к классификации. Поэтому странный набор книг, который у меня был, я первым делом расставил по алфавиту, а затем составил каталог того, что у меня есть.
Мне понравилась идея, что я могу давать книги друзьям и вести журнал — фиксировать, кому я что выдал. Очень часто друзья забывали вернуть, а я забывал свериться с журналом. Создать эту систему мне удалось, но как-то поддерживать ее уже духу не хватило.
— В книге «Зиновий Паперный. Homo Ludens» вы вспоминаете, что у вас дома было принято читать по-английски.
— Это уже в поздние годы, когда я понял, что скоро уеду. Отношения с «этой страной», Советским Союзом, были для меня уже временными. Я был внутренним эмигрантом, моя младшая сестра Таня тоже. Она училась на романо-германском отделении филфака МГУ, так что английский знала лучше меня.

Владимир Паперный в детстве
Фото: личная страница в Facebook
Она сказала однажды, что начала слушать радио BBC, и сначала ничего не понимала. Но она просто слушала радио все время, пока была дома, и через неделю обнаружила, что понимает каждое слово. Я тогда тоже начал слушать, как она, и тоже начал понимать каждое слово. И это был наш источник информации о мире. Мы не верили советскому радио, не смотрели телевидение, и книжки, действительно, я стал читать в основном по-английски. Тогда я прочел почти всего Сола Беллоу.
«Над пропастью во ржи» Сэлинджера я прочел сначала по-русски в переводе Риты Райт-Ковалевой. В следующий раз я перечитал его много лет спустя по-английски, когда уже что-то знал об Америке. И я поразился тому, до какой степени это две совершенно разные книги. Рита Райт была очень хорошей переводчицей, но никогда не была в Америке, потому что ее не пускали. Каких-то реалий она просто не поняла и перевела, как себе представляла.
А ведь книжка абсолютно нью-йоркская, и даже не про Нью-Йорк, а про Пятую авеню, где сам Сэлинджер родился. Это мир очень богатых еврейских семей. Все его мироощущение и брезгливое отношение к окружающим — оттуда. Там есть фраза: «Я не выношу людей с дешевыми чемоданами». Это представления мальчика из очень богатой семьи. Рита Райт все очень смягчила. Из-за ее деликатности Холден получился мечтательным тургеневским юношей.
— А про каких авторов того времени вы могли бы сказать, что действительно зачитывались ими?
— Если взять старшие классы школы, то вся молодежь того времени помешалась на книге Ремарка «Три товарища». В это время люди перестали разговаривать друг с другом цитатами из «Двенадцати стульев» или «Золотого теленка» и начали разговаривать цитатами из Ремарка. «Три товарища» произвели на всех оглушительное впечатление. Это был совершенно незнакомый нам мир. Мы все выросли в сталинскую эпоху, и вдруг появляется такой роман — совершенно без идеологии, очень сентиментальный. И все стали разговаривать цитатами из него.
Одна девушка мне рассказывала, что на какой-то вечеринке с ней танцевал молодой человек. Они не были знакомы. Но он вдруг сказал ей: «Я хочу, чтобы вы стали моей Пэт». Это была такая форма ухаживаний, объяснений в любви.
У Ремарка есть сцена, в которой Пэт умирает, главный герой сидит рядом с ней, и она говорит: «Твои часы так грохочут. Убери их». И дальше там фраза: «Я швырнул часы об стену». Другая знакомая вспоминала, как она сидела с молодым человеком и хотела проверить степень его любви. Он ее обнимал, и на его руке были часы. Она ему провокационно сказала: «Твои часы так грохочут». Это все происходило в Доме на набережной, а молодой человек был сыном какого-то советского вельможи, у него были очень дорогие швейцарские часы. И он швырнул их об стену. Такая вот сила искусства и любви.

Владимир Паперный наблюдает космос
Фото: личная страница в Facebook
— Еще вы вспоминаете, что в детстве дома была стенгазета, которую вели всей семьей. Что же в ней было написано?
Стенгазеты были чертой советского быта. В каждом классе, в каждой школе, в каждом учреждении была стенгазета. Такое творчество масс. Я как-то лежал в больнице, и мы там выпустили стенгазету нашей палаты.
Отец всегда писал юмористические тексты в нашу стенгазету. Брал какое-нибудь событие, которое реально произошло. Например, на даче построили крокетную площадку. И писал про это пародию на советский репортаж. Мы пытались писать в таком же юмористическом духе, но у детей это получалось хуже, а мама — литературный критик, человек серьезный, у нее получалось что-то вроде вестей с полей: «Нам удалось вскопать три грядки и посадить репу».
В наших стенгазетах не было никакого диссидентства, просто у отца было чувство юмора, с которым он не мог справиться. Когда он видел смешное, ему тут же приходила в голову острота, и он ее произносил, даже если в этой ситуации это было чревато последствиями. Он собой не управлял. Но в стенгазетах риска не было никакого. Они висели дома, о них никто не знал, поэтому можно было писать все что угодно.
Культура Два сегодня
— Потом, уже в студенчестве, произошло ваше знакомство с Тартуской школой, насколько понимаю, сильно повлиявшее...
Мы с сестрой нахватались у них модной лексики. Я тогда еще не особо глубоко вникал в это дело. А вот в моей диссертации, которая потом вышла как «Культура Два», уже было явное влияние Тартуской школы. К этому времени я уже больше знал о семиотике, читал Лотмана. Позже это мне ставили в вину: в книге много интересного, но зачем эта семиотическая терминология, которая портит хорошую работу?
— Наблюдая современную Россию, вы готовы наложить на нее кальку, найденную в «Культуре Два»? Например, если говорить о российских 90-х и переломе, который в какой-то момент случился уже в путинской России.
Раньше, когда я приезжал в Москву, ко мне бросались друзья и спрашивали: «У нас наступила Культура Два?» Я отвечал: «Ну, есть очень многие черты». И я всегда эти черты мог перечислить. Сейчас тем более.
В какой-то момент мы с женой составили таблицу. В одной графе были законы и постановления 1930-х годов, в другой — законопроекты Государственной думы 2000-х и 2010-х. На каждый закон сталинской эпохи в этой таблице есть соответствие из того, что обсуждалось Госдумой в наши дни. Закон о гомосексуализме, о порнографии, закон об иностранных агентах, закон о добровольных обществах и так далее. Все это поразительным образом перекликается.
В 1920-е архитекторы ездили в Германию. Конструктивизм и вообще русский авангард — это была одна международная тусовка. Потом, в 1930-е, начали возникать границы. И очень похожее стало происходить в 2010-е. Сейчас границы не на замке, границы открыты. Не нравится жить в стране — можешь уехать, никто никого не держит. Но, тем не менее, представление о том, что мы окружены врагами, оно совершенно из сталинской эпохи. Поэтому — да, сходство есть.
То, что я назвал Культурой Два, повторяется, но скорее по формуле Маркса: сначала как трагедия, потом как фарс. Культура Два сталинской эпохи — это трагедия. Культура Два путинской эпохи — это скорее фарс. Потому что нет массового террора, нет закрытых границ. Понятно, что есть жертвы, убили Магнитского, Немцова, но нельзя сравнить масштабы.
Одна из очень важных черт сталинского террора заключалась в том, что он был непредсказуем, не было логики. Ни один человек не мог чувствовать себя в безопасности: от маршала до дворника. Человек мог быть как угодно высоко, и завтра он мог оказаться врагом народа и признаться во всех преступлениях под страшными пытками, а потом быть расстрелянным. Это могло быть с кем угодно.
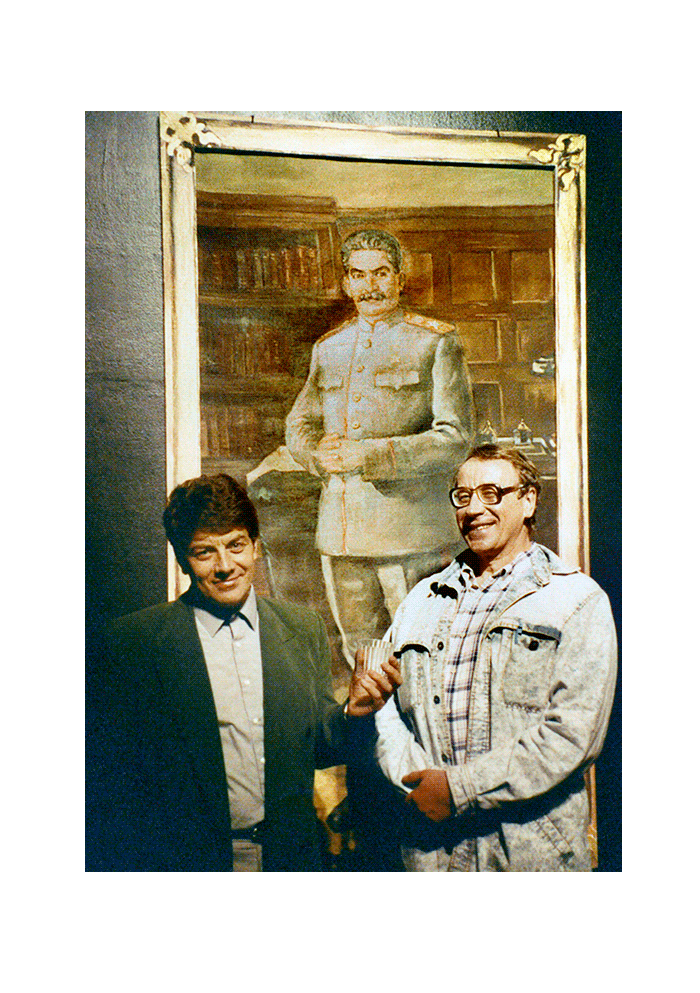
Владимир Паперный и Александр Чудаков
Фото: личная страница в Facebook
Непредсказуемый террор, естественно, гораздо страшнее, чем понятный. Гитлеровский террор не был случайным, там было абсолютно ясно, что надо сделать, чтобы быть уничтоженным. Надо было быть либо евреем (цыганом, и т. п.), либо активно бороться с Гитлером. В этом была последовательность. Среднестатистический немец, который ходил на работу и не принимал участие в политике, почти ничем не рисковал. Кроме того, что в армию заберут. Как это и случилось ближе к концу войны.
Сейчас я читаю книжку Стивена Коткина, американского историка, написавшего трехтомную биографию Сталина. Потрясающе интересная книга. Вышло пока только два тома, над третьим он еще работает. Коткин — историк не просто России, он хорошо знает европейскую и американскую историю, он историк широкого кругозора. Когда он описывает биографию Сталина, это получается на самом деле история СССР.
Второй том построен как параллельные биографии Гитлера и Сталина. И здесь открывается совершенно неожиданный для меня факт. Коткин собрал фантастическое количество документов из архивов советской, немецкой и американской разведок. У меня сложилось впечатление, что Гитлер опасался Советской армии и не очень-то решался на нее напасть. Но когда он стал получать донесения от разведки о том, что Сталин уничтожил всех компетентных командиров, он изменил свое мнение. Хотя Коткин этого не утверждает, мне кажется, что, если бы Сталин не обезглавил армию, Гитлер бы не решился напасть на Советский Союз. Как ни парадоксально, Сталин сам создал эту трагедию, которую ему потом пришлось преодолевать ценой миллионов жизней.
О духе времени
Есть загадочная вещь, которая называется Zeitgeist, «дух времени». Никто не знает, как действует этот механизм. В 1930-е Эйзенштейн и Александров работали в Америке. Технику съемки и монтажа Александров усвоил в Голливуде. «Веселые ребята» и «Волга-Волга», в общем, голливудские фильмы. Но потом эти связи прекратились. Тем не менее во время войны и там, и там появляются фильмы до такой степени похожие, что можно просто эксперимент провести: вырезать кадры из одного, вставить в другой, невозможно будет отличить. Хотя все связи и были оборваны, они все равно развивались сходным образом. Почему? Никто не знает. Zeitgeist!
О любимом архитектурном критике
Есть один автор, которого я нежно люблю. В первый раз я с ним столкнулся на страницах New York Review of Books. В 70-е, когда я жил в Москве, у меня были друзья в посольстве США, которые давали мне пачки этого журнала. Потом, после эмиграции, уже сам стал выписывать его и читаю до сих пор.
И каждый раз, когда в этом журнале появлялась интересная статья об архитектуре, у нее был один и тот же автор — Мартин Филлер. Он был главным редактором журнала House & Garden. Это такой немножко мещанский журнальчик про красивые виллы.
Я читал и думал: «Так интересно пишет об архитектуре, и при этом из такого журнала. Понять этого я не могу». Но каждая его статья меня совершенно поражала. Мартин Филлер много лет писал в New York Review of Books рецензии и обзоры архитектуры. Теперь New York Review of Books издал трехтомник его статей. Я их, разумеется, тут же купил. Три тома называются «Мастера современной архитектуры». Современная архитектура начинается у него с Салливана, Лооса, а заканчивается ныне живущими.
Филлер абсолютно не теоретик. Вместо теорий у него фантастическое чутье. Я не помню, чтобы я хоть раз не согласился с его оценкой. У него поразительно точное восприятие архитектуры, наложенное на огромные знания. Он все знает, он всюду был. Он про любую постройку может сказать: «Нечто похожее было там-то».
Это, я бы даже сказал, архитектуроведение образца XIX века, когда человек просто с поразительно точным взглядом и фантастическим вкусом описывает свою реакцию на архитектуру. Ничего интереснее я в жизни не читал. Пожалуй, на сегодняшний день это мой любимый автор, который пишет об архитектуре.
Стена Трампа
— Меня недавно позабавил неожиданный аргумент президента США Трампа в защиту его стены. Он написал в твиттере: «Во-первых, она красивая». Впервые на моей памяти президент страны, в которой прагматизм возведен в статус религии, обращается не к этике, а к эстетике.
То, что говорит Трамп, нельзя воспринимать всерьез. Когда он начинает говорить, он не знает, куда его понесет дальше. Он может говорить сегодня одно, завтра — другое, послезавтра — третье. Для Америки его избрание стало катастрофой. Абсолютно некомпетентный лживый нарцисс.
Республиканцы думали, что у него есть харизма, что он умеет говорить с простым народом, но будет делать то, что ему скажут. А он оказался абсолютно неуправляем. Ни ими, ни самим собой. Куда его несет — никто никогда не знает. Он просыпается в два часа ночи и начинает писать в твиттер, потом утром его администрация с ужасом смотрит, что он там написал, и пытается объяснять народу, что он имел в виду. Комическая ситуация.
То, что он говорит об эстетике... Сейчас ему втемяшилось в голову, что это очень красиво. Я вообще не могу всерьез анализировать его высказывания, потому что на каждое его высказывание «А» есть «анти-А», нулевой тезис. Он стреляет сразу в обе стороны. Всерьез говорить об этой стене бессмысленно, потому что стена не имеет никакого практического смысла, как все понимают. Ни практического, ни эстетического. Я думаю, он заговорил о том, как это красиво, в ответ на то, что ему указали, как это глупо.

Владимир Паперный на лекции в Западном Голливуде
Фото: Igor Lipski
Трамп нащупал слабую точку в мироощущении американцев, которые оказались не нужны, которых не взяли на «пароход современности». Есть большая группа людей, оставшихся за бортом. Они работали на конвейере или в шахте, они ничего не умеют делать, кроме той операции, которую производили всю жизнь и получали за это приличные деньги. В какой-то момент они оказались не нужны, потому что эти операции больше не нужны. Это реальная проблема. Есть огромное количество разных профессий, которые больше не нужны. Например, travel agents.
Есть огромная армия людей, которые не нужны. И они обижены на весь мир. Это его аудитория. Он стал им говорить: «Это не вы дураки, это сволочи глобалисты, демократы, которые выступают за открытые границы. Вашу работу отняли иностранцы. Компаниям это выгодно, а вас выбросили за борт».
Он для них нашел подходящего врага: виноваты не вы, виноваты те сволочи, которые это сделали с вами. Сегодня каменный уголь не нужен, вся угольная промышленность не нужна. А ведь на нее работало огромное количество шахтеров, это же были, почти как в Советском Союзе, стахановцы. И они никому не нужны. И Трамп им говорит: «Мы вернем каменный уголь. Вам врут, что он вредный. Нет никакого climate change. Они врут, и им деньги за это платят».
— Вам не кажется, что свою роль в этом сыграла и массовая культура? Голливуд давно создал образ реднека, белого мусора. Рядовой американец приходит в кино, платит деньги за билет, чтобы развлечься, и что он видит? Он видит себя глазами Голливуда. А Голливуд видит в нем белый мусор. Нет ли, повторюсь, в победе Трампа заслуги вот такого отношения культурного истеблишмента к условному электорату?
Да. Хиллари вела себя глупо во время предвыборной кампании. Она назвала сторонников Трампа deplorables, жалкие. Политик не может безнаказанно оскорблять целую группу избирателей, даже если они в меньшинстве.
— Как вообще в современном обществе возникает запрос на культ личности? Современный миф вокруг Сталина имеет хотя бы позитивную основу — победа в войне. Но ведь и в какой-нибудь Албании сейчас можно услышать, что «при Ходже был порядок». А при Ходже на самом деле вся страна просто бункеры строила.
Я однажды спросил свою маму: «Когда у тебя были самые счастливые дни в жизни?» Она ответила: «Конечно, 37-й год». Почему? «Потому что мы были молоды, мы были влюблены и учились в самом лучшем институте в стране — ИФЛИ». Но там же был террор, студентов арестовывали, преподаватели исчезали! Она говорит: «Да, все это было, но это было так страшно, что мы просто вычеркивали это из сознания».
Что читать:
- Владимир Паперный. Культура Два. М.: Новое литературное обозрение, 2016
- Зиновий Паперный: Homo ludens. Сборник воспоминаний, документов. Сост., примечания В. Паперного. М.: Новое литературное обозрение, 2019
- Stephen Kotkin. Stalin: Volume I: Paradoxes of Power, 1878–1928. Penguin Press, 2014
- Stephen Kotkin. Stalin: Volume II: Waiting for Hitler, 1929–1941. Penguin Press, 2017
- Martin Myles Filler. Makers of Modern Architecture. New York Review Books, 2007–2018