Кровь не попадает на небеса
О трагичной визионерской прозе Кафы аль-Зооби
16 сентября 1982 года на подконтрольной израильской армии территории Ливана в лагерях палестинских беженцев Сабра и Шатила произошло массовое убийство мирного населения фалангистами из христианской общины маронитов, жертвами которого по разным оценкам стали от 700 до 3 500 беженцев, в числе которых было немало женщин и детей. Это событие в ХХ веке занимает место в одном ряду с трагедиями Хатыни, Сребреницы и Руанды, а ответственность за него различные политические силы перекладывают друг на друга до сих пор. Посетивший Шатилу спустя несколько дней после катастрофы Жан Жене описал ее последствия в своем эссе «Четыре часа в Шатиле»: «У фотографии есть два измерения, как и у телевизионного экрана, но пересечь их невозможно. От одной стены улицы к другой, искривленные и изогнутые дугой, с ногами, упирающимися в одну стену, и головами, подпирающими другую, черные и раздутые тела, которые мне приходилось перешагивать, были палестинцами и ливанцами. Для меня, как и для тех, кто остался в живых из местного населения, передвижение по Сабре и Шатиле напоминало в игру в классики. Мертвый ребенок иногда блокировал улицы: они были такие узкие, почти несуществующие, а мертвых было так много. Наверное, их запах знаком старикам — меня он не беспокоил. Но было так много мух. Если я покрывал голову платком или арабской газетой, то мешал им». Этим же событиям посвящен вышедший в 2009 году роман иорданской писательницы Кафы аль-Зооби «Вернись домой, Халиль», который она сама перевела на русский язык. Аль-Зооби — достаточно известная в арабском мире писательница: в 2019 году ее роман «Холодное белое солнце» вошел в шорт-лист Международной премии в области арабской литературы. Однако, несмотря на международное признание и собственную глубокую связь с Россией, для русского читателя она остается в большей степени непрочитанной. Попробуем это исправить.
Кафа аль-Зооби родилась в 1965 году в городе Эр-Рамта, Иордания. Будучи младшим ребенком в большой семье (пять сестер и брат), в своем эссе «Мешок пшеницы» она вспоминает: «Мы жили в двухкомнатном доме из камня и сырца с матерью и отцом, которые так и не научились читать и писать. Как это было принято в арабских обществах, жители нашего города никогда не поздравляли семью, в которой родилась девочка. Вместо этого звучали слова утешения: „Все, что дает Бог, хорошо!” Никто из моих родителей не спрашивал у меня или моих сестер о нашем будущем. Единственное достойное будущее, на которое реально могла рассчитывать девушка в нашем городе, — найти мужа, который будет ее обеспечивать. Поэтому мои родители горячо и смиренно молились о самом лучшем, что только можно было себе представить, — чтобы наши мужья были благополучными, добрыми и сострадательными. Две мои старшие сестры не отклонились от устоявшихся городских обычаев и родительских мечтаний. Обе они бросили школу, чтобы выйти замуж, как только к нам в дверь постучались подходящие женихи. Но остальные четверо из нас — в первом акте бунта — решили закончить образование».
Приняв это судьбоносное решение, сестры получают стипендию для обучения в колледже и самостоятельно начинают знакомиться с миром художественной литературы и философии: «Эти книги походили на гостей из царства, далекого от мира деревни, ее палящего зноя и сонливых полуденных часов, когда царил гул мух, бывший еще одним проявлением скуки и застоя. Это царство было чуждо людям, которые с утра до вечера славили Бога за каждую постигшую их неприятность, и которые постоянно просили прощения за грехи, которые они были не в силах перестать совершать. Книги были гостями из мира, где слова были наполнены значениями, с которыми мы никогда раньше не сталкивались, мира слов, который приносил заветные надежды на справедливость, равенство и перемены к лучшему».
Примерно в 16 лет Кафе аль-Зооби, уже познакомившейся к этому моменту с произведениями сестер Бронте, Виктора Гюго и Достоевского, попадается марксистская брошюра, посвященная диалектическому и историческому материализму, которая производит на нее сильнейшее впечатление: «Перечитывая один абзац за другим, я стала понимать логику, лежащую в основе объяснения Марксом природы, истории и законов, управляющих их конфликтом и их диалектической эволюцией. Слово „диалектический” звучало странно для моих арабских ушей, и мне потребовалось очень много времени, прежде чем я смогла произнести его, а тем более понять». Впоследствии, став убежденной марксистской, она ретроспективно проанализирует собственный опыт жизни в традиционном арабском обществе:
«Я думаю о человеческой жизни как о диалектическом тексте, в котором индивид производит и составляет собственную реальность, после чего эта реальность воспроизводит и перестраивает индивида, так что вместе они чередуют роли творца и творения. Люди создают интеллектуальные, политические, социальные и экономические системы, а затем эти системы связывают собственным контекстом человеческие жизни. В нашем арабском мире эти системы сковывают людей, ограничивая диапазон и развитие их интеллектуальных воззрений, а также связывают их цепями иллюзий и страха. Они образуют текст, в котором арабский индивид обречен на неполноту, будь то по отношению к Богу, который уже предопределил их судьбу, или по отношению к племенному обществу, которое ныне превратилось в политическое и экономическое образование и которому, несмотря на его цивилизованный, приличный внешний вид, еще только предстоит отказаться от своих племенных, патриархальных концепций и образа мышления, в которых доминируют мужчины.
Это диалектическое уравнение, в котором объективная реальность и личность воссоздают друг друга, является универсальным человеческим феноменом. На это также влияют психологический склад каждого человека, инстинкты, воля к выживанию, классовая борьба, а также экзистенциальные и философские вопросы. Однако арабский опыт отмечен своей уникальной связью с религией, историко-культурным наследием и колониализмом. Учитывая этот факт, арабская женщина живет в подтексте своей незавершенности как женщина. Этот подтекст — ее тюрьма в тюрьме: ее собственная узкая камера в чуть более просторной тюрьме ее общества».
Свою склонность к марксизму Кафа аль-Зооби связывает с увлечением точными науками — физикой и математикой. Это увлечение в 9-м классе становится настолько сильным, что она решает стать физиком. Однако примерно в это же время она заводит секретную записную книжку, в которую начинает записывать первые литературные впечатления, среди которых размышления о бедных и угнетенных чередовались, например, с описанием воды, капающей с потолка в емкость, которую мать ставила рядом с кроватью, когда шел дождь: «Тогда я писала в ответ на расплывчатую, но острую потребность выразить вещи словами, запечатлеть определенные моменты и записать их на бумагу, чтобы выразить свое мнение, которое долго доходило на медленном огне и в конце концов было готово к „подаче”. Это было мнение о мире, в котором я живу, но не знаю почему — будь то „почему”, которые я позже пойму как экзистенциальное и философское, или „почему” повседневной жизни, которое вопрошает: почему я оказалась именно здесь, в этом суровом месте, где люди расценивают женщину как неполноценное существо по той простой причине, что она женщина, и тем более если она из бедной семьи?»
 Кафа аль-Зоби
Кафа аль-Зоби
И именно марксистские взгляды аль-Зооби послужили поводом для получения ею высшего образования в Советском Союзе. В отличие от сестер, у которых уже были стипендии для обучения в иорданских университетах, ее не устраивала подобная перспектива. Как она вспоминает в своем эссе, прежде всего ей хотелось из первых рук получить представление о социализме, справедливости и равенстве в действии. Это был серьезный шаг для молодой девушки, осведомленной, что учащимся в Советском Союзе иорданцам было запрещено возвращаться домой до тех пор, пока они не получили ученую степень. Для студентов, которые приехали домой до получения диплома, существовал риск оказаться в секретной полиции Иордании с последующей конфискацией паспорта, если они откажутся сотрудничать с властями. Таков был один из способов борьбы иорданской разведки с подпольными левыми организациями, работающими над установлением социализма и справедливости в стране.
Прилетев в Москву в середине 1980-х, аль-Зооби вместо реального социализма в действии сталкивается с перестройкой, которую она в своем эссе оценивает как «...гроб, в котором социализм был уже одной ногой. „Прорабы” перестройки все как один ждали, когда социалистическая система загонит в гроб вторую ногу, чтобы они могли взять его кончиками пальцев, как мешок с мусором, и немедленно выбросить: без похорон, роз и черных лент, не проронив ни слезинки». И первый этап этих перемен совпал для нее с окончанием первого года изучения языка в Москве, когда «внезапно исчез блеск мечтаний, а идея стать физиком стала настолько нереальной, что казалась просто смехотворной». Тогда же стало очевидно, что в Иордании нет физических лабораторий, а вместо этого нарастает религиозный энтузиазм и открываются центры запоминания Корана: «Еще не пришло время отбросить в глубины забвения мир, который я покинула всего год назад. Теперь, когда туман иллюзий рассеялся, я ясно видела, что ждет меня в будущем, если я продолжу свою учебу: я вернусь в Иордан и буду, в лучшем случае, работать учительницей физики. Мне все еще были слышны отголоски пятничных проповедей, доносившиеся не очень отдаленно и не очень давно. Они гремели злобными, враждебными голосами, что однажды взяли страну штурмом, а теперь приказывали людям подняться в поддержку „наших братьев-моджахедов” в Афганистане в их священной войне в защиту Бога. А Израиль тем временем штурмовал Бейрут и совершал там кровавые преступления, не говоря уже о массовых убийствах, происходящих в оккупированной Палестине».
После первого года обучения Кафа аль-Зооби меняет учебный профиль с исследовательского на инженерный и, несмотря на начальный уровень владения языком, начинает знакомиться с русской литературой, читая ее в оригинале. Первой русской книгой для нее становится «Прощание с Матерой» Валентина Распутина. Это история об умирающей матери, которая сопротивляется смерти, надеясь дождаться возвращения одного из ее сыновей. По несчастливому стечению обстоятельств в это же время умирает мать аль-Зооби, которую в спешке хоронят под безымянным надгробием, поэтому, вернувшись в Иорданию, она не сможет отыскать даже ее могилу: «моя мать жила безымянной жизнью в доме из сырцового кирпича, а теперь она безымянна в своей грязной могиле». Однако сама аль-Зооби узнает о смерти матери много позже, поскольку родственники не решились сразу сообщить ей об этом, чтобы не прерывать процесс получения образования. Тема памяти и забвения впоследствии неоднократно будет рассмотрена в ее творчестве.
 Так или иначе, книга Распутина открыла для аль-Зооби двери в мир русской литературы. Она читает Пушкина, Гоголя, Чехова, Некрасова, Тургенева и многих других. За ними последовал Достоевский: «могущественный философ, стремящийся спасти Россию и раскрыть душу ее измученных людей. Достоевский чудесно углубился не только в анализ психологии отдельных персонажей, но и социальной системы в целом». А затем русская литература ХХ века: Айтматов, Цветаева, Ахматова, Есенин, Маяковский, Горький, затем Михаил Булгаков и Солженицын.
Так или иначе, книга Распутина открыла для аль-Зооби двери в мир русской литературы. Она читает Пушкина, Гоголя, Чехова, Некрасова, Тургенева и многих других. За ними последовал Достоевский: «могущественный философ, стремящийся спасти Россию и раскрыть душу ее измученных людей. Достоевский чудесно углубился не только в анализ психологии отдельных персонажей, но и социальной системы в целом». А затем русская литература ХХ века: Айтматов, Цветаева, Ахматова, Есенин, Маяковский, Горький, затем Михаил Булгаков и Солженицын.
Находясь во время распада Советского Союза в Ленинграде, будущая писательница вместе с мужем принимает решение поселиться в этом городе на постоянной основе. Говоря об этом периоде своей жизни, она подчеркивает особую роль, которую для нее тогда сыграла русская литература: «Я ежедневно общалась с русскими, слушала местные новости и читала газеты, но думаю, что именно литература больше всего помогла мне понять русских людей и их жизненный опыт. Меня всегда поражал комплексный подход русской литературы к жизни, когда авторы рассматривают людей не как изолированные сущности, а как продукт слияния всех компонентов их общества: политического, экономического, культурного и социального. Русская литература — и особенно произведения Достоевского — всегда занималась деконструкцией этой реальности. Именно подобного рода озабоченность побудила Достоевского обратиться к политическим вопросам, что лучше всего продемонстрировано в двух его великолепных романах „Братья Карамазовы” и „Бесы”, которые, как и произведения Андрея Белого, Булгакова и других, предсказывают грядущие события и заранее их критикуют».
Когда Кафа аль-Зооби говорит о том, что побудило ее саму заняться литературой, она цитирует Милана Кундеру: «„История искусства — это месть человека безличности истории человечества”. Искусство в этом смысле противостоит абстрактности философии. Это невидимое „я”. Это значение неизвестного в математике. Это физика общества. Это геометрическая структура. Это и определенные существительные, и отмеченные могилы». Но также она признается, что не совсем понимала это, когда в возрасте 30 лет, купив блокнот, стала записывать свои мысли, которые неожиданно полились непрерывным потоком, как пшеница из порванного мешка, который хранился в углу одной из двух комнат ее дома (этот образ послужил названием упомянутому эссе «Мешок пшеницы», посвященному становлению аль-Зооби писательницей):
«Все, что я хотела, — запастись горстью этой пшеницы и перекусить, пока буду учить уроки. Но пшеница хлынула из дыры так быстро и яростно, что я не могла остановить ее, пока мама не пришла на помощь.
Мои мать и отец, две наши комнаты из сырцового кирпича, книжные полки, покрытые клейкой бумагой с древесным узором, шкаф с отсутствующими дверцами, холод, ветер, дырявый потолок, вечера, когда машины мчались по ближайшему международному шоссе, соединяющему Иорданию и Сирию, разжигая застойный воздух в деревне и пробуждая во мне смутную, только зарождающуюся тоску по далекому миру, где царили справедливость и равенство, — все это начало выливаться из меня, образуя на бумаге огромный океан боли, без малейшего представления, когда поток прекратится».
Так был написан первый роман аль-Зооби, получивший название «Грязный потолок» (на русском не издавался), за которым сразу последовал второй — «Лейла, снег и Людмила», в котором затрагивается тема перестройки, распада Советского Союза, а также политических, социальных и культурных преобразований, последовавших вслед за ним; кроме того, в нем поднимаются вопрос взаимотношений арабской и русской идентичностей. «Лейла, снег и Людмила» был издан на русском языке в издательстве «Ad Marginem» в 2010 году. Нас же интересует третий роман писательницы — «Вернись домой, Халиль», с которого мы начали наше повествование, поэтому именно его мы и рассмотрим.
 В романе «Вернись домой, Халиль» рассказывается история трех поколений палестинских беженцев в период с 1948 (то есть «накбы» (араб. «катастрофа») — начала израильской оккупации и изгнания палестинцев с их земель) до примерно 2000 года, в котором происходит «настоящее» романа. Главный герой — молодой человек по имени Халиль, переживший резню в Сабре и Шатиле 16 сентября 1982 года, в которой погибла вся его семья. У него остались письма бабушки, живущей в одном из палестинских лагерей в окрестностях Иерусалима, с которой его родителей разлучили во время событий 1948 года (конкретнее — резни в Дейр-Ясине 9 апреля 1948 года) и к которой он, повзрослев, отправляется, будучи не в силах больше выносить груз собственной памяти и ряд навязчивых экзистенциальных вопросов. Бабушка, получив письмо от внука, тоже начинает целиком жить их грядущей встречей. Такова нехитрая завязка романа, в которой внимательный читатель без труда опознает фабулу распутинского «Прощания с Матерой». Однако в формальном отношении у романа с его нелинейной повествовательной структурой гораздо больше общего с «Шумом и яростью» Уильяма Фолкнера, чем с книгой Распутина, а его этическую и художественную суть можно резюмировать словами того же Фолкнера из его позднего произведения «Реквием по монахине»: «Прошлое не может быть мертво. Это вообще не прошлое». Постараемся развернуть это сопоставление более подробно.
В романе «Вернись домой, Халиль» рассказывается история трех поколений палестинских беженцев в период с 1948 (то есть «накбы» (араб. «катастрофа») — начала израильской оккупации и изгнания палестинцев с их земель) до примерно 2000 года, в котором происходит «настоящее» романа. Главный герой — молодой человек по имени Халиль, переживший резню в Сабре и Шатиле 16 сентября 1982 года, в которой погибла вся его семья. У него остались письма бабушки, живущей в одном из палестинских лагерей в окрестностях Иерусалима, с которой его родителей разлучили во время событий 1948 года (конкретнее — резни в Дейр-Ясине 9 апреля 1948 года) и к которой он, повзрослев, отправляется, будучи не в силах больше выносить груз собственной памяти и ряд навязчивых экзистенциальных вопросов. Бабушка, получив письмо от внука, тоже начинает целиком жить их грядущей встречей. Такова нехитрая завязка романа, в которой внимательный читатель без труда опознает фабулу распутинского «Прощания с Матерой». Однако в формальном отношении у романа с его нелинейной повествовательной структурой гораздо больше общего с «Шумом и яростью» Уильяма Фолкнера, чем с книгой Распутина, а его этическую и художественную суть можно резюмировать словами того же Фолкнера из его позднего произведения «Реквием по монахине»: «Прошлое не может быть мертво. Это вообще не прошлое». Постараемся развернуть это сопоставление более подробно.
Итак, напомним, что в написанном в 1929 году романе «Шум и ярость» Фолкнер развивает заявленную в «Сарторисе» тему обреченности патриархальной традиции фермерского юга и тотальной деградации его общественных отношений, что связано с чудовищным преступлением прошлого — допущением на этих землях рабства, в результате чего обречены все без исключения сформированные этой традицией люди — как представители старого плантаторского рода, так и фермеры-бедняки. А поскольку намеченные Фолкнером в начале прошлого века проблемы не разрешились до сих пор, не слишком большим преувеличением будет перенести ответственность за чудовищную ошибку насильственного переселения коренных народов Африки на западную цивилизацию в целом. И ровну ту же ошибку она совершила, допустив насильственное переселение пяти миллионов палестинцев. Эта проблематика определяет выбранную Фолкнером и аль-Зооби художественную форму нелинейного многопланового повествования, поскольку история народа может быть рассказана только коллективно, а в индивидуальном опыте могут проявляться лишь ее отдельные аспекты. У аль-Зооби, как и у Фолкнера, в романе присутствуют три уже отмеченных временных плана (Дейр-Ясин (1948), Сабра и Шатила (1982) и расплывчатое настоящее романа), события из которых нелинейно соотносятся друг с другом. Также стоит отметить, что сознание молодого Халиля в своей склонности к абстракциям, визионерским образам и постановке экзистенциальных вопросов, до некоторой степени напоминает сознание молодого Квентина Компсона. На этом, пожалуй, сходство книг заканчивается и тем интересней выделить особенности романа аль-Зооби.
 И первое, что здесь бросается в глаза, это подчеркнутая нереалистичность происходящего. В романе присутствует как бы два плана: план реальный, в котором происходит куцое описание событий, будь то досмотр на израильском блокпосте или демонстрация палестинцев, и план визионерский, или онейрический, передающий ужас происходящего. На наш взгляд, эту структуру определяет центральная аллегория книги, которой является ночь или темнота. С темнотой и различными ее смысловыми оттенками так или иначе связано большинство ключевых образов: герои задыхаются от темноты, которой пропитан воздух; израильские солдаты, разгоняя демонстрацию, разносят темноту и запихивают ее в щели, из которых пытается пробиться солнечный свет, а само солнце — «желтое тусклое пятно с отрезанными крыльями»:
И первое, что здесь бросается в глаза, это подчеркнутая нереалистичность происходящего. В романе присутствует как бы два плана: план реальный, в котором происходит куцое описание событий, будь то досмотр на израильском блокпосте или демонстрация палестинцев, и план визионерский, или онейрический, передающий ужас происходящего. На наш взгляд, эту структуру определяет центральная аллегория книги, которой является ночь или темнота. С темнотой и различными ее смысловыми оттенками так или иначе связано большинство ключевых образов: герои задыхаются от темноты, которой пропитан воздух; израильские солдаты, разгоняя демонстрацию, разносят темноту и запихивают ее в щели, из которых пытается пробиться солнечный свет, а само солнце — «желтое тусклое пятно с отрезанными крыльями»:
«Наступила ночь. Я думал, что глаза моих близких, которые вглядываются в небеса, а может быть, в меня или в небытие, — пропадут в темноте. Но этого не случилось, они по-прежнему смотрели, но я больше не мог их видеть, не из-за темноты, а из-за яркого света. Ночь перестала быть ночью. Я ничего не мог видеть, кроме яркого блеска крови, которая сверкала, отражая горящие огни в небе. Будто горела сама кровь. Мне казалось, что та ночь и есть ад, который пылал в самом сердце жизни.
Я не мог двигаться, словно мое тело омертвело. Может быть, единственным признаком жизни во мне остался пульсирующий ужас, от которого меня беспрестанно била дрожь. И унять ее было невозможно».
Образы ночи и темноты в данном случае вбирают совокупность исторического опыта угнетенного народа и конкретные социально-политические условия, созданные людьми. Поэтому, в отличие от ночи в традиционном понимании, как и других природных явлений, для палестинцев ночь не проходит с наступлением дня, а только позволяет видеть предметы:
«— Не жди, что день займется, сын мой, ибо с началом дня ничего не изменится.
— Как?! Разве тьма не удаляется?
— Нет. Она только превращается в другую тьму — в древнюю, которая позволяет нам видеть окружающее, но не удаляется из воздуха!
Я, пораженный, спросил:
— Значит, люди тут умирают, задыхаясь от тьмы?!
— Да. Но они сопротивляются».
В равной степени и другие «естественные» природные атрибуты, прочитываются через «неестественную» призму исторического опыта. Например, когда Халиль только попадает из ливанского лагеря беженцев в палестинские трущобы, его удивляет особая густота и затхлость воздуха этих мест, на вопрос о котором он получает следующий ответ:
«Это тот же самый воздух, которым люди здесь дышат пятьдесят лет, он входит в их легкие и выходит из легких, не обновляясь».
А вот как Халиль оценивает свое двухдневное пребывание в Палестине:
«Уже два дня прошло с тех пор, как я приехал в Палестину. Мне кажется, что прошло долгое время. На самом деле это не было обманчивом чувством, ибо страдания жизни тут настолько плотные, что они похожи на высококонцентрированный раствор, который приходится выпивать одним глотком, ежедневно, в больших дозах. В результате можно отравиться, и человек тут, не раздумывая, ищет для себя любой другой вкус, даже если это вкус смерти».
 С подобного же переопределения привычных «естественных» явлений (в данном случае это как «естественность» природы, так и «естественность» мифа) начинается роман:
С подобного же переопределения привычных «естественных» явлений (в данном случае это как «естественность» природы, так и «естественность» мифа) начинается роман:
«Я задумчиво смотрела на закат и внезапно услышала его голос:
— Небеса испачканы пятнами крови.
— Нет, Халиль, это не кровь, ведь кровь не попадает на небеса, только души могут воспарить к небесам.
— Значит, души попадали туда истекающие кровью, — ответил он и вновь замолчал».
И если в самом начале неясно, к каким событиям имеет отношении этот диалог, то ближе к его середине мы узнаем, что это первые слова, которые говорит Халиль, когда только начинает приходить в себя после резни в Сабре и Шатиле. И это подводит нас к следующей важной теме романа — индивидуальной памяти, меланхолии и экзистенциальному осмыслению абсурдности и значимости существования, что также отражается на структуре романа. Экзистенциальные размышления Халиля об абсурдности существования и постигшей его судьбе — быть единственным выжившим — на протяжении всего романа монотонно повторяются с незначительными вариациями, а все, что сколько-нибудь внушает надежду, представляется невозможным, поскольку разбивается о травматические воспоминания и полное безразличие мира:
«Мне хотелось остановить любого прохожего и завести разговор с ним о чем угодно; для меня важно было услышать другой голос, но не яростный шум моей памяти; ощущать чье-то ровное спокойное дыхание, но не мою одышку. Однако кроме меня в переулках не было ни души — люди здесь рано укладываются спать. Наверно, они понимают, что темнота, не позволяющая им видеть других, обрекает их на невыносимую встречу лицом к лицу с их горьким одиночеством. Вот так и я не видел и не слышал ничего, кроме собственного естества, с которым меня роднит только одно — мучительное чувство чужбины. Как будто я ни к чему и никому не принадлежу».
«Я открыл глаза и устремил вперед пристальный изумленный взгляд, словно не понимаю, где нахожусь: в прошлом или в настоящем. Я не знал, в чем отличие между ними, и может ли настоящее не служить зеркалом для прошлого? Меня охватил ужас, когда я неожиданно для себя пришел к выводу, что я затерялся в пустоте между двумя зеркалами, которые до бесконечности отражают одни и те же образы. Я пришел в такой ужас, что из глубины моей души вырвался мучительный стон».
Все же допуская абсурдность надежды, Халиль предпринимает попытки встретиться с бабушкой, отправив ей письмо, а после даже добивается разрешения на поездку к ней. И тогда, неожиданно для него самого, после приезда в Палестину в этой экзистенциальной пропасти начинают проявляться совсем другие образы и чувства:
«Мы идем по этой земле, но не сейчас, а на просторах отдаленного прошлого.
„Случалось ли раньше с тобой нечто похожее, Нура? Ты чувствуешь, будто когда-то давно прошла по этому месту, по которому ты на самом деле впервые шагаешь, или жила на нем в прошлом и у тебя сохранились воспоминания о нем?
Именно так и я почувствовал, и это было очень странное чувство. Как будто это чувство является результатом твоего познания места, или познания местом тебя. Или то и другое одновременно!”»
Подобные же чувства он испытывает, наблюдая за демонстрацией палестинцев против оккупационных властей:
«Еще я видел, как люди вырывались из своей кожи, из своего отчаяния, из своих мечтаний, из своих ожиданий, из своих терпений, из своих молчаний. Я видел их пожелтевшие фигуры, из которых свет жизни давно испарился. Они бегали в поисках камней.
Все это случилось очень быстро. Я стоял, как вкопанный, наблюдая за людьми, держащими в руках камни так, будто они держат свою досаду, чтобы метать в солдат. Они точно знали, когда поднимать камни с земли, заставленной камнями, и в какой момент бросать их, и в какой момент отойти назад.
...
Может быть, это движение не длилось и секунды, но я за этот ничтожный промежуток времени впервые ощущал себя твердо стоящим на обеих ногах после того, как провел целую жизнь, балансируя на одной. Я продолжал поднимать камни один за другим, будто поднимал их не с земли, а со дна моей души, которая в тот момент казалось мне вулканом, извергающим неистощимую лаву».
Однако ночь истории и ее кошмары так просто не заканчиваются, а вспышки самости гаснут в этой ночи, едва успев зажечься, чтобы вернуться к тому же безразличию объективной действительности, что в начале, — именно так работает упомянутая диалектика памяти и забвения, которая дает зыбкую надежду, но не обещает победы. И, на наш взгляд, это нерв произведения:
«Мы приближались к концу, но я чувствовал, что это только наш конец, а не конец трагедии. Скоро жертва, скорчившаяся в руках чудовища, испустит последний выдох с наступлением конца, какого конца — неважно. А что касается вспышки совести, то забвение ее скроет. И пламя истории сожрет память об этой трагедии, так же, как ранее история сожрала память о других больших трагедиях, от которых ничего не осталось, кроме холодного пепла слов, редко бушующих в глубине памяти.
Такова реальность, и все обязательно случится именно так. Нас ничего не ждет, кроме смерти и забвения. И ничего, что могло бы напомнить о нас, не останется. Может быть, останутся некие стихи с мертвым смыслом, прославляющие неизвестных героев и борцов, которые погибли в далеком прошлом в забытых боях».
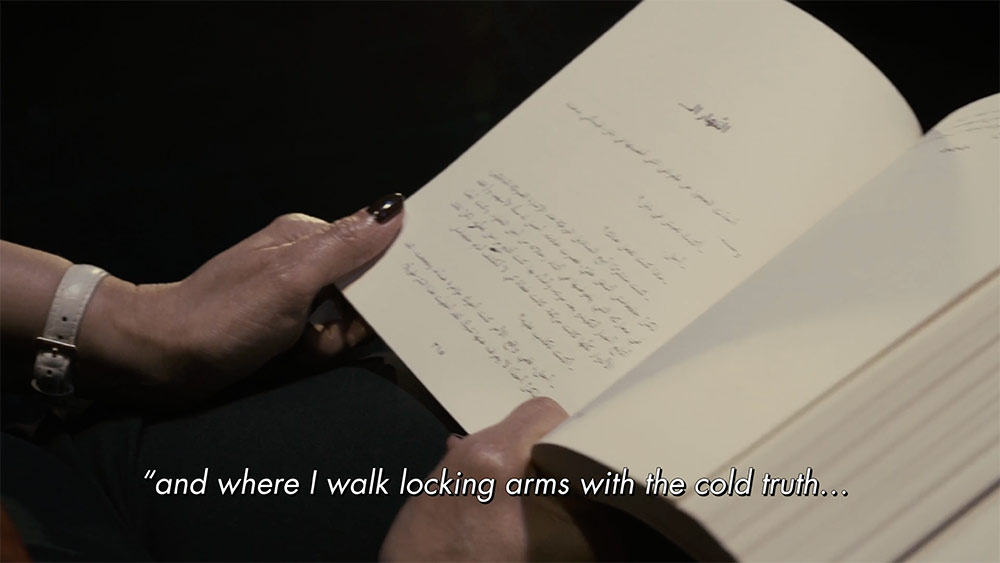 Также хотелось бы отметить специфическую прямоту сообщения, заложенную в некоторых образах, обусловленную формой романа, которая в данном случае уточняется на обложки книги как «роман-притча». Так, мать только что убитого палестинского ребенка, вопреки логике повествования начинает, как в кошмаре, рассказывать его историю:
Также хотелось бы отметить специфическую прямоту сообщения, заложенную в некоторых образах, обусловленную формой романа, которая в данном случае уточняется на обложки книги как «роман-притча». Так, мать только что убитого палестинского ребенка, вопреки логике повествования начинает, как в кошмаре, рассказывать его историю:
«Как я боялась, когда он бросал камни. Я никогда не запрещала ему делать это, потому что он любил выглядеть храбрым, как все взрослые. Однако по ночам он боялся своих снов и приходил ко мне, чтобы уснуть рядом. Он не любил, чтобы я об этом рассказывала, и я никогда не рассказывала. Но он сейчас умер. Когда страх его будил по ночам, он, стесняясь, приходил ко мне, и я сразу поднимала одеяло и, протягивая руку, звала его: „Иди сюда, сынок мой, поспи рядом со мной, и все будет в порядке”. И он спал спиной ко мне, чтобы я не заметила, что он стесняется. Я гладила его по плечам, по волосам, пока он засыпал, как засыпают дети. Может быть, потому что он был еще ребенком? А сейчас, когда он проснется и обнаружит, что они его убили, он поймет — то, что случилось, было не кошмарным сном, а правдой. И если он постарается встать, чтобы прийти ко мне, то он не сможет, потому что обнаружит, что они разбили его кости».
В конце романа Халиль все-таки встречается с бабушкой, но в соответствии с кошмарной логикой происходящего все равно остается сомнение, что это не было просто сном.
Прежде чем закончить, коротко расскажем про роман аль-Зооби «Холодное белое солнце» из шорт-листа Международной премии в области арабской литературы. Роман рассказывает о молодом человеке, который арендует выкрашенную в черный цвет комнату без окон. Позже он понимает, что в ней жил старик, который умер, о чем никто не подозревал, пока его мертвое тело не начало выделять отвратительный трупный запах. Таков реальный план повествования, но есть также план мифологический, в котором старик — это Энкиду, чей разлагающийся труп становится для Гильгамеша красноречивой историей о нигилизме и абсурдности жизни. Несмотря на огромную разницу между персонажами эпоса о Гильгамеше и персонажами нашего времени, писательница видит между ними сходство. Эпическая борьба сверхъестественных сил на открытых пространствах превратилась в историю угнетенных слабых персонажей, поверженных и тревожных, живущих в темных, узких, жалких улочках и задающих одни и те же вопросы о существовании, бессмертии, абсурдности и ничто. Борьба за выживание сопровождается сомнением и в целях этой борьбы, и в самом существовании, особенно если существовать приходится в мире, который ограничивает, угнетает и стремится навязать свое видение действительности:
«Я хочу выйти из этой комнаты без окон и пойти по дороге, где сияет холодное белое солнце. Там я иду, сжимая в руках холодную правду — тот милый холод, от которого дрожит мое слабое тело. Я знаю эту правду, и эта правда знает меня. Эта печальная правда, которая всегда жила со мной, правда, которую я всегда скрывал иллюзиями забвения и ожидания. Я хочу быть свободным с этой правдой, выплакать все слезы сильной радости, которые наполняют мою грудь, и обнять ее, как путешественник, вернувшийся из долгого и далекого путешествия».
Завершить же наш рассказ о Кафе аль-Зооби хотелось бы словами уже процитированного в начале Жана Жене: «Выбор, который человек из привилегированного общества, вопреки своему рождению и принадлежности к этому обществу, совершает в пользу другого народа, является врожденным; этот выбор основан на ничем не обоснованной симпатии, это не значит, что справедливость здесь не имеет никакого значения, но справедливость и защита этого народа рождаются из сентиментального, может быть, даже чувственного влечения. Я француз, но целиком и полностью, всем сердцем и без всяких сомнений защищаю палестинцев. Они правы, потому что я люблю их. Но любил бы я их, если бы несправедливость не превратила их в скитальцев?»
И раз уж вы дочитали до конца этот, прямо скажем, не самый короткий текст, то позволим себе еще одно небольшое лирическое отступление.
Автор этого текста провел детство в белорусской глубинке, в деревенском доме с беленной мелом печкой, среди небогатой библиотеки которого был всего один альбом художественных репродукций — избранные работы Михаила Савицкого. Смотреть этот альбом запрещалось категорически. Однажды, выбрав подходящий момент и все же пролистав альбом, автор испытал ни с чем не сопоставимый ужас, который потом долго его не покидал: на картинах в основном были обнаженные тела мертвых детей и женщин, сваленные в кучи, на фоне которых толпились угрюмые немецкие солдаты. Главной же особенностью этих образов была, безусловно, их доходчивость. И ровно тот же самый ужас автор испытал, чрезвычайно медленно пробираясь через чудовищный текст романа «Вернись домой, Халиль».