Краткий путеводитель по ожившим мертвецам в русской классике
От Погорельского и Одоевского до Брюсова и Андреева
Чем вреден для здоровья поцелуй мертвой возлюбленной, хорошо ли покойники справляются с супружескими обязанностями и почему возвратить Гегеля к жизни целиком едва ли удастся (разве что его голову)? Русская классическая литература так дотошно изучала мир живых, что заодно ознакомилась и с соседним миром — точнее, с нежданными и незваными выходцами из него. О том, почему ожившие литературные покойники были такими деятельными, бесцеремонными и эгоистичными, рассказывает Светлана Волошина.
Обращаясь к теме мертвецов в русской литературе, стоит сделать несколько оговорок по поводу критериев отбора оных, а также литературных произведений, где они упоминаются.
Прежде всего, это мертвецы ожившие — т. е., будучи официально умершими, они остаются в нашем мире и продолжают активно действовать, вмешиваясь в жизнь живущих и руководствуясь примерно теми же резонами, что и раньше. Некоторые из них имеют вполне осязаемые тела, некоторые — нет, однако и те, и другие способны к физическому (вплоть до самого интимного) контакту с живыми.
При этом не будем упоминать тех, кто отказался от привычной человеческой физиологии и перешел на иной тип питания и метаболизма, — всевозможных вампиров, упырей, вурдалаков, русалок и других существ, чье присутствие в литературе подробно изучалось исследователями. Обойду здесь вниманием и ожившую нечисть: панночка из «Вия» и колдун из «Страшной мести» и при жизни своей имели не вполне человеческую природу.
Кроме того, популярная статья позволяет не вдаваться в анализ «страшной» традиции в русской литературе и жанровых особенностей и характеристик готического романа и повести, а выбрать для рассмотрения лишь сюжетную составляющую.
Хронологически «залежи» произведений о живых мертвецах стоит искать в двух временных пластах: в первой трети века XIX, т. е. в основном в литературе романтического направления, и на рубеже веков и в начале века XX.
Самый общий взгляд на мертвецов в русской литературе позволяет сделать вывод: это удивительно эгоистические существа, движимые разными, но отнюдь не бескорыстными мотивами. Их эгоизм и концентрация только на своих желаниях (со смертью не угасших, а то и усилившихся) ни к чему хорошему для живых не приводит.
Основные мотивы и страсти неспокойных покойников со смертью не меняются: это любовь (причем нередко не платоническая, как следовало бы ожидать от тех, у кого явные проблемы с телом) и деньги.
Завершить финансовые дела возвращается умершая графиня в «Пиковой даме» Пушкина — и обманывает почти завладевшего богатством Германна.
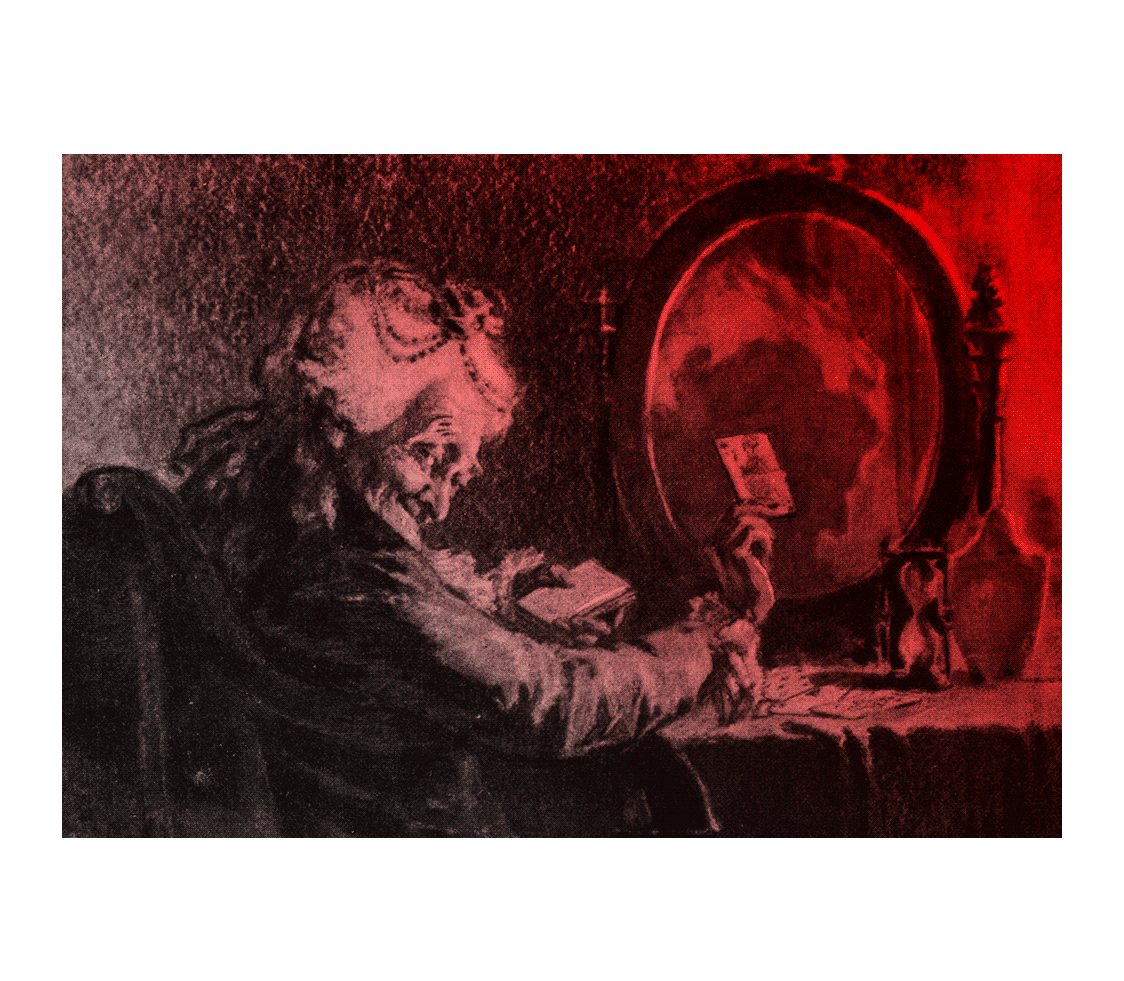 Не находит успокоения старуха из «Лафертовской маковницы» (А. Погорельский, 1825), для отвода глаз продававшая маковники и промышлявшая колдовством и гаданьем при жизни. Цели у покойницы вроде бы были благие — обеспечить внучку денежным достатком, хорошим мужем и профессией, однако внучке не понравились ни жених (бабушкин кот-оборотень), ни богатство, нажитое сомнительным способом.
Не находит успокоения старуха из «Лафертовской маковницы» (А. Погорельский, 1825), для отвода глаз продававшая маковники и промышлявшая колдовством и гаданьем при жизни. Цели у покойницы вроде бы были благие — обеспечить внучку денежным достатком, хорошим мужем и профессией, однако внучке не понравились ни жених (бабушкин кот-оборотень), ни богатство, нажитое сомнительным способом.
— Матушка! — отвечала Маша со слезами, — я во всем рада слушаться, только не выдавайте меня за бабушкина кота!
— Какую дичь ты опять запорола? — сказала Ивановна. — Стыдись, сударыня; все знают, что он титулярный советник.
— Может быть, и так, матушка, — отвечала бедная Маша, горько рыдая, — но он кот, право кот!
Эта замечательная повесть Погорельского заканчивается (в отличие от большинства других подобных) хорошо: страшно-фантастическое рассеивается, а послушная отцу Маша обретает хорошего жениха-человека, а не ведьминого кота.
Своей старой страсти и пороку — игре в карты — посмертно предается и старик в незаконченной повести М. Ю. Лермонтова «Штосс» («У графа В... был музыкальный вечер») (1845). Неизвестный старичок с портрета еженощно приходит к главному герою и играет с ним в штосс, неизменно выигрывая. Ставка в его игре — молодая девушка, призрак с того же портрета и, предположительно, его дочь. К сожалению, мы не знаем, каким был запланированный Лермонтовым финал этой повести, а более поздние «фанфики», увы, не имеют к Лермонтову никакого отношения.
По предположению В. Вацуро, дело обстояло следующим образом:
Лермонтовский старик, по-видимому, совершил свое преступление в среду, — и каждую среду он вынужден заново проигрывать свою дочь в опустевшем доме. «Дочь в отчаянии, когда старик выигрывает». Очевидно, проигрыш старика разрушил бы заколдованный круг и освободил бы ее или их обоих — вероятнее всего, для могилы.
Гораздо более распространенным мотивом возвращения умерших становится любовь (как вариант — брачные обязательства).
Так, героини баллад В. А. Жуковского Людмила, Ленора и Светлана — точнее, двух вариантов перевода немецкой баллады Г. Бюргера (1808 и 1831) и одного вольного ее переложения (1808–1812) — грустят о своих пропавших женихах. Но если Светлану ждет счастливый конец:
«...Здесь несчастье — лживый сон;
Счастье — пробужденье».
О! не знай сих страшных снов
Ты, моя Светлана...
...то «прямым наследницам» героини немецкой баллады повезло меньше. Мечты о возвращении суженого сбываются, но приходит он из могилы, куда и забирает невесту. В этом случае герой девичьих грез полностью соответствует романтическому канону «быть не таким как все»: он действительно «особенный» — мертвый.
Людмила жестоко расплатилась за свои «безрассудные» желания и укоры Создателю («С милым вместе — всюду рай... Нет, забыл меня спаситель!»), красавец-жених на деле оказался страшным трупом, а над умершей невестой хор мертвецов в финале поет дидактическую песнь:
Видит труп оцепенелый:
Прям, недвижим, посинелый,
Длинным саваном обвит.
Страшен милый прежде вид;
Впалы мертвые ланиты;
Мутен взор полуоткрытый;
Руки сложены крестом.
Вдруг привстал... манит перстом.
«Кончен путь: ко мне, Людмила;
Нам постель — темна могила;
Завес — саван гробовой;
Сладко спать в земле сырой».
Что ж Людмила?.. Каменеет,
Меркнут очи, кровь хладеет,
Пала мертвая на прах.
Стон и вопли в облаках;
Визг и скрежет под землею;
Вдруг усопшие толпою
Потянулись из могил;
Тихий, страшный хор завыл:
«Смертных ропот безрассуден;
Царь всевышний правосуден;
Твой услышал стон творец;
Час твой бил, настал конец».
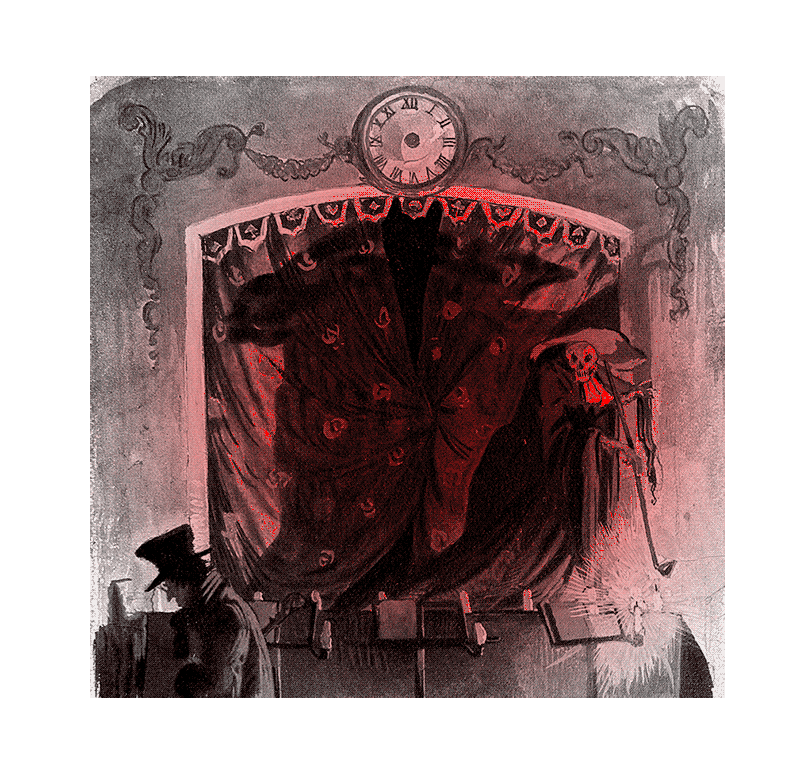 Не стоит, впрочем, думать, что так эгоистично с возлюбленными поступают лишь мужчины.
Не стоит, впрочем, думать, что так эгоистично с возлюбленными поступают лишь мужчины.
Например, в повести О. И. Сенковского «Любовь и смерть» (1828), демонстрирующей романтическую топику, сюжетные ходы и язык — и в то же время иронизирующей над ними (Сенковский, известный своими циничными шутками, не мог удержаться от них и здесь), редактор получает от неизвестного рукопись.
В ней герой повествует о своей взаимной любви с замужней женщиной. Она была несчастна в браке, ее муж был из «диких людей»:
Поймать белую и слабую европейку хитростью, исторгнуть сердце из ее груди, и потом выжимать из него кровь, и терзать его зубами, и бить ее по лицу собственным ее сердцем с насмешками начала XVI века — для них дело такое же естественное, как для патагонца пить вино из вражьего черепа.
Конечно же, Зенеиде при таком муже ничего иного не оставалось как умереть, предварительно обменявшись кольцами с любимым. Узнав о ее смерти, герой пришел в неистовство и произнес клятву:
...Волосы съежились на голове, и я судорожно схватил зубами кольцо, бывшее у меня на пальце — данное мне некогда Зенеидою взамен моего, — и держал его так крепко, что с трудом вырвали у меня изо рта согнутый коленом палец...
— Дело конченое! — сказал я про себя, как скоро силы позволили мне рассуждать несколько связно. — Решено! Я никогда не женюсь: она моя жена!.. Она отдала мне свою мертвую руку, и я не отрину этого драгоценного добродетельного дара.
Конечно же, такая любовь не могла закончиться со смертью любимой, и через семь лет, прогуливаясь около кладбища, герой встретился с Зенеидой. Она проводила его в свой «домик» — под памятником, около гроба.
Встреча была радостной, но поцелуй мертвой Зенеиды оказался вредным для здоровья героя:
...Помню, что, привстав с гроба, она тихонько приблизилась ко мне и вдруг напечатлела на моих устах холодный, как намерзлое железо, поцелуй, который разошелся по моим жилам жестоким морозом и оледенил кровь... взяла меня под руку, привела к розовому гробу и тихонько подняла крышку. Я увидел внутри его обнаженный скелет, с торчащими из праха зубами, с белым костяным челом, безобразно засоренным присохшими клочками волос, с глубокими ямами, налитыми мраком, вместо глаз и щек...
Героя нашли около кладбища в беспамятстве, «неимоверное потрясение всего животного здания уже превращалось во мне в лихорадку; пламя пожирало мои члены, и белая горячка последовала за этим страшным, но драгоценным видением», — сообщил он и вскоре утопился в Неве, вызвав ироничные комментарии редактора.
Весьма странно и эгоистично действует Клара Милич из одноименной «таинственной» повести И. С. Тургенева (1882). Провинциальная молодая актриса по имени Катерина Миловидова — не очень (вопреки фамилии) симпатичная и не демонстрирующая особого таланта и обаяния (так, по крайней мере, показалось главному герою повести, юноше Аратову) — выступала на вечере, в течение которого посмотрела на героя «несколько раз с особенной настойчивостью». После она пригласила его на свидание, где призналась в любви, но, не дождавшись там же взаимности, вскоре покончила с собой. Самоубийство каким-то образом входило в ее план посмертно заставить Аратова полюбить ее, и план удался.
Весь трепеща, проснулся Аратов. В комнате не темно... Он чувствует одно: Клара здесь, в этой комнате... он ощущает ее присутствие... он опять и навсегда в ее власти!
Из губ его исторгается крик:
— Клара, ты здесь?
— Да! — раздается явственно среди неподвижно освещенной комнаты...
— Я прощен! — воскликнул Аратов. — Ты победила... Возьми же меня! Ведь я твой — и ты моя!
Он ринулся к ней, он хотел поцеловать эти улыбающиеся, эти торжествующие губы — и он поцеловал их, он почувствовал их горячее прикосновение, он почувствовал даже влажный холодок ее зубов — и восторженный крик огласил полутемную комнату.
Вбежавшая Платонида Ивановна нашла его в обмороке...
Далее Аратов стал обдумывать их совместную с Кларой жизнь и пришел к единственно возможному решению — собственной смерти. Сказано — сделано. Повесть «Клара Милич» кажется далеко не лучшим произведением И. С. Тургенева. Установка на достоверность происходящего, совмещение двух планов — реального и фантастического — сыграли с образами главных героев злую шутку: их действия в рамках привычной Тургеневу реалистической повести кажутся не совсем адекватными, а речь юного героя, насыщенная романтическими штампами, выглядит чужеродной и порой даже комичной.
![]() ...Я буду обладать ею. Она придет в венке из маленьких роз на черных кудрях, — рассуждает Аратов. — Ну так что же? Умереть так умереть. Смерть теперь не страшит меня нисколько... Напротив, только так и там я буду счастлив... как не был счастлив в жизни, как и она не была... Ведь мы оба — нетронутые! О, этот поцелуй!
...Я буду обладать ею. Она придет в венке из маленьких роз на черных кудрях, — рассуждает Аратов. — Ну так что же? Умереть так умереть. Смерть теперь не страшит меня нисколько... Напротив, только так и там я буду счастлив... как не был счастлив в жизни, как и она не была... Ведь мы оба — нетронутые! О, этот поцелуй!
Сразу несколько мертвых «бывших», налагающих запрет на дальнейшую личную жизнь своих любовников и любовниц, мы находим в произведениях Г. И. Чулкова, писателя и теоретика «мистического анархизма».
В рассказе «Голос из могилы» (1914) любовница главного героя умерла, возможно, только для того, чтобы лишить его возможности изменить ей. Герой остался жить, но умер как мужчина:
Я люблю мою жену нежнее, чем прежде. Но мы живем теперь как брат и сестра. А когда в минуту страсти я стою на коленях и говорю моей жене «люблю», я слышу чей-то тихий голос: «Ты мой! Ты ведь мой?» — И тогда я — неверный — не смею целовать ноги моей верной жены.
В этом рассказе, кажется, нашел воплощение еще один мотив возвращения мертвецов — ревность к оставшимся жить любимым. Этот вполне романтический мотив воплощен в стихотворении «Любовь мертвеца» (1841) Лермонтова: лирический герой отказывается от небесного покоя для того, чтобы лишить возлюбленную земного счастья с кем-то другим:
Пускай холодною землею
Засыпан я,
О друг! всегда, везде с тобою
Душа моя.
Любви безумного томленья,
Жилец могил,
В стране покоя и забвенья
Я не забыл <...>
Ты не должна любить другого,
Нет, не должна,
Ты мертвецу святыней слова
Обручена.
Увы, твой страх, твои моленья —
К чему оне?
Ты знаешь, мира и забвенья
Не надо мне!
В другом рассказе Г. И. Чулкова — «Невеста» — умершая когда-то невеста главного героя, которую он знал плохо и почти не помнит в лицо, тем не менее возвращается и своим присутствием портит его жизнь с любовницей:
— Я люблю траур, — сказал Баталин тихо, — не знаю, почему, но я люблю его. Где-то в глубине нашего сердца есть уверенность, что любовь и смерть — родные сестры...
Чулков предлагает читателям несколько вариаций подобного сюжета (вероятно, это было художественным выражением его философско-эстетической теории). Еще в одном его рассказе — «Мертвый жених» — возвращение мертвеца связано не с ревностью, а с необходимостью совершения супружеских обязанностей: умерший от чахотки муж, живший с юной подругой в неконсумированном браке, возвращается к ней после смерти (что приводит даже к беременности).
— ...Я умираю, и я чувствую, что нам надо вместе узнать что-то. Вместе легче узнать; ни ты, ни я не узнаем в одиночестве важного и значительного, что скрыто от нас теперь. Чтобы узнать, надо вместе полюбить. И тогда уже не будет слепоты и не будет этой жестокой боли.
Одним из (субъективно) лучших произведений, имеющих в своем сюжете вернувшегося из-за любви «ревенанта», можно назвать «Жар-цвет» (1895) А. В. Амфитеатрова, который известен больше как публицист, фельетонист и критик.
В этом романе обнаруживается целый ассортимент мистических явлений и микросюжетов: мертвых женщин, ищущих физиологической близости, древних культов мертвых и их жриц, заклинательниц змей и историй ядов — все это с квазинаучным комментарием и внутри увлекательного сюжета.
Включенный в роман сюжет о возвращающейся мертвой любовнице повторен Амфитеатровым в двух рассказах, точнее, в двух редакциях одного и того же рассказа — «История одного сумасшествия» и «Киммерийская болезнь».
 «Киммерийская болезнь» представляется одним из лучших образцов этого жанра. Установка на реалистичность, обилие бытовых деталей, подчеркивающих (мнимую?) правдивость рассказа, постоянная рефлексия и (поначалу) ирония рассказчика, описывающего внешние события и постепенно происходящую в нем метаморфозу, случайность появления мертвой Анны (она перешла к главному герою Дебрянскому просто по месту жительства: при жизни была экономкой у прежнего квартиросъемщика и покончила собой от несчастной к нему любви), психологическая достоверность протекающей в Дебрянском «киммерийской болезни» — вступив в отношения с мертвой Анной, он начал отдаляться от мира живых.
«Киммерийская болезнь» представляется одним из лучших образцов этого жанра. Установка на реалистичность, обилие бытовых деталей, подчеркивающих (мнимую?) правдивость рассказа, постоянная рефлексия и (поначалу) ирония рассказчика, описывающего внешние события и постепенно происходящую в нем метаморфозу, случайность появления мертвой Анны (она перешла к главному герою Дебрянскому просто по месту жительства: при жизни была экономкой у прежнего квартиросъемщика и покончила собой от несчастной к нему любви), психологическая достоверность протекающей в Дебрянском «киммерийской болезни» — вступив в отношения с мертвой Анной, он начал отдаляться от мира живых.
Амфитеатрову именно в этом рассказе удалось найти идеальный баланс реалистичности и мрачных, фантастических деталей хтонического мира мертвых, тем более страшных, что его герой попал в него случайно, просто поселившись в «нехорошей» квартире. Поведение мертвой Анны, уже почти лишившей жизни прежнего любовника, поначалу кажется Дебрянскому странным, она сама — глуповатой, но при этом легкомысленной, чем он и решает (себе на погибель) воспользоваться. Первый диалог героя с этой незнакомой ему пока женщиной замечателен. Заявив, что она «от Петрова», Анна говорит:
— Он мне сказал: Анна! что ты ко мне пристала, отвязаться не хочешь? У меня ничего уже нет, я сумасшедший и скоро умру. Ты не имеешь больше права меня мучить. Иди к другим! Я спросила: Вася, куда же я пойду? Я никого кроме тебя не знаю. Он ответил: ступай в квартиру, где мы с тобой жили; там есть Алексей Леонидович Дебрянский; он тебя примет.
Это походило на ложь: откуда бы Петрову знать, что я занял его бывшую квартиру? А говорит — точь-в-точь не очень памятливое дитя отвечает урок: ровно, и с растяжкою, каждое слово само по себе — совсем капель из желоба: кап... кап... кап...
Петров, к которому герой пришел за объяснениями (сомневаясь насчет того, с чего бы начать дикий разговор: «Как, мол, это ты, Василий Яковлевич, посылаешь ко мне в гости мертвых женщин?»), объясняет действия Анны так:
...Жизнь ест. Чувства гасит, сердце высушивает, мозги помрачает... И с тобой то же будет, друг Алексей Леонидович, и с тобой! Она, брат, молода: жить хочет, любить. Ей нужна жизнь многих, многих, многих...
Тот же Петров дает оригинальное объяснение появлению «плотных» призраков, а заодно и болезней: и то, и другое — «пузыри земли», мир создан так, что постоянно рождает новые формы:
— Ты думаешь, воздух пустой? — бормотал он. — Нет, брат, он лепкий, он живой; в нем материя блуждает... понимаешь? послушная материя, которую великая творческая сила облекает в формы, какие захочет... Дифтериты, холеры, тифы... Это ведь они, мертвые, входят в живых и уводят их за собою. Им нужны жизни чужие в отплату за свою жизнь. Ха-ха-ха! В бациллу, чай, веришь, а что мертвые живут и мстят, не веришь.
Одно из самых страшных литературных произведений об оживших мертвецах — «Елеазар» Л. Н. Андреева (1906).
История воскрешения Елеазара — прямое указание на Лазаря — в версии Андреева не просто нерадостна, но ужасна. Вернувшись из могилы, Елеазар стал не живым, а всего лишь ожившим мертвецом, в котором остались даже приметы разложения:
Очевидно, разрушительная работа смерти над трупом была только остановлена чудесной властью, но не уничтожена совсем; и то, что смерть уже успела сделать с лицом и телом Елеазара, было как неоконченный рисунок художника под тонким стеклом. На висках Елеазара, под его глазами и во впадинах щек лежала густая землистая синева; так же землисто-сини были длинные пальцы рук, и у выросших в могиле ногтей синева становилась багровой и темной. Кое-где на губах и на теле лопнула кожа, вздувшаяся в могиле, и на этих местах оставались тонкие, красноватые трещинки, блестящие, точно покрытые прозрачной слюдой. И тучен он стал. Раздутое в могиле тело сохранило эти чудовищные размеры, эти страшные выпуклости, за которыми чувствуется зловонная влага разложения.
Елеазар не может вспомнить ничего из того, что было за горизонтом смерти, более того, где-то по дороге оттуда он, кажется, потерял душу. По крайней мере, в нем незаметно ничего кроме подпорченного тела. По выражению М. Волошина, «Ужас андреевского рассказа зародился в анатомическом театре, а не в трагедии человеческого духа». В самом деле, духом там и не веет.
Елеазар стал чем-то вроде зомби, и его присутствие не только не подразумевает радостной возможности победы над смертью — напротив, смертное жало осталось в нем и отравляет всех, кто общается с ним или просто смотрит в его мертвые глаза.
У Андреева смерть побеждает жизнь, между миром живых и мертвых проходит граница, нарушение которой ведет к разрушению и гибели. Смерть — вампир и дементор, высасывающий все жизненное.
В других, гораздо менее мрачных, произведениях живые мертвецы демонстрируют вполне социальное поведение: в частности, чувство коллегиальности и стремление к объединению — по профессиональному признаку или же для празднеств (например, пушкинский «Гробовщик»). Здесь, кажется, действует прямой перенос социальных мотивов и характера живых людей на насельников мира иного, не слишком отличающегося от нашего. Поэтому вполне объяснима и ирония, и «несерьезность» подобных текстов, снабженных в конце реалистической «разгадкой».
Такова замечательная повесть М. Н. Загоскина «Концерт бесов» (1834): русский дворянин Зорин влюбился в неаполитанскую оперную певицу. Она приехала в Москву, чтоб участвовать в концерте, куда и пригласила своего обрадовавшегося поклонника. Приятеля Зорина насторожило, что концерт был назначен на первую неделю поста и глубокую ночь, сам же Зорин удивился, лишь увидев в числе публики Моцарта, Генделя, Люлли и своего умершего приятеля.
Мертвецы, однако, хоть и обладали явными музыкальными талантами, проявили себя как существа недобрые и негуманные. Спев страшную в своей нечеловеческой красоте арию, неаполитанка решила исполнить каватину, для которой требовался гитарный аккомпанемент, однако гитары не было.
Капельмейстер бросил на меня быстрый взгляд, разинул свой совиный клюв и захохотал таким злобным образом, что кровь застыла в моих жилах.
— А что, в самом деле, —сказал он, — подайте-ка мне его сюда!..
Трое зрителей схватили меня и передали из рук в руки капельмейстеру. В полминуты он оторвал у меня правую ногу, ободрал ее со всех сторон и, оставя одну кость и сухие жилы, начал их натягивать, как струны. Не могу описать тебе той нестерпимой боли, которую произвела во мне эта предварительная операция... Но когда Лауретта взяла из рук его мою бедную ногу и костяные ее пальцы пробежали по натянутым жилам, я позабыл всю боль: так прекрасен, благозвучен был тон этой необычайной гитары. После небольшого ритурнеля Лауретта запела вполголоса свою каватину... мне казалось, что я весь превратился в слух и, что всего страннее, не только душа моя, но даже все части моего тела наслаждались, отдельно одна от другой, этой обворожительной музыкою. Но более всех блаженствовала остальная нога моя: восторг ее доходил до какого-то исступления; каждый звук гитары производил в ней столь неизъяснимо-приятные ощущения... Вдруг Лауретта взяла фальшивый аккорд... Ах, мой друг! вся прежняя боль была ничто в сравнении с тем, что я почувствовал!
Загоскин использует прием «недостоверного рассказчика» — в конце выясняется, что Зорин сидит в сумасшедшем доме. Иначе и быть не могло: цензура XIX века не пропустила бы ничего, что не состыковывалось с представлениями официальной религии.
За неимением возможности обратиться ко всем авторам, уделившим внимание живым мертвецам, упомяну лишь некоторых. В рассказе В. Ф. Одоевского «Живой мертвец» (1838) повествование ведется от лица (души?) умершего чиновника и имеет цель дидактическую: «Живой мертвец» — это классический голливудский фильм «Эта прекрасная жизнь» наоборот. При жизни Василий Кузьмич наделал столько гадостей, что их последствия заметны повсюду, и его душа огорчается, видя ростки и плоды посеянного им зла. Смерть оказывается сном, и мораль здесь предназначается для читателей, сам же герой радостно спешит продолжить свою нечестивую жизнь.
Любопытную трактовку смерти как всезнания предлагает З. Гиппиус в новелле «Вымысел» (1906). Героиня узнала все события и подробности своей будущей жизни и теперь доживает ее как мертвец — всезнающая и ко всему безучастная.
Забавный вариант возвращения мертвых к жизни предлагает В. Я. Брюсов. В рассказе «Не воскрешайте меня» (1918) группа ученых «Теургического института» возрождает к жизни Гегеля (получилась только голова), французскую куртизанку из XVII века (наоборот, получилось только тело) и Иуду Искариота (вообще ничего не получилось). Эксперименты неудачны: «ученые» воссоздали лишь подобия людей, и эти странные антропоморфные массы в лучшем случае просят пищи.
Пожалуй, лучшим произведением о живых мертвецах в русской классической литературе следует признать рассказ «Бобок» Ф. М. Достоевского (1873). Автор нашел идеальный баланс между фантастическим и реальным, добавил злейшую сатиру на (не только) современные нравы и продемонстрировал блестящие образцы чернейшего юмора; все это — «с оттенком высшего значения».
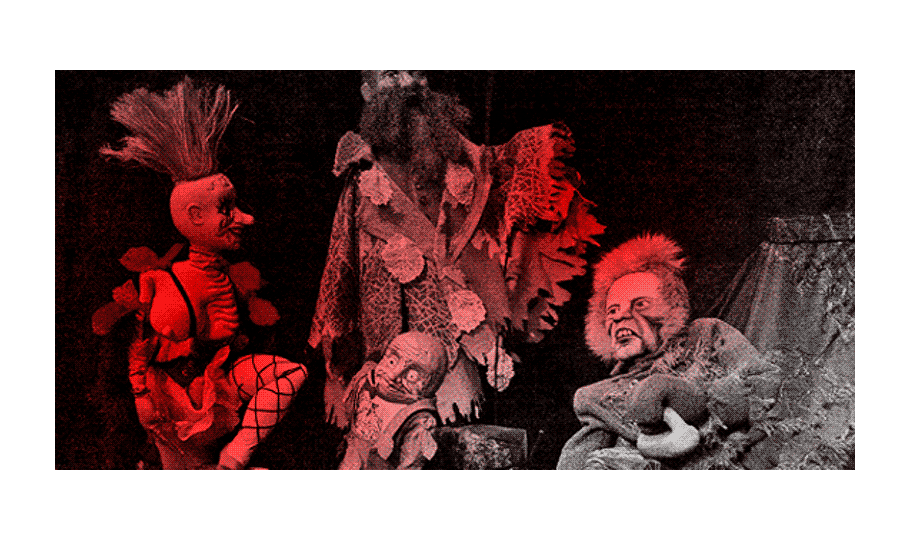 Пьяненький третьесортный литератор пошел «развлекаться, попал на похороны». Прилегши на камень на кладбище, он вдруг услышал голоса из-под земли. Оказалось, что после похорон тело
Пьяненький третьесортный литератор пошел «развлекаться, попал на похороны». Прилегши на камень на кладбище, он вдруг услышал голоса из-под земли. Оказалось, что после похорон тело
...еще раз как будто оживает, остатки жизни сосредоточиваются, но только в сознании... и продолжается еще месяца два или три... иногда даже полгода... Есть, например, здесь один такой, который почти совсем разложился, но раз недель в шесть он все еще вдруг пробормочет одно словцо, конечно бессмысленное, про какой-то бобок: «Бобок, бобок», — но и в нем, значит, жизнь все еще теплится незаметною искрой...
— объясняет один из подземных жителей (вполне возможно, что «Бобок» — намек на модного, но пустоватого писателя Боборыкина, автора «эротического» романа «Жертва вечерняя»).
Умершие решают «провести эти два месяца как можно приятнее» — и для этого «ничего не стыдиться», «не лгать», т. е. откровенно рассказывать о всех свойственных им пороках и предаться разврату, уже ничего не боясь.
«Все это там вверху было связано гнилыми веревками. Долой веревки, и проживем эти два месяца в самой бесстыдной правде! Заголимся и обнажимся!»
— радостно кричат начавшие портиться и смердеть развратники.
Контрапункт физической смерти и разложения — и усиления физических (физиологических) желаний, встречающийся во многих упомянутых (и не упомянутых) произведениях, — в «Бобке» достигает максимума.
В «живых мертвецах», охваченных любовью или иными страстями (деньгами или азартом), не может не удивлять очевидное противоречие.
При утрате физического тела, чьи потребности и плотность материи заслоняли при жизни душевные нужды и стремления, эти последние должны выйти на первый план, сделав покинувшего земную юдоль существом духовным — в переносном и самом прямом смыслах. Однако этого не происходит: земная любовь превращается у беспокойного усопшего в страстное — и очень эгоистическое — желание во что бы то ни стало обладать предметом страсти, даже если это обладание не осчастливит любимого (или любимую). Итогом любовной близости становится или их смерть, или как минимум явный дискомфорт: вряд ли невесте уютно в тесном гробу, сконструированном только для одного обитателя!
Те, кто возвращается для завершения финансовых вопросов, тоже в итоге не помогают просящим или страждущим: их подозрительные деньги или способы их добычи либо не нужны наследникам, либо оказываются обманом.
Возможно, это происходит потому, что в подобный тесный контакт с живущими вступают далеко не все, а только «нехорошие» покойники. «Правильные» усопшие отправляются по правилам религии в другой мир, в иную епархию, где их ждут либо наказание, либо спасение, но в любом случае их местонахождение, цели и задачи уже совершенно иные и не касаются оставшихся на земле. В самом оксюмороне «живые мертвецы» содержится и объяснение их «неправильности»: их «жизнь» — не жизнь души, а попытка продолжения нечестивой жизни тела, которого они лишились.
И сильные любовные страсти живых мертвецов, и особенно концентрация «плотоядности» и развратных наклонностей усопших в «Бобке», находят неожиданное соответствие в анализе обителей Дантова «Ада», сделанном Э. Ауэрбахом в известной книге «Мимесис».
Ауэрбах пишет о том, что черты, характеризующие героев при их жизни, в «Аду» многократно усилились, сконцентрировались, не находя более выхода в действии, в развитии.
...Если жизнь земная уже прекратилась, так что в ней не осталось ничего изменять, развивать, а страсти и влечения, которые волновали некогда эту жизнь, еще по-прежнему длятся и существуют, не разряжаясь в действии, то возникает небывалое накопление, аккумуляция человеческой сущности; тогда становится зримым необычайно приумноженный, раз и навсегда утвержденный для вечности... облик индивидуальной сущности, столь чисто и столь четко запечатленный, как никогда того не бывало и не могло быть в земном существовании.
Подобное произошло и с литературными умершими, чьи страсти были так велики, что ради них они остались среди живых, на Земле, превратив окружающее их пространство в филиал ада, где их пороки, сконцентрировавшись и аккумулировавшись, разрушают не только их самих, но и близких им живых.
В любом случае все разнообразие произведений о мертвецах разных авторов и разных времен на удивление единодушно в своем мнении: прах — к праху, и умершим нечего делать с живыми, между мирами стоят непроницаемая граница и тайна, и нарушение их есть нарушение закона бытия, не остающееся безнаказанным.