«Крайне правые конспирологи — единственная сила, которую укрепил коронавирус»
Интервью с историческим социологом Майклом Манном
Дмитрий Карасев: Как вы пережили период пандемии? Для многих это было тяжелое время, но удаленная работа, несомненно, имеет свои плюсы. Удалось ли вам благодаря локдаунам реализовать какие-то планы, на которые не хватало времени?
— К счастью, этот период для меня не был сплошным стрессом. Наш с женой дом расположен в довольно идиллической части Лос-Анджелеса — и это, конечно, совсем не те условия, в которых оказались многие жители города, вынужденные ютиться на маленькой площади. Так что жаловаться мне не на что. Более того, во время локдаунов у меня появилась возможность закончить новую книгу, посвященную войне.
Николай Проценко: Это одна из тем, которые мы хотели с вами обсудить, поскольку за период пандемии риски большой войны существенно выросли, а некоторые локальные войны (речь прежде всего о Нагорном Карабахе) уже состоялись. Какие актуальные трансформации военной власти вы наблюдаете?
— Прежде всего, сразу хочу отметить, что модель анализа, которую я предлагаю в «Источниках социальной власти», — это всего лишь широкий теоретический контекст. Однако вызовы, с которыми сталкиваются наши общества, различаются от одной эпохи к другой. Например, для ХХ века были характерны высокие темпы экономического роста и крупнейшие в истории войны, хотя вторая часть столетия была относительно мирной, пусть и с побрякиванием атомным оружием. Сейчас источники социальной власти движутся в другом направлении.
Моя новая книга посвящена войнам в истории с подробным анализом нескольких примеров из истории Европы, Китая, Японии и Латинской Америки, которые хорошо документированы. Но эта работа — не о военной власти: основной вопрос, на который я пытаюсь ответить, заключается в том, в какой степени война является иррациональной формой человеческой деятельности. Очевидно, что с существенными технологическими трансформациями в сфере вооружений произошло и изменение способов ведения войн: они стали более рассредоточенными.
Кроме того, я привожу аргументы против расхожих мнений о том, что на протяжении истории идет сокращение или, наоборот, увеличение количества войн — дело в том, что периоды войны и мира следует рассматривать как нечто единое. Существует иллюзия миролюбивости современного западного мира — но не следует забывать о масштабных военных поставках и ведении прокси-войн чужими руками.
Таким образом, война от нас никуда не делась, хотя с точки зрения западных стран это обстоятельство несколько затуманено. Но, думаю, в России это прекрасно понимают, поскольку вокруг ваших границ прокси-войны идут постоянно. Они могут оставаться незаметными для тех, кто не знает, где находится тот же Нагорный Карабах, но для участвующих в таких войнах стран это очень масштабные конфликты.
Д.К.: И все же каковы, по вашему мнению, перспективы у военной власти в современном мире? В последнем томе «Источников социальной власти» вы отмечали, что в истории не было ничего сравнимого с американской военной мощью — к чему это может привести? И сохраняет ли сегодня война ту роль инструмента массовой мобилизации, которую играла в процессе формирования современных государств?
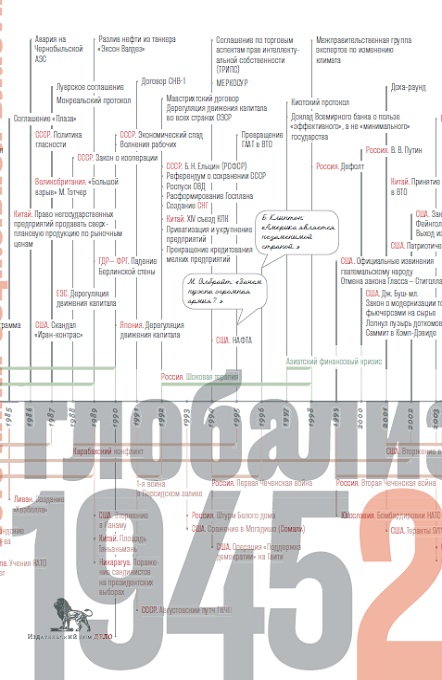 — Не стоит переоценивать возможности военной деятельности в плане трансформации общественного устройства. Во всех войнах, которые велись на протяжении истории, присутствовал один общий момент — сверхоптимизм держав, начинавших боевые действия. Как раз таков случай Соединенных Штатов начиная с Корейской войны и далее. Но, как оказалось, американская сверхдержава не в состоянии достичь своих целей с помощью войны. И даже если войны, которые вела Америка, начинались успешно, как это было в Ираке, трансформировать политическую и экономическую системы стран, куда вводились американские войска, не удавалось.
— Не стоит переоценивать возможности военной деятельности в плане трансформации общественного устройства. Во всех войнах, которые велись на протяжении истории, присутствовал один общий момент — сверхоптимизм держав, начинавших боевые действия. Как раз таков случай Соединенных Штатов начиная с Корейской войны и далее. Но, как оказалось, американская сверхдержава не в состоянии достичь своих целей с помощью войны. И даже если войны, которые вела Америка, начинались успешно, как это было в Ираке, трансформировать политическую и экономическую системы стран, куда вводились американские войска, не удавалось.
В то же время совершенно очевидно, что американское общество нетерпимо относится к военным потерям, поэтому воля к новым гуманитарным интервенциям в США сейчас снижается — и происходит это на фоне взлета Китая с его пересмотром истории и границ: Коммунистическая партия пытается восстановить империю, существовавшую в прошлом. Кстати, такую же ревизию предпринимает и Россия, причем небезуспешно, судя по операции в Сирии. Удастся ли Китаю оспорить американское военное доминирование — пока открытый вопрос, но противостояние Китая и США, несомненно, главный сюжет для будущего военной власти.
Д.К.: А каковы, на ваш взгляд, перспективы этого противостояния в экономической сфере?
— Не думаю, что расхожий термин «торговая война» применительно к отношениям США и Китая является верным — это примерно как называть войной противостояние между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Скорее нужно вспомнить о наличии двух основных разновидностей глобализации. Первая из них — транснациональная: когда границы государств оказываются проницаемыми для властных отношений, именно так работает финансовый капитал. Вторая форма глобализации — интернациональная: в качестве примера можно привести ООН, а также мирные геополитические отношения между различными государствами. Исходя из этого, сложно представить, что Соединенные Штаты и Китай окажутся экономически изолированными друг от друга, так как их взаимозависимость слишком велика.
Д.К.: Чем может, как вам кажется, кончиться конкуренция США и Китая в области «зеленой» энергетики? С одной стороны, и Штаты, и Китай ищут свой формат «зеленого курса», а с другой, этот аспект все активнее становится еще одним направлением в их конкуренции.
Н.П.: И можно ли рассматривать «зеленый курс» как некую разновидность неокейнсианства, учитывая огромные бюджетные расходы, которые подразумевают проекты в области экологически чистой энергии?
В США «Новый зеленый курс» — не детализированная программа, а некая общая цель либерального крыла Демократической партии, к которому не принадлежит президент Джо Байден. Однако его сторонникам удалось убедить многих людей и самого президента, и здесь, конечно, аналогии с кейнсианским Новым курсом Рузвельта, также представлявшего Демократическую партию, вполне уместны. Если США и Китай будет конкурировать в разработке технологий для получения чистой энергии, это пойдет человечеству только на пользу.
Если же вернуться к двум разновидностям глобализации, о которых я говорил, то транснационализация глобализма остается серьезным вызовом для человечества: в качестве примера можно взять тот же коронавирус, по своей природе подлинно транснациональный. То же касается и проблемы выбросов парниковых газов, которая стоит перед всеми и поэтому является транснациональной. Очевидно, что ответом на такие вызовы должна стать интернациональная глобализация, то есть международные соглашения для всего мира.
Н.П.: Конечно же, мы хотели задать вам несколько вопросов и о коронавирусе, а для начала позвольте напомнить один из прогнозов, сделанный вами в сборнике «Есть ли будущее у капитализма?»: будущее капитализма будет скучным в смысле низких темпов роста, низких процентных ставок, низкой инфляции. Вы все еще придерживаетесь такого мнения после начала коронавирусного кризиса? Капитализм по-прежнему скучный?
 — Капитализм — а вместе с ним и неолиберализм — пережил шок. Но капиталистам удается извлекать прибыль даже из подобных кризисных явлений. Например, мировые войны приносили с собой бум оружейного производства, и он становился источником извлечения прибыли. Адаптивность капитализма безгранична, поскольку капиталисты могут менять приоритетные для себя секторы экономики, и в этом плане я не вижу какого-то особенного кризиса. Однако угрозой для капитализма стала безответственная политика в отношении изменений климата и «зеленой» энергетики, поэтому данные аспекты должны быть наиболее регулируемыми сферами в капиталистическом мире. Правда, это вовсе не угрожает частной собственности и частному сектору экономического производства.
— Капитализм — а вместе с ним и неолиберализм — пережил шок. Но капиталистам удается извлекать прибыль даже из подобных кризисных явлений. Например, мировые войны приносили с собой бум оружейного производства, и он становился источником извлечения прибыли. Адаптивность капитализма безгранична, поскольку капиталисты могут менять приоритетные для себя секторы экономики, и в этом плане я не вижу какого-то особенного кризиса. Однако угрозой для капитализма стала безответственная политика в отношении изменений климата и «зеленой» энергетики, поэтому данные аспекты должны быть наиболее регулируемыми сферами в капиталистическом мире. Правда, это вовсе не угрожает частной собственности и частному сектору экономического производства.
Все прочие обстоятельства также говорят в пользу того, что капитализм стал еще более доминирующей формой организации отношений экономической власти, хотя Китай, экономика которого только наполовину капиталистическая, а наполовину государственная, создает различные модели экономического развития. Это серьезный вызов, к тому же некоторые авторитарные особенности Китая привлекательны для бедных стран.
Д.К.: В «Источниках социальной власти» вы используете метафору «интерстициального возникновения», когда нечто новое образуется на разломах старых структур или в зазорах между ними. Можно ли с ее помощью описать происхождение коронавируса?
— Метафору «интерстициального возникновения» я использую только для обозначения создания или появления новых социальных сил, новых общественных движений, новых форм организации власти, которые имеют социальное происхождение. С коронавирусом все иначе — он имеет природное происхождение, хотя, с другой стороны, также является результатом определенной организации обществ: речь о глобализации, капитализме и потоке мигрантов, которые способствуют распространению вируса.
Д.К.: Тем не менее коронавирус принес в мир много неопределенности, а согласно вашей модели четырех источников власти в такие моменты особенно влиятельна власть идеологическая. Меняются ли сейчас ее конфигурации? Можно ли в целом зафиксировать некие новые исторические рельсы, которые проложил коронавирус, или это всего-навсего чрезвычайная ситуация, после которой жизнь рано или поздно вернется на круги своя?
— Думаю, пока еще слишком рано делать прогнозы. У нас нет ни малейшего представления, что будет с нынешней волной, будут ли последующие волны или что-то еще. Некоторые основания для оптимизма есть: например, статистика смертности снижается, и это обнадеживает. Значит, системы здравоохранения и производители вакцин и лекарств справляются, а риски смертельных исходов сокращаются.
Конечно, коронавирус оказался шоком не только для капитализма, но и для отдельно взятых людей, прежде всего для их частной жизни и трудовой биографии. Увы, воздействие коронавируса оказалось довольно реакционным, поскольку оно увеличило неравенство — неравенство между богатыми и бедными странами, а также внутри самих стран. Для бедных риск умереть или остаться без работы гораздо выше. При этом коронавирус не был какой-то революционной силой: никакого радикального переустройства общества он не принес. С другой стороны, он привел к активизации идеологических движений в ряде стран, которые наделали много шума, как, например, крайне правые в США со своими теориями заговора. Собственно, крайне правые конспирологи — единственная сила, которую укрепил коронавирусный кризис, а подобные движения вызывают беспокойство, поскольку они разрушают демократические нормы.
Д.К.: Могут ли разные реакции на пандемию, например, разные масштабы государственных антикризисных расходов привести к последующему расхождению национальных траекторий развития?
— Опять же, на мой взгляд, пока рано говорить об успешности, относительной успешности или провальности чьих-либо антикризисных мер. Есть страны, которые, как и ожидалось, справились с кризисом гораздо лучше других, например Франция. США тоже вполне преуспели, однако нельзя утверждать, что результаты были бы лучше, если бы в начале пандемии пост президента занимал не Трамп, а кто-нибудь другой.
Д.К.: Как правило, чрезвычайные ситуации усиливают режимы с чрезвычайными полномочиями. Может ли коронавирус подтолкнуть авторитарный поворот и возродить кристаллизацию того типа государства, что был характерен для эпохи модерна и, как еще недавно предполагалось, навсегда остался в прошлом? Не может ли выйти так, например, что успехи в создании вакцин приватизируют авторитарные режимы, хотя риски при этом будут распределенными? Ведь когда идет речь о спасении человеческих жизней в чрезвычайной ситуации, авторитаризм не кажется таким уж плохим.
— Да, разумеется. Разные режимы легитимизируют себя, пытаясь уклониться от ответственности. Примерно такую историю мы видим в Китае, но и Британия хорошо показала себя в борьбе с коронавирусом, а секрет успеха — в их системе здравоохранения. Выиграет от этого правительство консерваторов [которое прежде сокращало расходы на здравоохранение] — точнее, оно выиграет только в том случае, если с вирусом удастся справиться.
Напомню, когда я писал о Великой депрессии 1930-х годов, я отмечал, что один из ее результатов заключался в отстранении от власти всех правительств, которые были у власти на начало кризиса, причем независимо от того, левые они или правые. Похожим может быть и эффект коронавируса, с тем отличием, что сейчас все происходит на более коротком отрезке времени. Правительства будут пользоваться общественным доверием только в том случае, если им удастся справиться с ситуацией. В общем, это обычная политика.
Н.П.: Даже в речи на прошлогоднем Давосском форуме Путин отметил, что текущая ситуация напоминает ему 1930-е годы. Это обычное использование политиками красивых исторических аналогий или действительно есть структурные параллели?
— Не думаю, что сегодня стоит проводить аналогии именно с 1930-ми годами. Это был период не только экономической депрессии — свою роль тогда играло и наследие Первой мировой с немецким ревизионизмом, а также ревизионизмом других проигравших держав. В России ревизионизм принял иную форму, нежели в Германии, Австрии и Италии. Кроме того, кризис 1930-х годов был гораздо более глубоким в сравнении с сегодняшним. Все-таки сейчас развитые страны наслаждаются миром, а тогда послевоенный консенсус только начал складываться.
Д.К.: И все же, несмотря на то, что история не повторяется, какие уроки для наших дней можно извлечь из межвоенного периода?
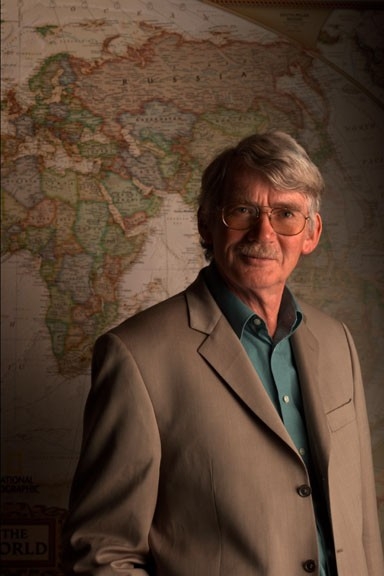 Майкл Манн.
Майкл Манн.
Фото: Joel Lipton / UCLA
— Прежде всего то, что экстремизм необходимо пресекать на ранней стадии его развития. По моему мнению, самой большой геополитической ошибкой межвоенного периода стала неспособность Британии, Франции и России прийти к соглашению для сдерживания Гитлера. Это на самом деле было нелегко, в том числе из-за специфического географического положения Польши. Вторая часть объяснения этого отсутствия компромисса заключается в том, что Британия и Франция ненавидели коммунизм больше, чем фашизм — они не видели в Гитлере серьезной угрозы.
Но можно ли извлечь из этого конкретный урок? Разумеется, нет. И история не повторяется, и новые кризисы носят иной характер — например, климатические изменения. Возникновение подобных фашизму радикальных движений вполне возможно и сегодня, например, в ответ на миграционную политику, и нативизм, стимулируемый миграционным кризисом, более вероятен, чем в случае климатических проблем. Последние, кстати, дают определенные привилегии северным странам, таким как Канада и Россия. По всей видимости, именно туда направятся потоки мигрантов из стран, в которых сельское хозяйство станет невозможным из-за климатических изменений.
Д.К.: Еще одна параллель между 1930-ми и современностью — завершение циклов британской и, соответственно, американской гегемоний. Межвоенный период был ознаменован отказом от золотого стандарта — следует ли нам ждать конца долларовой эры, о котором так много говорят в России?
— Британская гегемония закончилась до Великой депрессии, в самые первые десятилетия XX века, поскольку ВВП США и Германии уже были больше, чем у Британии. Правда, золотой стандарт продолжал существовать, но он не был фундаментальной проблемой, приведшей к Великой депрессии. Следует также напомнить, что сегодня США обладают куда большей гегемонистской властью, чем та, что когда-либо была у Великобритании, гегемония которой окончилась мирным путем. Никакого военного противостояния между Великобританией и США не было, так что мирный переход вполне возможен. Однако вероятность этого в случае возникновения новой гегемонии мала: США, думаю, будут пытаться сохранить свою гегемонию любой ценой. Помимо Китая, экономический, хотя и не военный вызов Америке еще может бросить Европа. Однако я настроен оптимистично. Не думаю, что наша ситуация приведет к тотальной войне, для которой необходимы особые условия, например, наращивание арсеналов ядерного оружия. Проблемы скорее принесут изменения климата — но они могут привести к массовому голоду, геноциду, а не к войне между великими державами.
Д.К.: Насколько болезненным для Европы, по вашему мнению, оказался Брекзит? И почему он все-таки состоялся: из-за желания лондонского Сити вновь стать мировой финансовой столицей или все дело в стремлении континентальной Европы активизировать торговые отношения с Китаем?
— Брекзит стал результатом двух причин. Первая — миграция. Это весьма сложная проблема, и большая часть изменений, связанных с Брекзитом, касается ограничения миграции в Великобританию из Евросоюза. Это не расизм в американском смысле слова, поскольку эмигранты из Европы в основном белые, но миграционный вопрос сыграл свою роль. Лейбористская партия теряла основную часть своего электората, весьма чувствительного к антиэмиграционному законодательству, и поддержала в этом вопросе консерваторов. В итоге ситуация оказалась весьма похожей на ту, что мы видели в США. Объяснить вторую причину несколько сложнее. Она касается суверенитета, принятия решений и исторически сложившейся островной традиции — обособленности Британии от континентальной Европы: должны ли британцы подчиняться Брюсселю или сами принимать решения по внутренним вопросам? Таким образом, тут скорее вопрос общих установок, а не экономического расчета и рациональности.
Н.П.: Давайте напоследок затронем одну важную для россиян тему — речь о тридцатилетии со дня распада СССР. Каков ваш взгляд на столь трагическое для многих из нас событие? Представляется, что это своего рода пример системного кризиса всех форм социальной власти в отдельно взятой стране, хотя ученые по большей части его не предвидели.
— Я не эксперт по Советскому Союзу, хотя и написал несколько лет назад небольшую статью по этой теме, освоив внушительный объем литературы, которую мне удалось отыскать. На мой взгляд, интересно противопоставлять СССР и Китай. Еще до распада Советского Союза китайский режим отделил экономическую власть от политической, а распад вашей страны лишь убедил китайский режим в правильности этого решения. Он не отказался полностью от контроля над экономикой, скорее децентрализовал ее — ведь чем сложнее экономика, тем сложнее ее централизованно контролировать. Это обеспечило относительную автономность экономической власти от политической власти партии, и Китай уцелел. Советский Союз попытался сделать то же самое и развалился. Как бы республиканцы, да отчасти и демократы, ни пытались в то время подчеркнуть роль навязанной США гонки вооружений в распаде СССР, это лишь часть ответа, а основные причины следует искать прежде всего во внутренней динамике советского государства.