Колючки чертополоха суть почки
Алексей Волевач — о преодолении постмодернизма в американской поэзии
Слово «битники» зачастую употребляется в двух значениях. В одном из них — для обозначения круга авторов, который мы очертили в прошлом материале (Аллен Гинзберг, Джек Керуак и др.). Во втором, более расширительном, — для описания всей американской послевоенной поэзии, развивавшейся в рамках традиции Уолта Уитмена и ориентированной на поиск новой свободы — поэзии — в условиях изменившегося мира. Речь идет о целом ряде поэтических движений, одновременно разрабатывавших различные грани нового стиха. Так что если битники во главе с Гинзбергом и стали символом перехода культуры от модерна к постмодерну, они не были единственной группой, благодаря которой этот переход осуществился.
Одно из таких течений представляют поэты колледжа Black Mountain. В первой половине 1950-х годов они разработали идею «проективного стиха», а позже выходцы из этой поэтической школы стали знаковыми фигурами, без которых невозможно представить литературу американского постмодерна. В первую очередь это Роберт Крили, главный редактор журнала Black Mountain Review, в котором и публиковались работы поэтов-«черногорцев». К числу главных участников движения принадлежат также Роберт Данкен и ректор колледжа Чарлз Олсон.
Именно Олсон в 1950 году в статье под названием «Проективный стих» предложил новую форму американской поэзии, базирующуюся на традиции объективизма (в частности, работах Уильяма Карлоса Уильямса и Эзры Паунда). Проективный стих в описании Олсона строится на отказе от ритмически организованной строки, рифмы и строфики («закрытой формы») в пользу пространственной композиции («формы открытой»). Такой способ организации текста подразумевает работу по всему полю страницы («composition by field»), с той расстановкой отбивки и слова, которую поэту диктует само стихотворение. Олсон настаивает: стихотворение — это энергия, полученная поэтом, и главным средством ее передачи служит дыхание автора, сообщаемое читателю.
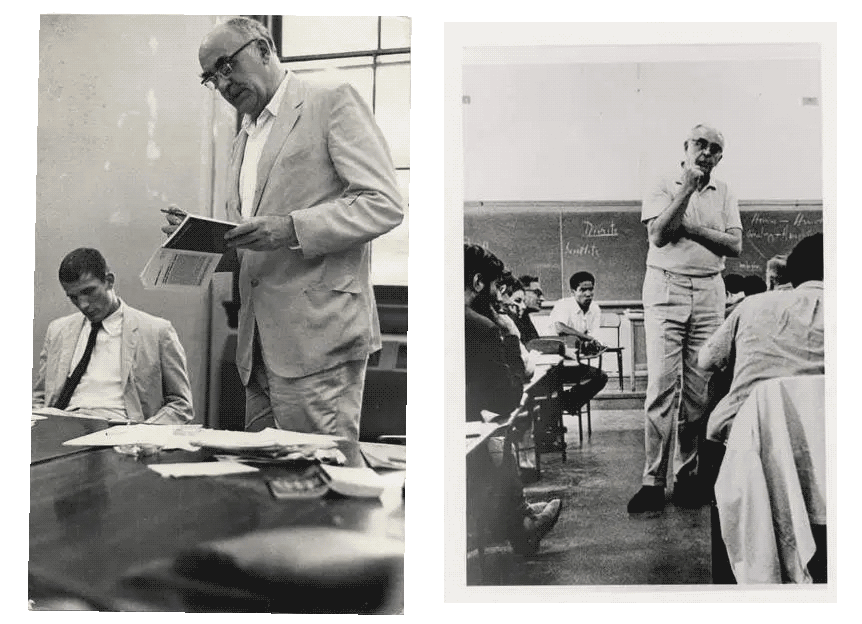 Чарлз Олсон
Чарлз Олсон
Поэт, продолжая мысль Олсона, становится точкой, через которую стихотворение из «надлунного» мира идей переходит в материальный мир. Значимость здесь приобретает спонтанность — как восприятия этой идеи, так и переложения мысли в словесный ряд. И спонтанность эта имеет скорее музыкальный, нежели литературный характер: автор выбирает слог (слово), близкий по звучанию и долготе тому, что он услышал, — и записывает на листе бумаги, располагая как ноту на еще не заполненном стане.
Роберт Данкен
Отрывок из поэмы «Сова — единственная птица, что поэзии достойна»
РИСУНОК 1
Гласные — физические
коридоры воображения,
страстно испускающие
пламенные вздохи. В стихотвореньях
гласные возникают подобно
трепыханьям совы,
в паутину попавшей, и нам дают
ужасающие намеки на
вечную жизнь.
РИСУНОК 2
Согласные — церковь из
сцепленных рук, остановки
и интервалы в движениях пальцев,
что дух приговаривают
к отображению пространства и времени.
(Перевод Дениса Борисова)
Если Олсон разработал концепцию и в своих стихах представил ее «авторское» воплощение, Роберт Данкен стал одним из наиболее заметных поэтов-проективистов, значимой фигурой не только для блэк-маунтинского кружка, но и для поэтического ренессанса Сан-Франциско. Это еще одно течение, лежащее в широком поле «битничества». Для него характерно взаимодействие с литературами европейского модерна и Востока, однако и оно опирается на традицию Уитмена и обращается к синтезу — как и поэзия битников — не ради подражания другой традиции, но для поиска новых путей развития национальной американской поэзии. И если движение поэтов Сан-Франциско в этом смысле продолжает поэтику «черногорцев», школа Новых формалистов, наследующая Нью-йоркской поэтической школе, противопоставляла себя авторам круга Black Mountain. Следуя терминологии Чарлза Олсона, Новые формалисты создавали стихи закрытой структуры (используя, как правило, форму сонета) и тем самым наследовали архаической традиции — в противовес Данкену, развивавшему основные теоретические идеи Олсона о стихотворении открытой структуры.
Роберт Данкен
Отрывок из «Стихотворение — нечто естественное»
Ни порок, ни добродетель
не движут стихами. «Они прилетают
и умирают
из года в год
на скалах».
Стихотворение
питается мыслью, чувством, порывом,
творит само себя,
это душевная неотложность прыжка в темноту.
Его красота во внутреннем сопротивлении
истокам,
в нежелании отдаться потоку,
это зов, на который мы откликаемся
из самой дальней дали,
изначальный рев,
из которого возникает новейший мир,
это лосось, теряющий
созревшие ядра,
но одолевающий речные пороги,
обессилевший, слепой.
(Перевод Павла Грушко)
Послевоенная американская поэзия пестрит такими фигурами, как Данкен: его можно причислить к нескольким поэтическим течениям, что объясняется живым соразвитием группировок в поиске нового художественного языка. Другой поэт, соединяющий и битников в узком смысле слова, и «черногорцев», и будущую «школу языка» — вышеупомянутый Роберт Крили, редактор журнала Black Mountain Review. Ему принадлежит мысль, использованная Олсеном: «форма — не более чем продолжение содержания». Но если в проективном стихе эта идея была воспринята буквально — как новый способ организации текста, — то в отношении поэзии Крили она становится своего рода ключом, направляющим читателя на правильное прочтение стихотворения, и осмысливается метафорически.
 Роберт Крили
Роберт Крили
Ломаные фразы стихов Крили — «вершины», выступающие из пространства смыслов на поверхность человеческого восприятия. Их можно назвать точками входа в стихотворение: так форма, непривычная в отношении синтаксиса, погружает читателя в содержание. При этом последнее целенаправленно не выражено в словах полностью, а лежит за и между ними — поскольку содержание таких стихов в принципе не поддается адекватному переводу в словесную форму.
Роберт Крили
«Цветок»
Чую тревога растет
как цветы
в лесу куда
не ходит никто
каждый взрыв бесподобен
замкнутый в крохотном
неощутимом ростке
и причиняет боль
боль цветок как этот
или этот
тот
этот.
(Перевод Павла Грушко)
Крили снимает пространственную организацию стиха и помещает ее в само слово, движется от уровня формы к содержанию, что позволяет ему исследовать саму природу языка, механизм формирования смыслов. Теперь стихотворение не просто описывает действительность, но обнажает закон ее работы. И поскольку любое литературное произведение становится отражением отношений, в которые вступают человек и мир (вспомним здесь, что язык сам по себе в первую очередь является инструментом познания мира, а уже потом — средством коммуникации), стихи Крили позволяют увидеть Природу и человеческое чувство под иным углом, почувствовать мир иначе. К достижению этого результата стремилась работа всех «битнических» движений, и Крили предложил вариант разрешения этой проблемы, сделав размышление о природе языка главной составляющей стихотворения.
Роберт Крили
«Язык»
Поместив я
люблю тебя где-
то у тебя
на зубах и
в глазах — кусни
но только
постарайся не
пораниться — ты
желаешь слишком
много и слишком
мало слова
говорят все
люблю
тебя
еще раз
к чему тогда
вся
пустота а чтобы
полниться полниться
все слова
и слова
дыры в них
саднят
речь тот же рот.
(Перевод Валерия Минушина)
С одной стороны, Крили наследует э. э. каммингсу — первому поэту, стихи которого можно описать как «поэзию языка», с другой — становится связующим звеном между «битническими» поэтическими течениями и «школой языка», возникшей вокруг журналов This и L=A=N=G=U=A=G=E в 70-х годах. Поэтическую работу авторов этого круга можно назвать реакцией на достижения битников: отталкиваясь от поэтики последних, они наследуют Крили и также делают основой стиха не мысль, но язык. И если поэзия Крили сохраняет при этом связь с литературой, поэты этого движения в большей степени обращены к философскому аспекту языкового творчества.
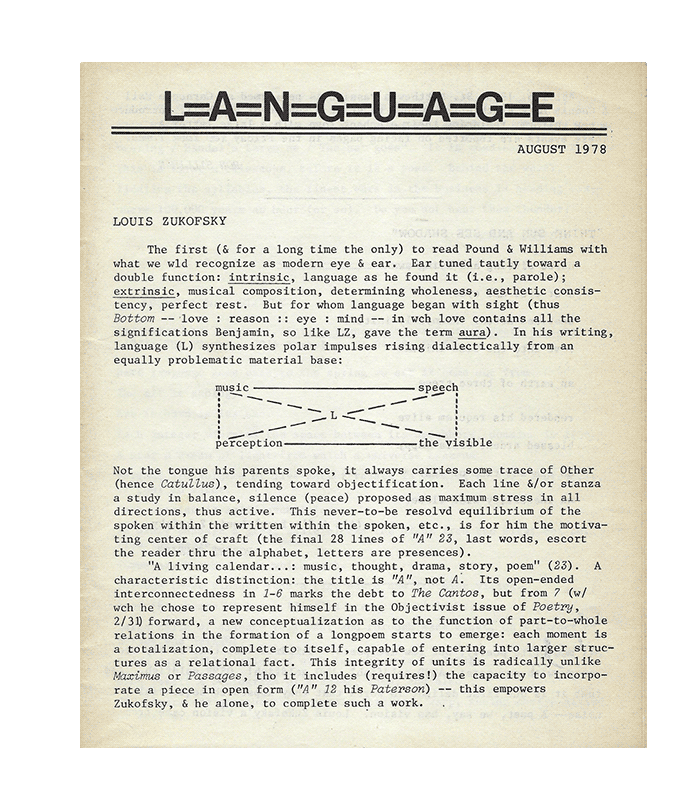 Одной из главных фигур «школы языка» стала Лин Хеджинян. В предисловии к книге «Язык исследования» она пишет: «Язык — не более чем значение, а значения — не более чем поток контекстов. Эти контексты нечасто сливаются в изображения, нечасто поддаются словесному описанию. Они — это переходы, преобразования, бесконечные лучи, тянущиеся от взрыва к контакту» (перевод наш. — А. В.). Центральное место в ее поэтике занимает исследование этих переходных состояний, не укладывающихся в слова. Хеджинян воссоздает их благодаря ассоциативному строю своих текстов, которые не описывают действительность, но показывают, как ее ощущает субъект, контрапунктом между Природой и сознанием которого служит язык:
Одной из главных фигур «школы языка» стала Лин Хеджинян. В предисловии к книге «Язык исследования» она пишет: «Язык — не более чем значение, а значения — не более чем поток контекстов. Эти контексты нечасто сливаются в изображения, нечасто поддаются словесному описанию. Они — это переходы, преобразования, бесконечные лучи, тянущиеся от взрыва к контакту» (перевод наш. — А. В.). Центральное место в ее поэтике занимает исследование этих переходных состояний, не укладывающихся в слова. Хеджинян воссоздает их благодаря ассоциативному строю своих текстов, которые не описывают действительность, но показывают, как ее ощущает субъект, контрапунктом между Природой и сознанием которого служит язык:
Лин Хеджинян
Отрывок из работы «Склоны»
Здесь могла бы быть прочтена связь частиц: белая лошадь, колосьев хруст, копыта. Язык набок. Колючки чертополоха суть почки. Птица возносит себя, оставляя пролом за собою, дыру, не ведущую к завершенью. «А» словно различие между грязью и формой, проработанных отражениями, стенами горизонтов песка, объемом и светом их кожи. Ожиданье скалы над терпеньем ручья. Обширный итог — могила без места. Я буду пустой, ничем, совершенным отсутствием. Бесконечность прервана облаком. Предсказуема, в близорукости предчувствую цвет для настоящего времени в небе.
(Перевод Аркадия Драгомощенко)
Как мы видим из приведенного выше отрывка, граница между поэзий и прозой истончилась. Поэтами «школы языка» была предложена новая форма организации поэтического текста: Рон Силлиман, один из представителей движения, выдвинул «новое предложение» как основную форму для создания стихов в рамках языковой поэзии. Новое предложение, написанное с поэтической интонацией и намеренными синтаксическими нарушениями, эту интонацию создающими, противопоставлено классическому делению стиха на строки: предложение здесь становится особой структурой, в рамках которой смысл передается за счет ассоциативных связей, обнаженных впоследствии с помощью синтаксических преобразований в тексте.
 Лин Хеджинян и Аркадий Драгомощенко, Санкт-Петербург.
Лин Хеджинян и Аркадий Драгомощенко, Санкт-Петербург.
Фото: © Алексей Парщиков
Тот факт, что поэзия, созданная после битников, выпала из круга чтения широкой публики, обоснован спецификой постмодернистского искусства в целом: оно углубляется в частный аспект творчества или культуры, и это углубление не всегда находит всеобщее понимание. Для адекватного восприятия таких текстов необходимо знание контекста — какие проблемы решает данная группировка, каких авторов цитирует. Начатое в языковой поэзии обращение к ассоциациям впоследствии приобретает иной, более грубый характер и становится культурной отсылкой, без понимания которой произведение не «срабатывает», — своего рода проверкой читателя на интеллектуальность. С одной стороны, можно сказать, что такое искусство становится самодостаточной «вещью в себе», в принципе не ориентированной на чужое восприятие; оно решает проблемы формы и содержания, но существует как факт действительности, лишенный эмпатии, ничего не привносящий в мир. С другой стороны, его можно считать как попытку уклониться от внимания непосвященной аудитории. Так или иначе, развитие лишь одного из двух начал — интеллектуального или эмоционального — не создаст гармоничного произведения искусства: в первом случае оно окажется заумным, во втором — инфантильным. Важен синтез этих двух начал.
В этом свете особый интерес приобретает фигура Мэри Оливер. Ее творчество — иной вариант завершения поисков, которые предпринимали поэты XX века. Ей удалось найти интонации, слова и сам метод стихосложения, позволившие поэзии выйти из состояния неопределенности. Спор о природе поэтического, развернувшийся между двумя американскими традициями — национальной и ориентированной на европейское искусство, — при обращении к стихам Оливер кажется несущественным. На скептическое отношение постмодерна к тому, способен ли язык адекватно передавать и создавать смыслы после Второй мировой войны, ею дан утвердительный ответ.
Пусть хронологически Оливер совпала с поэтами обеих традиций, ее стихи не высказывание в рамках бурной дискуссии; она развивалась параллельно со всеми перечисленными выше авторами, но сохраняла самобытность и не вступала с ними в контакт. Преемственность или диалог с современниками тут условны, поскольку базируются лишь на внешнем сходстве приемов. Пожалуй, к ней близка Луиза Глюк, но с одной оговоркой: если Глюк сочиняет внешне простые стихи, ориентируясь на общемировой поэтический контекст (в частности, европейский — вспомним античные образы в «Диком ирисе»), то стихи Оливер обращаются к истории американской поэзии непосредственно. Она пишет о мире, который видит американец, образами Уитмена, а не Гомера или Сапфо. Оливер нельзя причислить к какой бы то ни было поэтической группировке; последние по преимуществу формируются в городской среде, тогда как город как категория в ее стихах отсутствует — а вместе с ним отсутствуют его проблемы и споры о природе искусства.
Мэри Оливер
С благодарностью полевому воробью, чей голос так прост и изящен
Я не живу в счастье или комфорте
с премудростью нашего времени.
Разговоры все о компьютерах,
новости все о бомбах и крови.
Этим утром, в росистом поле,
я нашла спрятанное гнездо.
Оно хранило четыре теплых, пятнистых яйца.
Я коснулась их.
Трепетно отступила,
почувствовав что-то куда чудесней,
чем все электричество Нью-Йорк Сити.
(Перевод Алексея Волевача)
 Мэри Оливер
Мэри Оливер
Здесь необходимо обозначить развилку, перед которой оказалась национальная американская поэзия. Битники в широком смысле слова и «школа языка» исследуют новые способы письма; их традиция корнями уходит к Сильвии Плат и э. э. каммингсу. В свою очередь Мэри Оливер переосмысливает демократический стих Уитмена в современном контексте; игнорируя последние достижения современной поэзии, она обращается напрямую к истоку и позволяет всем первичным «семенам идей» раскрыться и прорасти. Оливер своим творчеством отменяет достижения битников не столько в поэтическом, сколько в общекультурном смысле слова. Если стихи первых представляют собой поэзию американского постмодерна, то произведения Оливер являют иное ощущение мира, пространства, времени и Природы.
Обращаясь к творчеству Уитмена, Уильямса и каммингса, мы рассуждали о важности отношений, в которые вступают субъект и объект; со времен Мелвилла, Торо и Уитмена эта проблема была центральной для американской культуры. Стихи Оливер — логическое продолжение этого рассуждения; их можно считать финальным высказыванием в дискуссии, тянувшейся полтора столетия.
Методологически стихи Оливер близки к имажизму Уильямса — с той оговоркой, что изображение здесь не становится главным предметом стихотворения. Уильямс через изображение частного аспекта жизни выходит на обозрение всеобщего, и Оливер также обращается ко всеобщему — но в простейшем значении слова. Если Уильямс изображал в первую очередь мир, знакомый американцу, Оливер представляет мир, данный каждому живому существу в равной степени — Природу. Соприкосновение поэта с Природой запускает механизм узнавания и способствует сближению стихотворения и читателя; становится точкой, в которой начинается стихотворчество, диалог:
Мэри Оливер
Я спускаюсь на берег
Я спускаюсь на берег утром,
и, в зависимости от часа, волны
то прибывают, то убывают,
и я говорю, о, я несчастна,
скажи —
скажите, что же мне делать? И море отвечает
своим прелестным голосом:
Простите, у меня есть дела.
(Перевод Камиллы Бакировой)
Здесь и происходит полное раскрытие субъектно-объектной темы. Уильямс познавал внутреннее через внешнее; каммингс — через уравнивание фигуры человека, до этого стоявшей «над», с окружающим миром. Оливер же сливает субъекта и Природу воедино. В ее поэтике одно без другого немыслимо, как форма стихотворения немыслима без его содержания. Соединение субъекта и объекта позволяет поэту взглянуть на мир чужими глазами — так, как его видят животные, деревья и реки. Она исследует мир изнутри, пишет о нем не как об ушедшем детстве, романтической поре, когда люди жили на лоне природы и были связаны с ней. Оливер реализует главную идею Генри Торо, изложенную в произведении «Уолден, или Жизнь в лесу».
Оливер часто называли «старомодной», с ее ежедневными прогулками по лесу, неприятием социальных тем и общей ориентацией на поэзию прошлого века. Однако она стала «любимым поэтом Америки», поскольку говорила на одном языке с читающей публикой, не скатываясь в инфантильность или чрезмерную искусственность. Вопрос о том, возможна ли серьезная поэзия без ухода в контекстуальность и «заумь», оказался снят. Аскетические по своему строению — каждый текст держится на одном-двух приемах, — эти стихи рисуют докатастрофическое состояние мира, вечный миф о цивилизации, живущей в одном ритме с Природой, как живут с ней птицы, цветы и звери. «Я принимаю природу такою, какова она есть, я позволяю ей во всякое время, всегда / Говорить невозбранно с первобытную силой», — писал Уолт Уитмен в «Песни о себе» (перевод Корнея Чуковского). Утилитарное отношение к поэзии здесь сведено к минимуму и верно не только для ее стихов, но и для короткой прозы:
Мэри Оливер
Как я хожу в лес
Обычно я хожу в лес одна, совсем без друзей; все они улыбчивы, говорливы, а значит, неподходящие.
Не хочу, чтобы кто-то видел, как я говорю с дроздом или обнимаю старый черный дуб. Я молюсь по-своему, как и, без сомнений, ты.
К тому же в одиночестве я могу стать невидимой. Могу сидеть на вершине дюны, недвижимая, как ростки сорняков, пока мимо не пробегут беззаботные лисы. Могу слышать почти неслышимую песнь роз.
Если ты когда-либо ходил в лес со мной, я, должно быть, очень тебя люблю.
(Перевод Алексея Волевача)
Так традиция, заложенная Уитменом, Торо и Мелвиллом, спустя полтора века вернулась к своему истоку и реализовала идеи своих создателей.
* * *
Современная американская поэзия продолжает развиваться, появляются новые идеи и школы, меняется понимание самой сути поэтического. Сегодня существенно влияние слэм-поэзии в лице сообщества «Button Poetry», публикующего видеозаписи, на которых молодые авторы декламируют свои стихи. Чаще всего это исповедальная лирика, берущая начало в традиции Сильвии Плат (Нил Хилборн), реже — изящное выражение восторга от создания произведения, стремящегося к гармонии (Сара Кей). Интернет-поэзия, в первую очередь Tumblr- и Instagram poetry, колеблется между неосознанной инфантильностью и политической актуальностью, вытесняющей художественное начало из пространства стихотворения (Рупи Каур). Первые плоды современных поэтических практик уже собраны: в «Sweetdark», втором сборнике своих стихотворений, Саванна Браун, начинавшая в русле слэм-поэзии, предстает как автор со своей сложившейся поэтикой, которая стремится к суггестии — ее стихи погружают читателя в состояние сомнамбулической восприимчивости и в то же время посвящены актуальной проблематике, осмысленной эстетически.
Саванна Браун
Отрывок из стихотворения «Вселенная может перестать расширяться через пять миллиардов лет»
говоришь «раньше»
не чувствуется правдивым, что верно,
не потому что не было ничего
особенного в зарослях вереска
ранним вечером, не потому что
наши подбородки, липкие после сидра, —
приметный цветок в
дрожащем затруднении жизни,
но потому, что слишком обыденно —
даже позволить себе вспомнить,
потому что однажды нам будет больно
от любого июньского воскресенья,
где солнце — верная
штука, и воздух на вкус как теплая
трава, и не было ни одного
намека, что космос однажды
схлопнется как твои глаза, туго
и с наслаждением.
(Перевод Алексея Волевача)
За столь короткое для литературы время — два века — американская национальная поэзия прошла неоднородный и качественно новый для искусства путь. Так Дерево Уитмена выросло и широко раскинуло свою крону над землей — и нам еще предстоит увидеть, какие цветы распустятся на его ветвях.