«Книги — это моя внешняя память»
Читательская биография Александры Архиповой
«Бабушка переживала, что я читаю приключенческие романы и „Занимательную физику”»
Я родилась в 1976 году в обычной советской семье — я принадлежу к последнему советскому поколению. Те книжки, которые читала маленькая Саша Архипова, читали также Маша Петрова и Петя Иванов. Круг чтения был довольно стандартизированным, а вопрос выбора книги упирался в то, что́ тебе достали почитать и на какое время — ночь, день, два дня. Это было очень важно.
Когда я училась в обычной советской школе, в математическом классе, моя бабушка страшно переживала, что я в основном читаю либо приключенческие романы, либо книжки вроде «Занимательной физики» или «Химия и жизнь», либо решаю задачки. И она, практически в буквальном смысле выкрутив мне руки, отдала меня в литературный кружок Московского Дворца пионеров, который и сформировал меня. Мне было 11 лет, и я там была самая младшая. Когда я пришла на первое занятие, все бурно обсуждали «Морфологию сказки» Проппа. Я всё это послушала и впала в совершеннейшую прострацию. Помню, вышла из Дворца пионеров, села на трамвай, доехала до дома, встала посреди дороги и так глубоко задумалась, что меня чуть не сбила машина.
Тогда я поняла, что любое явление можно объяснить. Нужно только приобрести определенную оптику чтения, а дальше — дело техники. Антропология, социология, филология — это науки понимания понимания: ты должен понимать, как люди понимают мир. Когда я это осознала, для меня открылся мир книг — разных. В литературном кружке мы ползанятия разбирали, например, стихотворение Ахматовой, потом читали и обсуждали стихи, которые писали мои соклубники, а потом читали и обсуждали какую-нибудь научную книжку. Было всё вместе. Летом мы ездили в этнографические фольклорные экспедиции, а зимой у нас были музейные практики, мы много учились этому пониманию понимания.
Почему про это рассказываю? В этом кружке я чувствовала себя немножко изгоем, потому что, к примеру, плохо понимала цитаты из Ахматовой. Томик Ахматовой тогда был чудовищной редкостью. Ахматовой не разбрасывались, Гумилев только начинал печататься. Поэтому если ты цитировал Мандельштама или Пастернака, это автоматически указывало на твою принадлежность к слою интеллигенции. Книги сильно маркировали людей как принадлежащих к одной группе или не принадлежащих. Я помню, когда на первой «свечке» (когда все садились и читали стихи) многие читали наизусть Пастернака, а я от отчаяния прочитала стихотворение из приключенческого романа Стивенсона «Черная стрела», на меня посмотрели как на маленького и очень глупого ребенка, я помню этот взгляд до сих пор. Тогда я поняла ценность такой вещи в формировании подросткового социального капитала, как знание цитаты. Ты не знаешь цитату — ты как бы не наш.
Кроме этого фактора, надо знать другой фактор, который формировал мое читательское поколение. Сейчас мы часто говорим, что вот эта книжка уже не модная, после нее уже много чего вышло, а тогда так нельзя было сказать — книг в принципе было мало. Например, когда я приехала к прабабушке в Батуми, я нашла у нее на чердаке ящик с полусгнившими книгами 40–50-х годов — вот их я и читала. Там были истории про пионеров-героев, какие-то детские повести, трилогия о Ваське Трубачеве и товарищах Валентины Осеевой — очень хорошая, кстати, серия про то, как целый класс оказывается в 1941 году на Украине, под немцами. Этот класс ведет партизанскую борьбу, а потом возвращается в подмосковный городок и вынужден сам восстанавливать свою школу. При всех советских «поклонах» и советском языке по тем меркам в ней была довольно искренняя интонация.
«У Даши Демуровой я выпрашивала книги на ночь и читала тайно под фонариком»
Где-то около 11 лет бабушка и дедушка подарили мне «Библиотеку мировой литературы для детей», и это было невероятное счастье. Тома из нее выписывались по специальному закрытому списку, а поскольку мой дедушка принадлежал к советской номенклатуре, то он мне приносил этот список, и я могла отмечать понравившиеся книги. Эти томики детской литературы были сокровищами, я их зачитывала до дыр, поэтому они такого темного цвета — замусоленные, залистанные. До сих пор стоят у меня дома. Там были Майн Рид, Джозеф Конрад, там был роман «Овод», там вообще было всё, что тогда называлось словом «детская литература». А тогда этим словом называлась не адаптированная под нужды тинэйджеров литература, а то, что в принципе допустимо дать в руки ребенку. «Пышечку» Мопассана не давали детям, а так, в принципе, всё остальное давали.
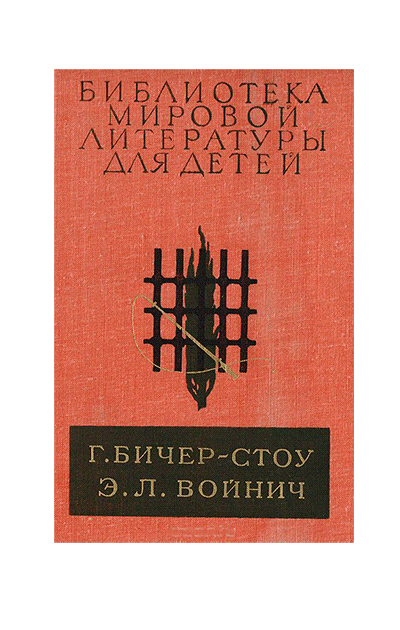 А еще существовал обмен книжек. Я училась с прекрасной девушкой Дашей Демуровой, она была племянницей Нины Демуровой — известной переводчицы английской литературы. К счастью, Нина Демурова давала своей любимой племяннице свежие книжки со своими переводами, я у Даши их выпрашивала на ночь, читала тайно под фонариком, а утром возвращала. Я помню, как однажды испытала ужас. Мне дали в переводе прекрасный детский роман «Белая кокарда» Корделла об ирландском восстании XVIII века, поразивший меня какой-то несоветской реалистичностью, и в книжке была свежая типографская краска, которую я смазала пальцем — образовалось пятно. Я чудовищно переживала, что это заметят и больше никогда не дадут в руки книжку. Мое сознание работало так: если я не получу книжку таким путем, я не получу ее никогда.
А еще существовал обмен книжек. Я училась с прекрасной девушкой Дашей Демуровой, она была племянницей Нины Демуровой — известной переводчицы английской литературы. К счастью, Нина Демурова давала своей любимой племяннице свежие книжки со своими переводами, я у Даши их выпрашивала на ночь, читала тайно под фонариком, а утром возвращала. Я помню, как однажды испытала ужас. Мне дали в переводе прекрасный детский роман «Белая кокарда» Корделла об ирландском восстании XVIII века, поразивший меня какой-то несоветской реалистичностью, и в книжке была свежая типографская краска, которую я смазала пальцем — образовалось пятно. Я чудовищно переживала, что это заметят и больше никогда не дадут в руки книжку. Мое сознание работало так: если я не получу книжку таким путем, я не получу ее никогда.
«В 13 лет передо мной лежали Солженицын, Оруэлл и Конквест»
В 1989 году я прочитала Солженицына, и мне открылась русская литература, связанная с репрессиями. «Иван Денисович» на меня не произвел впечатления, впечатление произвел «Архипелаг ГУЛАГ». Моя мать была переводчиком, поэтому у нее были друзья-переводчики, которые ездили за границу и привозили тамиздат. Зная, что я читаю Солженицына, мама мне выдала том «Большого террора» Роберта Конквеста, он был сделан на ротопринте.
Но сперва я прочла Оруэлла, он первый попал мне в руки, причем не с начала романа, а с части про Министерство правды. Потом я начала читать «Архипелаг ГУЛАГ» и вдруг поняла, что не отличаю мир Солженицына, который описывает историческую реальность, от мира Оруэлла, а ведь это антиутопия, сатира, это вымышленный, с сознательным упрощением мир. Всё слилось. Помню, что я сидела на кухне читала Солженицына, а дедушка рядом читал Чехова. Он пил крепкий чай и курил, я пила чай послабее и не курила. Мой дедушка был генерал-майор КГБ в отставке. Помню, что я читаю про всё, что описывает Солженицын, и посматриваю на дедушку, опускаю глаза и продолжаю читать. Было удивительно трудно соотнести то, что описывается в «Архипелаге», с тем фактом, что организация, в которой работал мой дедушка, имеет к этому отношение. В какой-то момент я не вытерпела и спросила его, как он относится к тому, что тут написано? Он, к его чести, не стал ни порочить Солженицына, что среди кагэбшников было распространено, и не стал говорить, что он его не читал. Дедушка помолчал и сказал: «Лес рубят — щепки летят», но «вообще про то, что тут описано, ходило много слухов, но нам говорили, что всё это неправда». Такой ответ дал. Он работал в КГБ с 1954 года, в постсталинское время.
«Некоторые книжки я рассматривала как серьезное лекарство от депрессии»
 Детские книги, которые выходили в то время, я тоже читала. Я помню, как в 15 или 16 лет дедушка принес мне только что вышедшую, пахнущую типографией книжку Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника». Сказал: только не говори бабушке, я знаю, что ты будешь читать ее ночью. Я действительно прочитала ее за ночь с диким восторгом. В раннем детстве я заикалась, и у меня выработалось компенсаторное скорочтение, поэтому прочитать две книжки за ночь — это не проблема (но и не очень классно, это мешает жить на долгой дистанции, а еще, когда ты читаешь быстро, ты перестаешь понимать текст).
Детские книги, которые выходили в то время, я тоже читала. Я помню, как в 15 или 16 лет дедушка принес мне только что вышедшую, пахнущую типографией книжку Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника». Сказал: только не говори бабушке, я знаю, что ты будешь читать ее ночью. Я действительно прочитала ее за ночь с диким восторгом. В раннем детстве я заикалась, и у меня выработалось компенсаторное скорочтение, поэтому прочитать две книжки за ночь — это не проблема (но и не очень классно, это мешает жить на долгой дистанции, а еще, когда ты читаешь быстро, ты перестаешь понимать текст).
Некоторые книжки я рассматривала как серьезное лекарство от депрессии. Когда я была очень уставшая или злилась на кого-то, то могла бесконечно перечитывать, например, «Малыша и Карлсона», потому что мне было очень смешно. Или все книжки Джеральда Даррелла о зверях и людях. Они безумно смешные и оптимистичные, поэтому я их перечитывала вновь, и вновь, и вновь, чтобы получить кайф, получить прилив эндорфинов в мозг.
С другой стороны, мне в каком-то возрасте страшно нравились стихи Ахматовой и Гумилева, но, конечно, я их читала не для получения эндорфина, а потому что они давали некоторое чувство красоты. С той поры я еще полюбила читать мемуары, в 90-е их стало много выходить, и я залпом их читала. Меня подкупало то, что в них были реальные рассказы людей, а не литература. Меня всегда мучало, что автор может сделать с вымышленной фигурой все, что хочет, чтобы нарисовать читателю воображаемый мир, но, сколько бы там ни переживали и ни плакали, все равно это был воображаемый мир. А Даррелл — это реальный человек, его проблемы реальные. И условный Федор Иванов, который сидел в КарЛАГе всю свою жизнь, тоже реальный человек, поэтому его рассказ мне казался ценнее. А вот документальное кино я при этом не люблю, не знаю почему.
Все свое детство я ненавидела, когда меня выгоняли гулять и заниматься спортом, вместо этого я все время читала — и так приобрела репутацию читающей девушки. И на мой стандартный советский репертуар (Павлик Морозов, пионер-героя Дубинин, «Малыш и Карлсон») накладывались Солженицын и Оруэлл, выпуски альманаха «Эврика», журнал «Химия и жизнь» и многое другое.
«Мои однокурсники делились на тех, для кого аббревиатура „НЛО” означала инопланетян, и на тех, для кого аббревиатура „НЛО” — это журнал»
Если бы моей первой книжкой была не «Морфология сказки» Проппа, а какая-нибудь другая, — возможно, моя жизнь была бы построена по-другому. Но она крайне логична и она убедила меня в том, что мир и поведение людей можно познать алгеброй и логическим пониманием, приучила читать научную литературу. С 8-го класса я пошла в гуманитарный лицей «Воробьевы горы», у нас была очень сильная программа, мы много читали и художественной, и научной литературы. Когда я пришла на 1-й курс историко-филологического факультета РГГУ, у меня были конспекты, которым все сильно завидовали, потому что в них были детским аккуратным почерком законспектированы книги, которые некоторые студенты читали на 3-4 курсе.
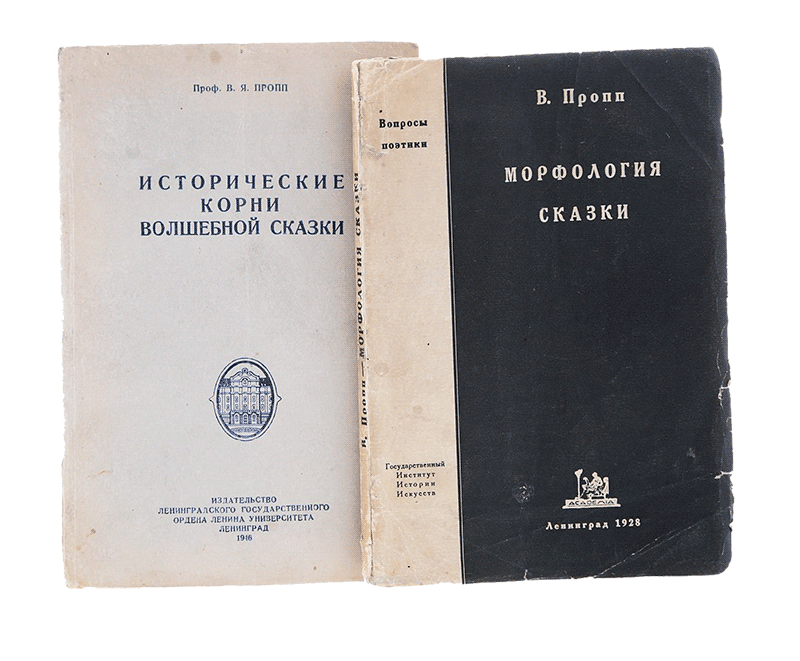 Конечно, профессионально на меня очень сильно повлияла книга о Средневековье Арона Яковлевича Гуревича. И конечно, Юрий Лотман. Есть замечательная байка семиотика Юрия Левина про то, что, когда в 1964 году вышла книга лекций Лотмана про структуральную поэтику, в Москве за ней все так охотились, что даже предлагали в обмен Библию. А Библию, как вы понимаете, и обменять было опасно, и держать дома тоже не очень хорошо. Для моих ровесников в 90-е годы знание о том, что существует Лотман и его «Беседы о русской культуре», его Комментарий к «Евгению Онегину», делило людей на две категории: те, которые знают, и те, которые не знают. Ты очень хотел принадлежать к миру, который знает.
Конечно, профессионально на меня очень сильно повлияла книга о Средневековье Арона Яковлевича Гуревича. И конечно, Юрий Лотман. Есть замечательная байка семиотика Юрия Левина про то, что, когда в 1964 году вышла книга лекций Лотмана про структуральную поэтику, в Москве за ней все так охотились, что даже предлагали в обмен Библию. А Библию, как вы понимаете, и обменять было опасно, и держать дома тоже не очень хорошо. Для моих ровесников в 90-е годы знание о том, что существует Лотман и его «Беседы о русской культуре», его Комментарий к «Евгению Онегину», делило людей на две категории: те, которые знают, и те, которые не знают. Ты очень хотел принадлежать к миру, который знает.
 Конечно, повлиял Михаил Гаспаров. Помню, я была в 11-м классе, тогда вышел «Русский стих» Гаспарова, и наш учитель Константин Поливанов принес книгу в класс и сказал: вот книжка Гаспарова «Русские стихи», ну вы там исправьте — должно быть «Русский стих», Михаил Леонович просил исправить. И сама эта фраза показала возможность какого-то контакта с ним. Что это не просто небожитель, а есть люди, которые с ним знакомы.
Конечно, повлиял Михаил Гаспаров. Помню, я была в 11-м классе, тогда вышел «Русский стих» Гаспарова, и наш учитель Константин Поливанов принес книгу в класс и сказал: вот книжка Гаспарова «Русские стихи», ну вы там исправьте — должно быть «Русский стих», Михаил Леонович просил исправить. И сама эта фраза показала возможность какого-то контакта с ним. Что это не просто небожитель, а есть люди, которые с ним знакомы.
В то время, старшеклассниками, мы не то чтобы ходили в библиотеку и выбирали книги, нет, у нас были любимые учителя, которые говорили: а вот сейчас вы должны прочитать новую книжку, потому что с ней ваш мир будет другим. Мы жили на советах о том, что надо читать. Я плохо себе представляла, как можно существовать по-другому. Это такая характерная особенность русской литературы, где не было какого-то официального книжного рынка, не было, грубо говоря, литературных критиков и блогеров, которые писали бы обзоры, и ты бы узнавал о книжке Пети Иванова, потому что каждый второй написал о нем в фейсбуке. А тогда этого не было. Когда я поступила на первый курс историко-филологического факультета, мои однокурсники делились на тех, для кого аббревиатура «НЛО» означала инопланетян, и на тех, для кого аббревиатура «НЛО» — это журнал. Это создавало некоторую границу.
В отношении условного русского канона я не типичный человек. По своему долгу, по обязанности, по воспитанию в хорошей школе и хорошем вузе я знаю русскую литературу, но мне, например, не нравится Толстой. Я всегда бравировала и эпатировала всех преподавателей тем, что говорила: «Вот Теккерей, вот „Ярмарка тщеславия”, это же гораздо интереснее и остроумнее написано!» Толстой чертовски зануден и нравоучителен, а Теккерей говорит про то же самое, но без этих нравоучительных пассажей.
Мне очень нравилась английская литература: «Жизнь и мнения Тристрама Шенди» Стерна, Теккерей, Оскар Уайльд. Любила Салтыкова-Щедрина, «История одного города» — это шедевр, а вот бесконечное морализаторство и достоевщина меня очень угнетали. Я помню, как в 11-м классе, когда был в моде Пастернак и весь класс писал курсовые по его стихам или «Доктору Живаго», я из принципа, из чувства противоречия взялась писать работу про евангельские мотивы в романе Горького «Мать». Это было вызовом. А еще у меня была идея, что надо писать не про то, что тебе нравится, о чем ты вздыхаешь в ночи, а про то, к чему ты относишься холодно и отстраненно. Ты должен эмоции сдерживать.
Филологическое образование научило меня, во-первых, читать любой текст даже в том случае, если он сильно не нравится, потому что он может пригодиться, а во-вторых, отстраненно видеть особенности текста помимо личного приятия-неприятия — это персональное свойство у меня есть, и оно важное. Я знаю людей, которые читают книжку и говорят «фу, графоман», а у меня это не вызывает таких сильных эмоций. Это как в моей профессии. Я беру интервью у прекрасной женщины, милой старушки, которая как божий одуванчик, и по ходу беседы выясняется, что она была сталинисткой и «наседкой» в лагере и выдавала сокамерниц за пайку хлеба, а ты должна улыбаться и расспрашивать ее дальше. Это примерно так же, как читать книжку, которая тебе не нравится, — ты все равно должен ее прочитать, это твоя обязанность.
«Как ни странно, „Гарри Поттер” — причина того, почему мне очень нравятся антиутопии»
Будучи уже взрослым человеком, я приехала на конференцию фольклористов в Санкт-Петербург, ночевала у своего коллеги. Он говорит: смотри, какую мне книжку привезли из Нью-Йорка, «Гарри Поттер». И сунул мне эту книжку перед сном. Я читала всю ночь, утром с трудом поднялась на заседание, на заседании тоже сидела клевала носом и дочитывала под партой первый том. С тех пор мне очень нравится «Гарри Поттер», я ждала выхода новых книжек, хотя, конечно, предпочитаю читать их по-английски, никакие переводы мне не нравятся, они содержат большое количество искажений. Как это ни смешно, «Гарри Поттер» показал мне совсем другую детскую литературу, ту, которой у нас и не было, и не могло быть. По одной простой причине — в «Гарри Поттере» очень подробно описана интроспекция героя. Это настоящий современный «роман воспитания».
 Александра Архипова
Александра Архипова
В советское время таких книг не было. Действия Васька Трубачева были равны его мыслям. Единственные советские книжки в моем детстве, которые претендовали на внутренний психологизм, были «Динка» Валентины Осеевой и «Рони, дочь разбойника» Линдгрен. Черт с ней, с фабулой волшебного мира и борьбой со злыми волшебниками у Роулинг. Гарри все время пытается понять, что думают другие люди по отношению к нему. А это и есть главное переживание подростка. Он всегда думает о том, что о нем думают другие люди, это бесконечное моделирование себя и бесконечные ошибки в этом.
Как ни странно, именно это — причина того, почему мне очень нравятся антиутопии. Антиутопии — это эксперимент с героем. Автор, как правило, загоняет его в такую ситуацию, когда он оказывается один на один с тоталитарным миром. И ты внимательно следишь за интроспекцией героя: а ты смог бы так же? смог бы выжить? смог бы скрывать свои эмоции?
«Я бежала на физкультуру по темному коридору философского факультета и услышала за дверью кабинета рассказы про Полинезию, Самоа и островитян»
Я фольклорист и антрополог. По сути, культурная антропология изучает социальную эволюцию общества, а фольклористика изучает анонимные тексты (легенды, песни, анекдоты), передающиеся горизонтальным путем, которые способны передавать мнение не конкретного индивида, но всего сообщества, сплачивать его или помогать протестовать. Традиционно в советской номенклатуре считалось, что фольклористика — это падчерица филологии, а антропология, этнография, этнология — это падчерицы истории. Я себя вольготно называю то антропологом, то фольклористом — в зависимости от аудитории. Я занимаюсь изучением поведения человека, в том числе через его тексты, поэтому моя идентичность очень плавающая. Если мы делаем упор на поведение, то я антрополог, если мы делаем упор на текст, я фольклорист. Просто слово «фольклорист» у нас еще очень тяжелое, при его упоминании у всех всплывает ассоциация: былины, сказки, бабушка вымученно на завалинке поет песню.
В советское время изучение поведения человека (и фольклорных текстов) допускалось с большими ограничениями. Во многом поэтому для широкой публики книги на эти темы были малодоступны — наоборот, они писались с расчетом на узкую аудиторию, хорошо понимающую эзопов язык. Книга замечательного историка-медиевиста Гуревича про Средневековье была таким редким исключением, поэтому она так хорошо на меня и повлияла: я до сих пор помню, как он просто и ярко объяснял отношения викингов с награбленными богатствами и зачем они прятали клады.
И в 1990-е, и в 2000-е эта традиция писать научные книги на научном волапюке сохранилась, и во многом это, возможно, причина того, что сейчас наш книжный рынок испытывает большую потребность в книжках по социальной антропологии, которые простым языком (но отнюдь не примитивно!) объясняют процессы, которые мы видим вокруг. А писать такие книжки русские авторы, за некоторыми исключениями, умеют очень редко. В 1996 году я бежала на физкультуру по темному коридору философского факультета и услышала за дверью замечательный голос, который рассказывал какие-то совершенно нездешние вещи: Полинезия, Самоа, островитяне, есть ли у них проблемы отцов и детей, что такое «возраст» и «гендер»? Я затормозила и прямо в спортивной форме вошла на лекцию замечательного антрополога Натальи Садомской, которую вынудили (из-за участия в диссидентской деятельности) уехать в эмиграцию, и в США она училась у знаменитого американского антрополога Маргарет Мид. Потом она вернулась и недолго преподавала в РГГУ. Через нее в мою жизнь вошли многие классики американской антропологии, которые, как и Мид, писали не в стиле «отчет на партсъезде», а обращались прямо к читателю, говорили с ним напрямую.
Книги Клода Леви-Стросса, «структуральнейшего из всех структуралистов», на меня производили какое-то безумное впечатление. И вообще, меня тогда страшно удивляла манера англоязычного или франкоязычного ученого писать научнейшие вещи, а потом вдруг — переходить на описание пейзажа и личных полевых впечатлений. Я в детстве и ранние студенческие годы не могла подобрать слово, которое объясняло бы такой эффект, а слово это было на самом деле — «свобода исследователя», как ни пафосно это звучит.
Две книги я считаю образцом логического мышления, их надо читать не только фольклористам или лингвистам, но и всем, кто хочет научиться формулировать и проверять гипотезу. Это «Морфология сказки» фольклориста Владимира Проппа и «Слово о полку Игореве: взгляд лингвиста» Андрея Зализняка. Там филигранная работа с выстроенностью научных аргументов.
Многие достойные авторы научных трудов, которых я читаю, считают, что писать надо скучно, иначе это будет «не наука». И от этого становится бесконечно грустно. Потому что мне кажется, что ровно наоборот: книга должна передавать ту дрожь, которую ты испытываешь, когда находишь новый документ, понимаешь, как объяснить доселе непонятное явление или оттачиваешь аргумент в споре со своим воображаемым научным противником.
Я сейчас дописываю книгу про опасные советские вещи с моей коллегой Анной Кирзюк. Мы посвящаем эту книжку советскому детству. Это исследование о советских страхах, о том, как они возникали и как влияли на советскую повседневность. Знаете, почему советские пионеры так мучительно и сложно должны были завязывать галстуки? Мучения советских пионеров многих поколений связаны с тем, что изначально у пионерского галстука был специальный зажим, но какой-то «умный» человек в 1937 году увидел в этом зажиме, на котором был выгравирован костер, букву «т» — если перевернуть костер, а если положить галстук на бок — то «з». Всё вместе это якобы читалось «троцкистско-зиновьевская шайка». Было разбирательство на самом высоком уровне, а зажимы уничтожили.
«Книги — это моя внешняя память»
Для меня чтение — это способ отсоединиться от мира. Если я хочу уйти в себя, то я могу взять книжку на бурной тусовке и быть совершенно счастлива.
Я читаю и электронные, и бумажные книги, но бумажная книжка мне более приятна. Мне нравится держать ее в руках, нравится перелистывать страницы, нравится, что можно делать заметку на полях или поставить сзади номер страницы и написать важную мысль. Недавно я брала книжку Шейлы Фицпатрик про сталинскую деревню и обнаружила в ней много важных замечаний, которые сделала 10 лет назад. Когда замечания приходят в голову, ты сразу их пишешь. Я чувствую тоску, когда этой опции нет в электронном варианте.
Но в этом году я внезапно почувствовала себя человеком, который читает только электронные книги. Я взяла новокупленную книжку и поняла, что мне неудобно: шрифт мелкий, его хочется увеличить пальцами, плохо сделан сгиб, поэтому она плохо открывается, и я начала просто беситься от того, что книжка никак не адаптируется к моим потребительским вкусам. Но даже если я читала книгу в электронном виде, я все равно куплю ее книжный вариант и поставлю на полку. Я плохо помню, что я прочитала в электронном виде, а так у меня есть полки вроде «антропология для студентов» или «всё о городской легенде». Книги — это моя внешняя память.