Книга как форма посмертной жизни
Алексей Любжин — о том, зачем изучать библиотеки тех, кто давно уже умер
I. Но продуман распорядок действий...
Когда человек умирает, его вещи, раньше тонкими нитями связывавшие его с окружающим миром, сиротеют, теряя смысл своего существования (вероятно, это хорошо чувствовали и этого боялись раньше, когда был обычай класть в могилу предметы, которыми мог бы воспользоваться покойный). Даже тому, кто понимает бессилие и суету книг в сравнении с одной Книгой, тоскливо расставаться с ними — такими суетными и маловажными. Один из виднейших русских церковных иерархов Стефан Яворский, распоряжаясь судьбой своей библиотеки, написал на прощание с ней прекрасную латинскую элегию (приводим в извлечениях ранний анонимный перевод):
Книги, мною многажды носимы, грядите,
Свет очию моею, от мене идите!..
Паче меда и сота вы мне сладши бесте,
С вами жить сладко бяше, горе, яко несте.
Вы богатство, вы слава бесте мне велика,
Вы — рай, любви радость и сладость колика…
Но более жить с вами (ах, тяжкое горе!)
Запрещает час смертный и горьких слез море.
Уже мне вечным слепнут очеса сном смерти,
Не к тому дерзну ко вам рук моих простерти.
Иной книги очесам моим не минути,
Юже Бог, хотяй прийти, хощет мне разгнути…
О книга престрашная, яже всех всецело
Земнородных обличит пред судищем дело!
О сей книзе аз, страстный, егда помышляю,
Трепещу и трясуся, сердцем увядаю.
Но как раз книги сиротеют реже, чем прочее: если вы владеете артефактом XVI века, то велика вероятность, что это именно книга. Однако и потребностей у книги больше, чем у прочих вещей; она желает быть прочитанной. Автору этих строк, долго работавшему библиотекарем в МГУ, при описании старых коллекций (например, подборок латинских диссертаций XVII–XVIII вв., изданных в Германии) часто приходилось с тоской думать о залежах чужой, прежней интеллектуальной жизни, погребенных в этих завалах, — шансов на то, что кто-то сегодня или завтра это прочтет, уже нет.
При этом можно наблюдать интересный эффект перемены статуса: толстые тома Гомера и Цицерона в кожаных переплетах никто не выбрасывает, они относятся к числу тех, кто не теряет читателей никогда, и потому не становятся редкостью. Тем более что эксперименты по порче бумаги достигли успеха относительно поздно (вы можете спокойно листать газеты XVIII в., им ничего не будет, а вот пресса второй половины XIX в. рассыпается в пыль). Дешевое же развлекательное чтиво вроде «Голубой библиотеки» из Труа («Bibliothèque bleue»), которую семейство Удо издавало с начала XVII в., превращается в настоящую редкость. Автору этих строк очень интересно — смогут ли стать редкостями современные детективы для чтения в электричке, издаваемые громадными тиражами? И что будет с никому не нужными книгами, которые массово печатали в СССР?
Однако, знакомясь с людьми прошлого, — а нам, если мы рассчитываем на внимание и уважение со стороны потомства и желаем продлить наше интеллектуальное существование за пределы физического, отказываться от такого знакомства нельзя, — мы не можем отказаться и от такого инструмента, как книга. Разумеется, это менее адекватный инструмент, чем написанные ими тексты или совершенные ими поступки. Практически в каждой библиотеке есть разные слои: что-то досталось от предков, что-то было подарено или получено в награду, что-то куплено, отложено на потом и не прочитано, а что-то — прочитанное — никогда и не входило в состав библиотеки, было взято у друзей или просматривалось в каком-нибудь публичном хранилище.
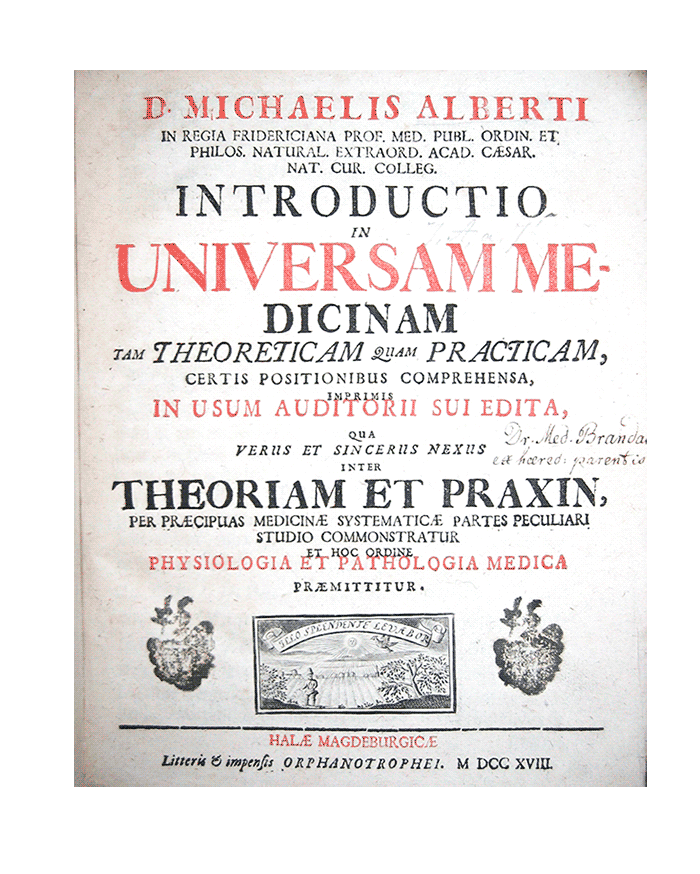 На приведенном выше изображении видно: доктор медицины Брандау отметил, что получил книгу по наследству от отца. Вообще это делали редко, таких записей немного. Но в сословном обществе с профессиональными династиями отцовские книги имели больший шанс остаться нужными и для детей.
На приведенном выше изображении видно: доктор медицины Брандау отметил, что получил книгу по наследству от отца. Вообще это делали редко, таких записей немного. Но в сословном обществе с профессиональными династиями отцовские книги имели больший шанс остаться нужными и для детей.
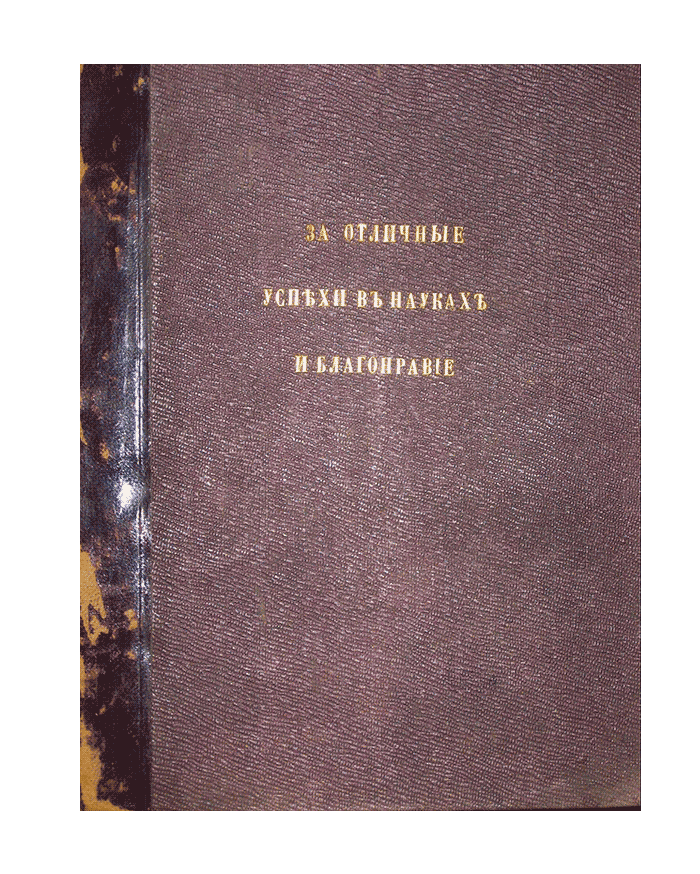 Библиотека описывает интеллектуальную пищу человека неполно и неточно. Но при всех оговорках у нас нет другого более надежного способа как-нибудь проанализировать состав этой пищи. Если, действительно, не человек для книги, а книга для человека.
Библиотека описывает интеллектуальную пищу человека неполно и неточно. Но при всех оговорках у нас нет другого более надежного способа как-нибудь проанализировать состав этой пищи. Если, действительно, не человек для книги, а книга для человека.
II. И неотвратим конец пути
Любопытство к чужим библиотекам, однако же, явление сравнительно недавнее. Если мы можем узнать хотя бы состав старого книжного собрания, обычно эту возможность нам дает расписанность распорядка действий и неотвратимость конца пути. Надворный советник ***, адвокат **** и полковник ***** скончались; почтеннейшая публика приглашается на аукцион, где распродаются их книги. Потомкам эти собрания неинтересны, а вот деньги интересны здесь и сейчас. Каталог аукционной продажи (такие иногда попадаются на abebooks, но стоят обычно очень дорого) — место последней встречи, обычно они не содержат подробных описаний и дают только представление о составе библиотеки, но и это бывает очень интересно.
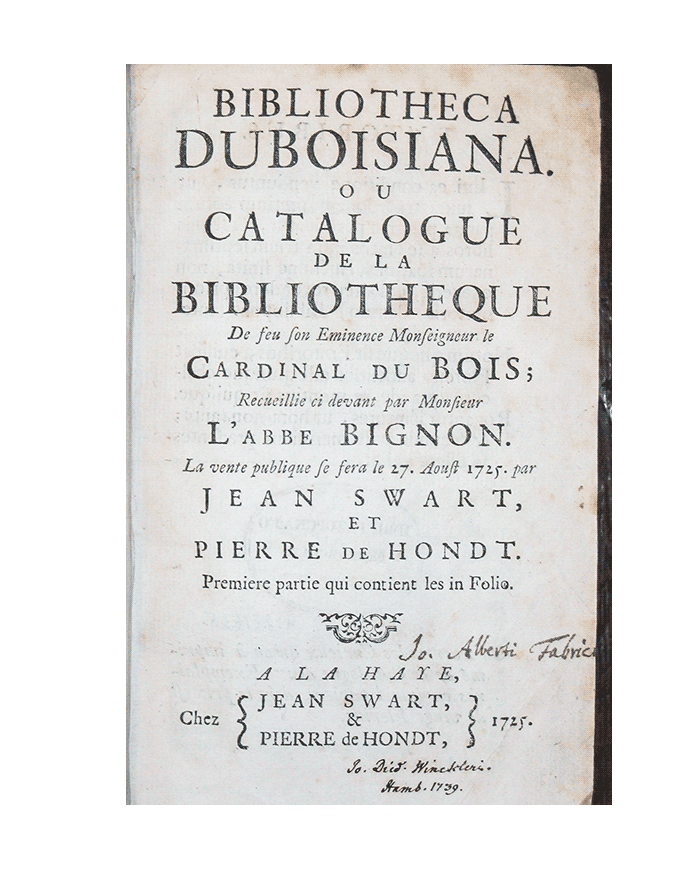 Владельческие знаки — часто гербы и латинские девизы; это семья и традиция, о личности мы узнаем очень мало. Но иногда они говорят нечто о владельце. Например, Готтфрид Балтазар Шарфф не удовлетворился экслибрисом, на котором изображено распятие с девизом «Без тени»; он прибавил к нему латинское стихотворение, где противопоставил свои книги той, единственной Книге:
Владельческие знаки — часто гербы и латинские девизы; это семья и традиция, о личности мы узнаем очень мало. Но иногда они говорят нечто о владельце. Например, Готтфрид Балтазар Шарфф не удовлетворился экслибрисом, на котором изображено распятие с девизом «Без тени»; он прибавил к нему латинское стихотворение, где противопоставил свои книги той, единственной Книге:
 Часто не очень полезно листать такое количество книг;
Часто не очень полезно листать такое количество книг;
Христос, твою смерть листать часто — полезно.
Среди такого множество книг в какой тени мы пребываем!
Здесь же встает блистательное Солнце без тени:
Чтение книг без Тебя — труд в тени,
Дай нам увидеть, Христос, свет на твоем кресте.
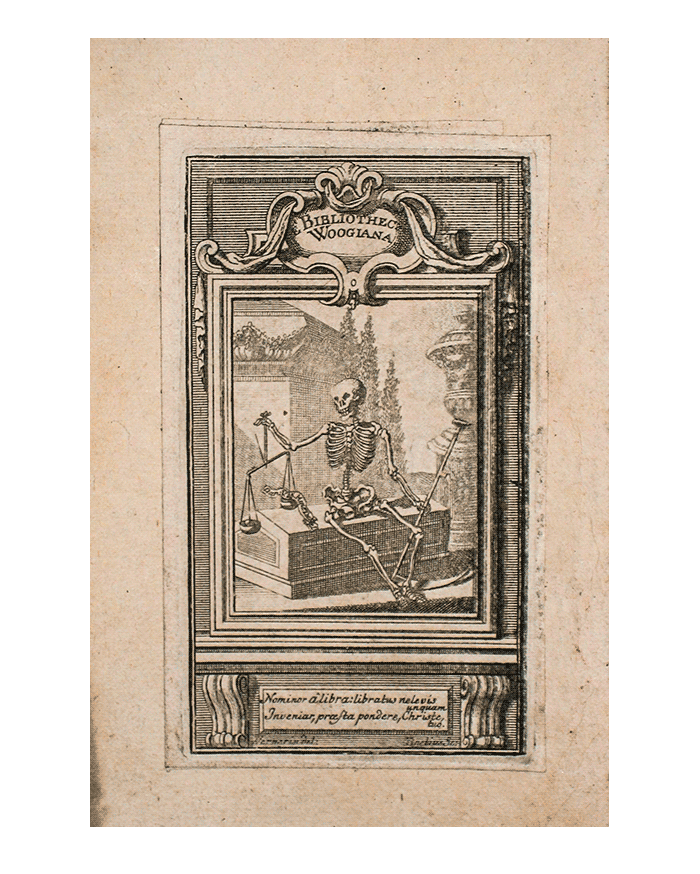 Среди экслибрисов встречаются, разумеется, и с веселыми картинками. Некто Воог (имя, встречающееся, например, в Эльзасе и могущее означать «весы») обыгрывает его в экслибрисе со скелетом, держащим в левой руке косу, а в правой — весы; латинский дистих внизу разъясняет смысл, который вкладывается в этот символ: «Имя мне от весов; и, чтобы меня, взвесив, никогда не нашли слишком легким, окажи мне, Христос, помощь своим весом».
Среди экслибрисов встречаются, разумеется, и с веселыми картинками. Некто Воог (имя, встречающееся, например, в Эльзасе и могущее означать «весы») обыгрывает его в экслибрисе со скелетом, держащим в левой руке косу, а в правой — весы; латинский дистих внизу разъясняет смысл, который вкладывается в этот символ: «Имя мне от весов; и, чтобы меня, взвесив, никогда не нашли слишком легким, окажи мне, Христос, помощь своим весом».
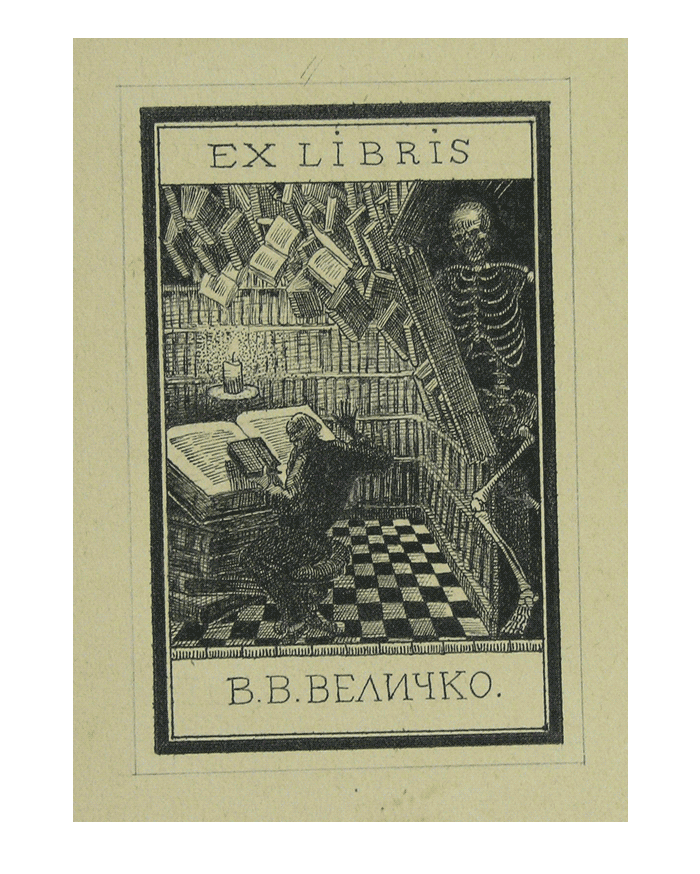 Тот же самый символ наш замечательный библиофил Валериан Вадимович Величко, собравший совершенно исключительную по качеству и весьма обширную библиотеку, использовал для того, чтобы напомнить себе об опасностях ремесла.
Тот же самый символ наш замечательный библиофил Валериан Вадимович Величко, собравший совершенно исключительную по качеству и весьма обширную библиотеку, использовал для того, чтобы напомнить себе об опасностях ремесла.
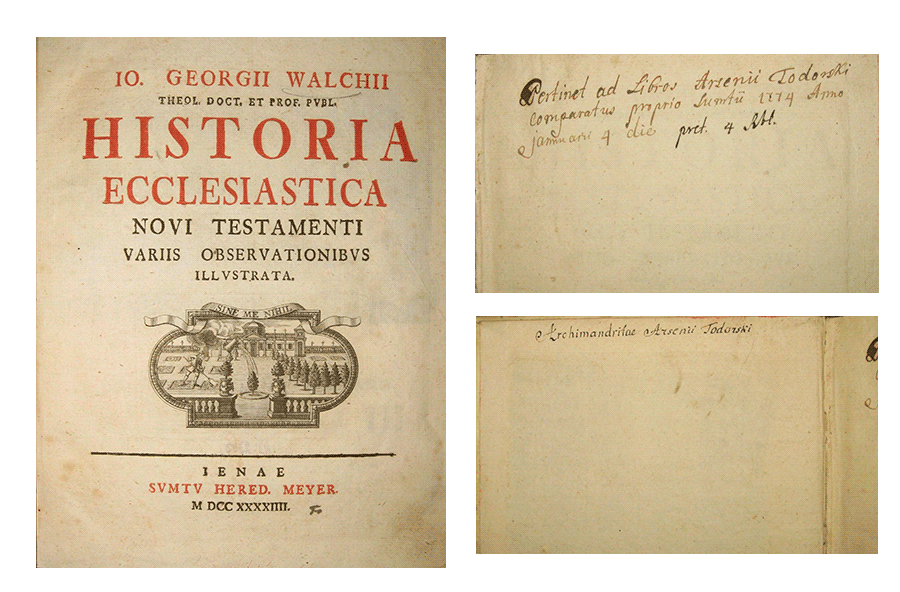 Для некоторых было очень важно отразить во владельческой записи обстоятельства приобретения книги. Архимандрит Арсений Тодорский написал на латинском языке: «Относится к числу книг Арсения Тодорского. Куплена на собственные средства в 1774 году 4 января, заплачено 4 рубля». (Кстати, очень большие деньги по тем временам. И это обстоятельство тоже характеризует человека.)
Для некоторых было очень важно отразить во владельческой записи обстоятельства приобретения книги. Архимандрит Арсений Тодорский написал на латинском языке: «Относится к числу книг Арсения Тодорского. Куплена на собственные средства в 1774 году 4 января, заплачено 4 рубля». (Кстати, очень большие деньги по тем временам. И это обстоятельство тоже характеризует человека.)
III. Я один, все тонет в фарисействе...
Иногда книги напоминают о важных культурных сюжетах. Позволим себе поделиться одним, хотя, несомненно, он существует и отдельно от экслибриса. Эта вот — написанная в защиту англиканской церкви — принадлежала чрезвычайно интересной фигуре, епископу Солсберийскому Гилберту Бёрнету (1643–1715).
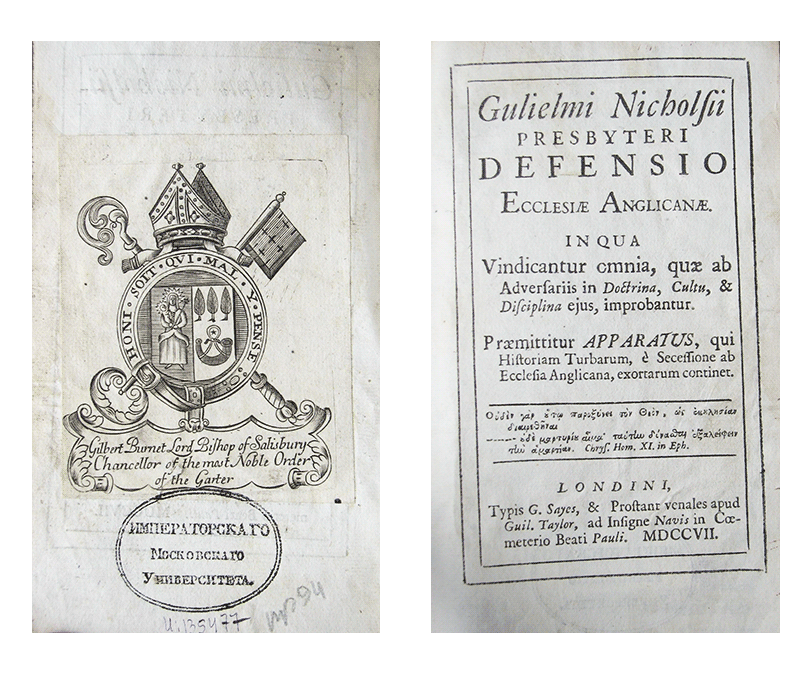 Когда Петр был в Англии, его собеседником по вопросам церкви стал епископ Солсберийский. Он оставил два свидетельства о Петре — первое из них в частном письме: «Я часто бываю с ним. В прошлый понедельник я провел у него четыре часа. Мы рассуждали о многих вещах; он обладает такой степенью знания, которой я не ожидал видеть в нем. Он тщательно изучил Св. Писание. Из всего, что я говорил ему, он всего внимательнее слушал мои обяснения об авторитете христианских императоров в делах религии и о верховной власти наших королей. Я убедил его, что вопрос о происхождении Св. Духа есть тонкость, которая не должна была бы вносить раскола в церковь. Он допускает, что иконам не следует молиться и стоит лишь за сохранение образа Христа, но этот образ должен служить лишь как воспоминание, а не как предмет поклонения. Я старался указать ему великие цели христианства в деле усовершенствования сердца человеческаго и человеческой жизни, и он уверил меня, что намерен применить эти принципы к самому себе. Он начинает так сильно привязываться ко мне, что я едва могу от него оторваться... Царь или погибнет, или станет великим человеком».
Когда Петр был в Англии, его собеседником по вопросам церкви стал епископ Солсберийский. Он оставил два свидетельства о Петре — первое из них в частном письме: «Я часто бываю с ним. В прошлый понедельник я провел у него четыре часа. Мы рассуждали о многих вещах; он обладает такой степенью знания, которой я не ожидал видеть в нем. Он тщательно изучил Св. Писание. Из всего, что я говорил ему, он всего внимательнее слушал мои обяснения об авторитете христианских императоров в делах религии и о верховной власти наших королей. Я убедил его, что вопрос о происхождении Св. Духа есть тонкость, которая не должна была бы вносить раскола в церковь. Он допускает, что иконам не следует молиться и стоит лишь за сохранение образа Христа, но этот образ должен служить лишь как воспоминание, а не как предмет поклонения. Я старался указать ему великие цели христианства в деле усовершенствования сердца человеческаго и человеческой жизни, и он уверил меня, что намерен применить эти принципы к самому себе. Он начинает так сильно привязываться ко мне, что я едва могу от него оторваться... Царь или погибнет, или станет великим человеком».
Второе — из книги «История моего времени»: «Он приехал в ту зиму в Англию и пробыл у нас несколько месяцев. Я часто его посещал, и мне было поручено как королем, так, с другой стороны, архиепископом и епископами быть к его услугам и давать ему те обяснения относительно нашей религии и конституции, которых он пожелает. У меня были хорошие переводчики, так что я мог разсуждать с ним вполне свободно. Он — человек весьма горячаго нрава, очень вспыльчивый и крайне жестокий в своей страстности; свою природную горячность он возбуждает еще тем, что пьет много водки (в оригинале brandy), которую с большим прилежанием сам приготовляет; он подвержен конвульсивным движениям во всем теле, и его голова также поражена этим; у него нет недостатка в способностях, и он обладает даже более широкой мерой познаний, чем можно было бы ожидать по его воспитанию, которое было очень недостаточным; недостаток суждения с непостоянством нрава проявляются в нем слишком часто и слишком очевидно; он имеет наклонность к механическим работам, и, кажется, природа скорее предназначила его быть корабельным плотником, чем великим государем... Он выражал желание уразуметь наше учение, но не казался расположенным исправить положение в Московии. Он, действительно, решил поощрять учение и дать внешний лоск своему народу, посылая некоторых из своих подданных в чужие страны и приглашая иностранцев приезжать и жить среди них... Он решителен, но мало смыслит в военном деле и, кажется, вовсе не любознателен в этом отношении. Часто с ним видясь и много с ним беседуя, я не мог не преклониться пред глубиной провидения Господа, что оно возложило на такого свирепого человека такую неограниченную власть над весьма большой частью мира...
Человек кажется очень ничтожным в видах господних, когда такое лицо, как царь, может держать у себя как бы под ногами такое множество народа, подвергая его своей ненасытной подозрительности и дикому нраву... Он дал волю своей ярости по отношению ко всем, кого подозревал: несколько сот их было повешено вокруг Москвы; говорили, что несколько голов он отрубил собственной рукой, и он так далек был от раскаяния или проявления какой-либо мягкости, что, казалось, даже услаждался этим. Как долго будет он бичом этого народа или своих соседей, один только Господь знает». В оценке готовности Петра вводить в России протестантство Г. Бёрнет сильно ошибся — и потом обиделся за это на Петра; но, несомненно, внимательно слушавший его объяснения церковной жизни Англии собеседник воспользовался ими впоследствии. Тем удивительнее, что в Википедии нет статьи о нем на русском языке.
IV. Жизнь прожить — не поле перейти
Разумеется, владельческие записи дают много меньше информации о хозяине, нежели записи на полях. Мы воспитаны в том представлении, что писать на книгах неприлично, даже и карандашом; но это относительно позднее представление. Ценность экземпляра с маргиналиями — так называются следы, оставленные читателем на полях книги, — выше, нежели цена «чистого» экземпляра. Однако, даже и осознавая это, мы вряд ли быстро вернемся к прежним привычкам, не говоря уже о тех вопросах, которые ставит перед нами информационная революция. Сделаем небольшое автобиографическое признание: когда нам случается купить старую книгу, которую мы хотим прочесть, мы со вздохом ставим ее на полку и ищем ее в pdf там, где они лежат, — на «Галлике», в подборках гугла или где получится.
Вернемся к нашим библиотекам. Тот момент, когда к индивидуальным книжным собраниям как таковым стали относиться с интересом, можно довольно точно датировать (по крайней мере для библиотеки Московского университета). В 1844 г. Екатерина Федоровна Муравьева, вдова наставника Александра I и первого попечителя Московского учебного округа и Императорского Московского университета Михаила Никитича Муравьева, передала в дар университету библиотеку покойных мужа и сына, Никиты Михайловича Муравьева; это собрание получило обычные университетские шифры, и часть дублетных экземпляров покинула университет; автору этих строк приходилось при просмотре библиотечных фондов обнаруживать книги из нее; в 1855 г. была приобретена библиотека генерала Алексея Петровича Ермолова, и она уже изначально хранилась как единый комплекс, сохранив шифры и расстановку владельца. Библиотека Московского университета в этом смысле является передовой — частным библиотекам там довольно рано стали уделять пристальное внимание. Но не обязательно собирать библиотеку вместе физически, можно реконструировать ее виртуально — создать отдельный каталог, оставив книги на прежних местах.
Завершая очерк, вернемся к начальной точке. Распорядок действий расписан, и конец пути неотвратим не только для человека. Чем больше знания и любви вкладывает человек в свое книжное собрание, тем меньше вероятность, что его интересы разделит наследник, в руки которому попадет актив с сомнительной ликвидностью. Можно с уверенностью утверждать, что любая коллекция рано или поздно доживет до равнодушного, жадного или некомпетентного наследника — или до того, кто будет сочетать все эти качества, возможно, прибавив к ним ряд других, столь же ценных. У библиотеки-коллекции (той, где человек для библиотеки) судьба будет несколько лучше, чем у библиотеки для чтения (или, если угодно, у такой, где книги для человека). Последняя (особенно если места в жилище мало) почти неизбежно окажется на помойке, а старинные книги имеют шанс хотя бы поодиночке обрести новых хозяев, заинтересованных в них. И потому, возможно (со всеми оговорками, ибо варварства много везде), не худшая судьба для частной библиотеки — остаться как единый комплекс в составе какого-нибудь государственного хранилища.