Кладбище одиноких книг
8 шедевров, недолюбленных читателями
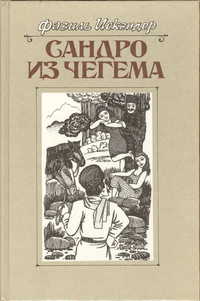 1. Фазиль Искандер. Сандро из Чегема
1. Фазиль Искандер. Сандро из Чегема
Центральное произведение Искандера — эпический плутовской роман из тридцати двух новелл, посвященный трудам и дням обитателей абхазского села Чегем. Время его действия охватывает более полувека, среди героев книги есть реальные исторические лица (Сталин) и вымышленные народности (эндурцы и кенгурцы). Говорить об этом произведении непростой судьбы (полная его версия на русском языке увидела свет лишь в конце 1980-х), не используя превосходных степеней, невозможно. Позднесоветская литература была гораздо скупее на шедевры, чем литература 1920-х годов, и один из них по сей день почему-то не считается обязательным чтением и не обсуждается взахлеб, хотя и регулярно переиздается. Дело, возможно, в том, что судьбы маленького села в Абхазии, которое сегодня уже считается заброшенным, кажутся не такими эпохальными, как описанное в «Войне и мире» с «Тихим Доном», — но не будем забывать, что события «Илиады» посвящены рядовому конфликту под стенами не самого большого малоазийского города-крепости. Дядя Сандро, скачущий на коне к своей любовнице, сванской княгине, которая неплохо умела стрелять и могла выдоить буйволицу, возвышается над другими чегемцами так же, как Ахилл над войском идущих в атаку ахейцев.
«Все это время [дядя Сандро] разговаривал со мной, иногда посматривая в дверной проем, словно ожидая кого-то, иногда давая своей жене мелкие хозяйские распоряжения. При этом он понижал голос, и это звучало, как в театре — реплики в сторону, которые якобы зритель не слышит.
— Безразмерные, — сказал он неожиданно, и старушка принесла ему носки, которые он с удовольствием надел, тщательно расправив на них все складки. Старушка поставила рядом с ним галоши уже в качестве личной инициативы, но, видимо, неудачно, потому что дядя Сандро тут же поправил ее. — Новые, — сказал он, как мне показалось, по случаю моего прихода. Старушка унесла старые галоши и принесла новые, сверкающие черным лаком, с загнутыми вверх носками.
Дядя Сандро надел галоши, легко встал и оказался, ко всем своим достоинствам, еще и высоким, стройным стариком, широкогрудым и узкобедрым, что несколько размывало иконописность его облика и одновременно усиливало дух византийских извращений, возможно, отчасти за счет галош с загнутыми носками».
 2. Мервин Пик. Горменгаст
2. Мервин Пик. Горменгаст
Работу над циклом фантастических романов о замке Горменгаст и его обитателях английский писатель, поэт и художник Мервин Пик начал во время Второй мировой: призванный в армию простым солдатом, он дослужился до нервного срыва, в 1943 году был демобилизован по инвалидности, а в 1945-м стал одним из первых британцев, посетивших концлагерь Берген-Бельзен, и увиденное там его потрясло. Неудивительно поэтому, что завершенные и изданные уже после войны три первых романа (планировалось больше, но автор умер), которые посвящены упадку древнего рода Гроанов, обитающего в замке Горменгаст, рождению наследника этого рода, его возмужанию и скитаниям, оказались чудовищно мрачными — их автор, судя по всему, не думал об отдельных людях и человечестве в целом ничего хорошего. Литературный блеск и сложность этих произведений (на русский их перевел Сергей Ильин) потрясают, и найти в мировой фантастике хоть что-то близкое пиковским романам будет непросто. Стиль «Горменгаста» напоминает помесь Анн Радклиф и Толкина, искусанного до полусмерти графом Лотреамоном или Раймоном Русселем — но если тот же «Властелин колец» есть почти в каждом доме, то книги Пика пылятся на нижних полках независимых книжных, и очень зря.
«Горменгаст, то есть главная глыба изначального камня, взятый сам по себе, возможно, являл бы какие-то громоздкие архитектурные достоинства, если бы можно было отвлечься от его окружения — от жалких жилищ, заразной сыпью облегших его внешние стены. Они всползали по земляным откосам, каждое следующее забиралось чуть выше соседа, цепляясь за крепостные валы, пока наконец последние из лачуг не подбирались к огромным стенам, впиваясь в их камень точно пиявки. Право на такого рода хладную близость с нависшей над ними твердыней жаловал этим жилищам древний закон. На их разновысокие кровли падали год за годом тени изгрызенных временем контрфорсов, надменных крошащихся стрельниц и, огромнейшая из всех, тень Кремнистой Башни. Башня эта, неровно заляпанная черным плющом, торчала средь стиснутых кулаков бугристой каменной кладки, как изувеченный палец, святотатственно воткнутый в небеса. Ночами совы обращали ее в гулкую глотку эха, днем же она стояла безгласно, отбрасывая длинную тень».
 3. Патрик Ротфусс. Хроника Убийцы Короля
3. Патрик Ротфусс. Хроника Убийцы Короля
Американский фантаст Патрик Ротфусс не разменивается на мелочи: со времен учебы в университете в начале 1990-х и по сей день он пишет одну огромную фантастическую эпопею, первый том которой, «Имя ветра», вышел в 2007-м, второй, «Страхи мудреца», — в 2011-м, а заключительный третий, «Двери камня», появится даст бог в следующем году. В США, где на нехватку выдающихся фантастов никто не жалуется, «Хронику Убийцы Короля» оценили по достоинству (и в плане продаж, и в плане наград) — в России же оба романа хотя и выдержали по нескольку переизданий, но так и остались в гетто любителей жанровой литературы, но в более широком контексте не прозвучали. Главный герой этих романов, Квоут, музыкант из бродячей труппы, остается сиротой: его родителей убили полулегендарные демоны чандрианы, на поиски которых он и отправляется, постепенно превращаясь из оборванца и изгоя в великого героя и мага. Как и в любом приличном романе воспитания, Квоут поступает в Университет, где его учат колдовству — поэтому «Хронику» называют иногда «Гарри Поттером для взрослых», и не без оснований, но Ротфусс гораздо более серьезный, вдумчивый и тонкий писатель, чем (при всем к ней уважении) Роулинг. Квоут влюбляется, наживает врагов и друзей, ввязывается в авантюры, падает на дно и выходит сухим из воды — и рассказывается обо всем этом с таким сочувствием и убедительностью, на которые способны далеко не все лауреаты премий, выдаваемых за произведения «серьезной» литературы.
«Наступила ночь. Трактир „Путеводный камень” погрузился в тишину, и складывалась эта тишина из трех частей.
Самой заметной частью было пустое, гулкое до эха молчание, порожденное несколькими причинами. Будь сегодня ветер, он пошелестел бы в кронах деревьев, покачал на крюках скрипучую трактирную вывеску и унес бы тишину по дороге, словно палые осенние листья. Соберись в трактире толпа, да пусть хоть несколько человек, они заполнили бы молчание разговорами, смехом, звоном кружек и гомоном, привычными для питейного заведения в темный вечерний час. Играй здесь музыка… Нет, вот уж музыки точно не было. Так что в воздухе висела тишина.
В трактире у края стойки сидели, сгорбившись, двое мужчин. Они пили тихо и целеустремленно, избегая серьезных разговоров и обсуждения тревожных новостей. Этим они добавляли немного угрюмого молчания к общей тишине. Получался своего рода сплав, контрапункт.
Третью тишину ощутить было не так легко. Пожалуй, пришлось бы прождать около часа, чтобы почувствовать ее в деревянном полу под ногами и грубых бочонках позади стойки бара. Тишина таилась в черноте каменного очага, еще хранящего тепло угасшего огня. Она пряталась в медленном движении — взад-вперед — белой льняной салфетки в руках человека, натиравшего красное дерево стойки, и без того сияющее в свете лампы».
 4. Эрнст Юнгер. Дневники
4. Эрнст Юнгер. Дневники
Рецензию на юнгеровские «Годы оккупации», опубликованную десять с лишним лет назад в бумажной «Афише», Лев Данилкин закончил примерно такой фразой (цитируем неточно, по памяти): «Думаете, все люди одинаковые? Пример Юнгера убедительно доказывает, что нет» — и он был прав. Конечно, и у художественных, и у философских произведений этого немецкого писателя и мыслителя есть свои поклонники, но мало что может встать в один ряд с его дневниками. Достаточно прочесть несколько страниц любого из них, чтобы почувствовать, будто смотришь на окружающий мир глазами какого-то другого существа, стоящего на ступеньку выше, чем ты (а то и на несколько ступенек). Поражает не только то, что твоя собственная оптика вдруг сбивается, но и то, как легко это происходит. Едва ли среди страшно умных книжек насчитается много столь же простых и доступных практически любому сколько-нибудь опытному читателю. И при этом Юнгер остается чтением для избранных, для знатоков и ценителей — глупо, его стоило бы читать вообще всем.
«Сар-Потери, 20 февраля 1941
Прошелся вблизи вокзала, на керамической фабрике поинтересовался происхождением земли, давшей этой местности ее звучное имя. Пройдя немного вперед по шпалам, добрался до карьера, выкопанного в буром и удивительно белом песке. Я надеялся найти здесь окаменелости, но не обнаружил их. В заброшенной выработке стояли озерца воды, временами ее, по-видимому, сильно затопляло; на дне ее росли ивы на высоту человеческого роста, ощетинившиеся тонкими корешками; точно мхи пробились они на стволах и ветках, — прекрасный пример того, как каждая часть растения способна произвести другую. Сила жизни нераздельно живет во всей постройке. Мы, люди, уже утратили это искусство, и там, где в наших культурах красуются цветы и листья, никогда уже больше не увидишь корней. Находясь в опасности, мы жертвуем совсем иными, более духовными органами, определяя им роль щупальцев в неведомом, — разумеется, за счет жизни одиночек. На этом зиждятся все наши современные достижения».
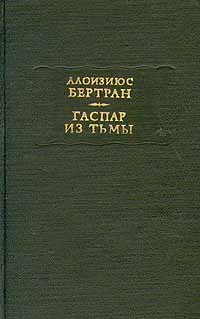 5. Алоизиюс Бертран, «Ночной Гаспар»
5. Алоизиюс Бертран, «Ночной Гаспар»
«Ночной Гаспар», наверное, одна из самых незаслуженно забытых книг в истории мировой литературы. Ее автор прожил недолгую и весьма несчастливую жизнь, оставив после себя единственное сочинение, которым вдохновлялись Бодлер, Бретон и другие французские новаторы.
Именно с «Ночным Гаспаром» принято связывать зарождение такого жанра, как стихотворения в прозе. Возможно, этот крохотный сборник миниатюр можно считать точкой отсчета европейского модернизма.
Как бы то ни было, современники не оценили Бертрана: книга, изданная скромным тиражом в пятьсот экземпляров, осталась незамеченной. Если бы не счастливая случайность, мы бы вовсе могли не узнать о ней.
В отличие от трудов Лотреамона, в «Ночном Гаспаре» напрочь отсутствует черный юмор, плавно переходящий в цинизм. Лирический герой этой книги — безнадежный романтик, нащупавший новые средства выражения своих чувств. И он прекрасен в своем новаторстве и своей инопланетной искренности.
«Летом мою хижину оберегала бы от палящего солнца густая листва, а осенью у меня на подоконнике ей заменяли бы садик несколько кустиков левкоя, пахнущего миндалем, да немного мха, где, словно в оправе, сияли бы жемчужинки дождя.
Зимой же, когда утро бросит пригоршни инея на замерзшее окно, сколь было бы отрадно заметить далеко-далеко, у самой опушки леса, путника и его коня и наблюдать, как они становятся все меньше и меньше среди снегов и мглы!
Сколь приятно было бы вечером, у камелька, где полыхает охапка душистого можжевельника, перелистывать летописи, повествующие об иноках и рыцарях так живо, что кажется, будто и сейчас одни читают молитвы, а другие сражаются на турнирах.
Сколь отрадно было бы ночью, в таинственный белесый час, предшествующий рассвету, услышать, как в курятнике громогласно запел мой петух, а с дальней фермы едва уловимо доносится ответное пение, словно голос стража, охраняющего подступы к объятой сном деревне.
Ах, если бы король у себя в Лувре читал наши писания, — о муза моя, беззащитная перед житейскими невзгодами! — то он бы, владеющий таким множеством замков, что даже не ведает им числа, конечно, не отказал бы нам с тобою в скромной хижине!»
 6. Витольд Гомбрович, «Порнография»
6. Витольд Гомбрович, «Порнография»
Одно из самых странных произведений в истории мировой литературы, «Порнография» — предпоследний роман Витольда Гомбровича, бесконечно мрачный, жуткий, галлюциногенный, начинающийся с извинений за то, что польские партизаны выставлены в нем не в лучшем свете. И только сам черт поймет, почему книга называется «Порнография».
В свое время Гомбровича окрестили «польским Беккетом», и это сравнение вполне оправдано. Как и у ирландского мастера абсурда, у Гомбровича напрочь отсутствуют логические связи, а его герои отчуждены друг от друга сильнее, чем пролетарий отчужден от станка.
«Порнография» так и осталась непризнанным шедевром Гомбровича. Другие его романы («Фердидурка» и «Космос») с радостью экранизируют, по ним ставят спектакли. «Порнографию» тоже не особо удачно перенесли на экран, но последняя большая книга польского прозаика все равно навеки останется самой несправедливо недолюбленной.
«Если насилие, чем, собственно, и является мужчина, должно сначала зародиться в мужественности, между мужчинами... тогда пусть само мое присутствие поможет запереть нас в этом замкнутом круге... огромное значение я придавал тому, что темнота маскировала нашу ахиллесову пяту, тело. Я думал, что, воспользовавшись ослаблением тела, мы сумеем объединиться и умножить силы, станем в достаточной степени мужчинами, чтобы не брезговать самими собой, — ведь собой никто не брезгует, ведь достаточно быть самим собой, чтобы не брезговать! Вот такие были у меня отчаянные уже мысли. Но он оставался недвижим... я тоже... и мы не могли начать, начала нам не хватало, действительно, непонятно было, как начать…
Вдруг в комнату вошла Геня.
Она не заметила меня — подошла к Вацлаву, села рядом с ним, тихая. Как бы — предлагая помириться. Она казалась (мне плохо было видно) покорной. Смиренной. Нежной. Кроткой. Может быть, беспомощной. Растерянной. Что это? Что это? Неужели и ей... всего этого... уже слишком... она боялась, хотела выйти из игры, в женихе искала поддержки, спасения? Она сидела рядом с ним покорно, молчаливо, предоставляя ему инициативу, что должно было означать: „я твоя, так сделай же что-нибудь”. Вацлав даже не дрогнул — пальцем не пошевелил.
Как жаба, застывший. Я не мог понять, что его так заело. Гордость? Ревность? Обида? Или ему просто было не по себе, и он не знал, как к ней подступиться, — а мне хотелось крикнуть ему, чтобы он хотя бы обнял ее, руку бы на нее положил, от этого могло зависеть спасение! Последняя спасительная соломинка! Его рука обрела бы на ней мужественность, тут бы и я подмазался со своими руками, и как-нибудь пошло-поехало! Насилие — насилие в этой гостиной! Но ничего нет. Время идет. Он не шевелится. Это было как самоубийство — фиаско — фиаско — фиаско, — девушка встала, ушла... а за нею и я».
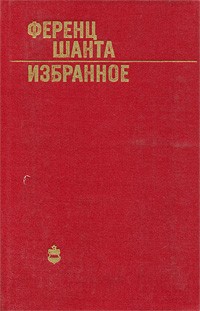 7. Ференц Шанта, «Пятая печать»
7. Ференц Шанта, «Пятая печать»
Больше напоминающая набросок для сценария книга венгерского писателя Ференца Шанты — страшнейшая вещь о победе добра над злом (или наоборот). Действие романа разворачивается в салашистской Венгрии. Начинается он с незатейливых диалогов в пивной, а заканчивается в пыточной камере, где распинают нового Христа.
Совершенно сухим языком Шанта нагоняет такой жути, которая даже по меркам ХХ века кажется перебором. На русском книга выходила всего раз, еще в СССР, и небольшим по тем временам тиражом. Не помогла и чудесная экранизация Золтана Фабри, вышедшая в советский прокат в весьма купированной версии.
Довольно печально, что ни тогда, ни сейчас на «Пятую печать» не обратили внимание ни читатели, ни критики. А ведь лучшую пощечину любителям фашизма и войны придумать сложно.
«Он бросил взгляд на дверь и понизил голос:
— Скажите откровенно, господин Ковач! Вы слышали, чтоб когда-нибудь варили мыло из человечьего мяса, костей и жира? А ведь сегодня уже и впрямь всякий знаком с учением Христа! Отвечайте начистоту! Об этом, правда, не полагается говорить, но мы-то все знаем, что творится вокруг. Надеюсь, — он посмотрел на фотографа, — и ваша милость не поймет нас превратно, ведь мы лишь называем факты, только и всего! Разве свет видел что-нибудь подобное? Никогда, уверяю вас! А все почему? Потому что явился один высокомерный, самонадеянный тип который осмелился заявить, будто он один умнее всех, он один может объяснить всему человечеству, всей Эйропе, как отныне следует жить!
— Хэлло, — произнес Дюрица и прищелкнул языком.
— Что вы сказали? — спросил коллега Бела.
— Не обращайте на него внимания, — отмахнулся книготорговец, — господин мастер изволит острить...»
 8. Гелиодор, «Эфиопика»
8. Гелиодор, «Эфиопика»
Никакая «Игра престолов» не сравнится с божественной «Эфиопикой» Гелиодора, первым романом в истории. Не будет преувеличением сказать, что это одна из самых глупых книг, написанных человеческой рукой. Тем она и прекрасна.
Пересказать сюжет «Эфиопики» невозможно, настолько он замысловат. Как и положено великому творцу, Гелиодор ничуть не стесняется прибегать к явлениям deus ex machina, которыми фонтанирует его роман. Когда на страницах этой книги убивают главного героя, то кинжал, пронзивший его тело, всякий раз оказывается бутафорским, а убийца — его спасителем.
В последующие столетия были написаны тысячи, если не миллионы, романов, которые мы бы сейчас назвали бульварными. И все они выросли из чудесной и ныне забытой безделушки, созданной древнегреческим мастером.
«Уже завязался рукопашный бой, когда кто-то закричал:
— Вот он, Тиамид! Все на него!
И сейчас же, построив суда кольцом, они заключили его в середину. Тиамид защищался и своим копьем ранил, убивал, но схватка была самая удивительная: никто из воинов не метал копья и не заносил меча, каждый прилагал все усилия, чтобы захватить Тиамида живьем. А тот очень долго сопротивлялся, пока не отняли у него копья, за которое ухватилось сразу несколько человек, и пока не лишился он своего щитоносца, сражавшегося блистательно с ним вместе и получившего, по-видимому, смертельную рану. В безнадежном отчаянии щитоносец кинулся в озеро и, вынырнув благодаря своему уменью плавать вне выстрела, с трудом доплыл до болота; никто и не думал его преследовать. Враги уже захватили Тиамида и пленение одного человека считали полной победой. Потеряв столько друзей, они больше ликовали, захватив убийцу живьем, чем горевали об утрате близких».