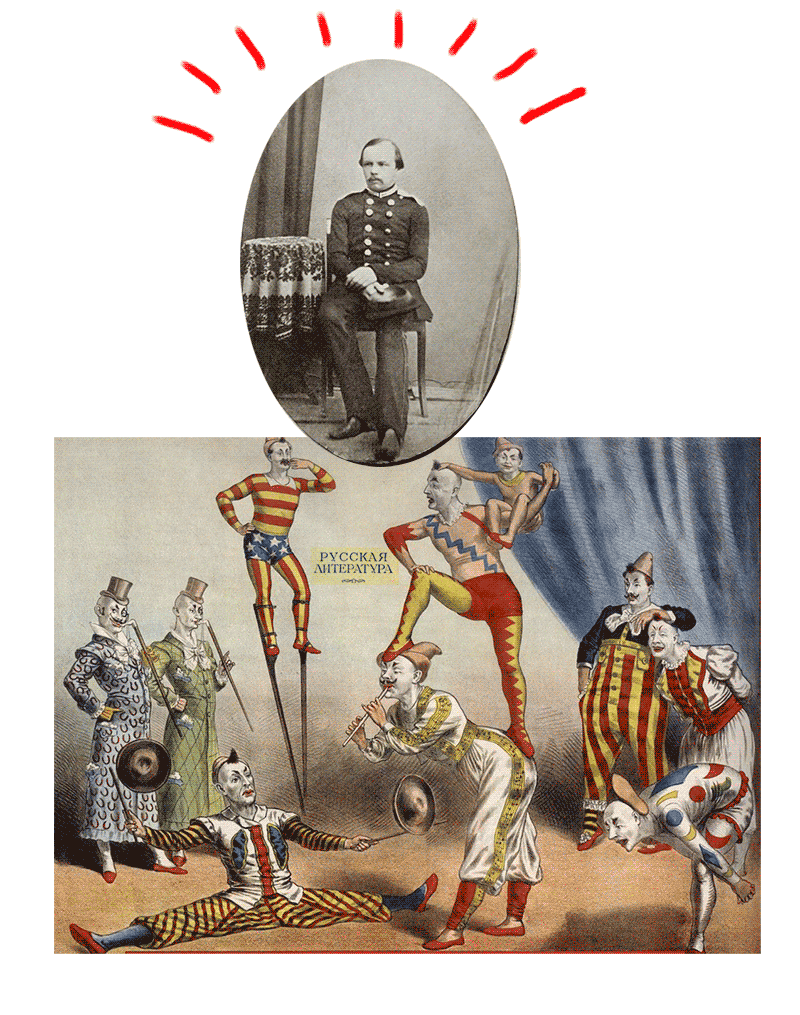«Какая-то русалка запищала в кустах»
Достоевский-сатирик и его жертвы
«И что это за изумительное сходство между этими двумя российскими юмористами!» — язвительно сравнивал Достоевского и Салтыкова-Щедрина в одной из статей публицист Григорий Благосветлов. Сравнение хоть и явно пародийное, но оттого не менее неожиданное: если в общем мнении Михаил Салтыков-Щедрин мрачный, но все же юморист (точнее, сатирик), то Федор Достоевский — тоже мрачный автор, но предельно серьезный, озабоченный исключительно проблемами философии и идеологии своих героев. Однако это лишь часть правды, что ясно всякому, кто помнит, например, стихи капитана Лебядкина, предшественника обэриутов, причем юмор Федора Михайловича редко нравился тем, на кого был направлен. Часто в числе уязвленных оказывались коллеги-писатели, среди которых — Тургенев, Гоголь и Боборыкин.
А публицист Благосветлов язвил вот по какому поводу: в ходе одной из многочисленных журнальных склок в начале 1860-х годов столкнулись авторы и редакторы журналов «революционно-демократического направления»: «Современника» и «Русского слова». В стороне не остались и печатные органы других «партий», в том числе и журналы братьев Достоевских. Одним из выпадов в сторону принципиально враждебного «Современника» и его сотрудника Салтыкова-Щедрина стала написанная в июне 1864 года статья Достоевского «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах», куда он включил якобы поступивший в редакцию отрывок из романа, «произведение одного начинающего пера, очевидно имеющее иносказательный смысл».
Начинается «роман» с истории, как «господина Щедродарова» позвали писать для журнала «Своевременный». «Щедродаров еще гулял на воле и беспечно наслаждался жизнию, но в „Своевременном” произошли беспорядки. Старые, капитальные сотрудники исчезли: Правдолюбов скончался; остальные не оказались в наличности». Все имена более чем прозрачны: Щедрин — Щедродаров, Добролюбов (действительно недавно умерший и тем самым нанесший непоправимый урон отделу критики) — Правдолюбов, Писарев — Скрибов, Зайцев — Кроличков, «Современник» — «Своевременный». Довольно быстро выясняется, что «известного нашего юмориста и сатирика» хотят пригласить в редакцию не за таланты или «идеи» (своих идей у него нет), а исключительно за злость и умение кусать всех подряд — качества, без которых успешный журнал не может существовать:
«Видите ли, господа, в нашем журнальном деле кто сидит и молчит, не огрызается и сам не нападает, тот всегда кажется большинству подписчиков и не силен, и не умен, хотя бы он пресовестливо занимался делом и понимал дело лучше, чем всякий другой. Кто же нападает первый, лает и кусается; кто нагло и нахально не отвечает на самые точные запросы, а прямо плюет на них, свистит, карикатурит и бросается сам всех ругать, хотя бы и без разбора, тот в глазах рутины и большинства всегда кажется сильным и себе на уме. Так поступим и мы, тем более что мы очень часто так поступали и прежде. И потому нам теперь надо — шавку, шавку, лающую и кусающуюся. Надеюсь, вы понимаете, господа, что я употребляю слово шавка в самом благороднейшем, в самом высшем литературном значении. Да и чем шавка хуже каких бы то ни было зверей или птиц? Важна тут, собственно, не шавка, а шавочные свойства ее».
Редактор уверяет сомневающихся сотрудников: щедродаровская злость — своего рода высокое искусство, а объекты для нападок ему подскажет опытное начальство: «…у него игра, у него словечки, он вертляв, у него совершенно беспредметная и беспричинная злость, злость для злости — нечто вроде искусства для искусства <…> Стоит только направить эту злость, и он будет кусать всё, что ему ни укажут, потому что ему только бы кусать». Дальше в «романе» Достоевский показывает себя настоящим виртуозом едкой сатиры, не уступая в этом таланте прототипу г-на Щедродарова: « — И наконец, как вы скажете ему: „Ты шавка и, следовательно, лай!” Мне кажется, это даже нелитературно.
— О, это вздор, на всё есть свои словечки. Можно, например, не говорить: „Лайте!”, а можно сказать: „Издавайте звуки” или что-нибудь в этом роде. Не беспокойтесь, поймет, тем более что ему самому только того и надо». Сначала все шло по плану, однако потом «молодое перо» взбунтовалось: понемногу в голове Щедродарова зародились свои идеи, что крайне не понравилось редакции «Своевременного».
Надо отметить, что, если уж разбираться как в детстве, кто первый начал, мы выясним, что первым начал все же Щедрин. Он написал статью «Литературные мелочи», куда включил «драматическую быль» «Стрижи». Действие там происходит в погребе (явная отсылка к «Человеку из подполья»), в виде стрижей выведены редакторы и ближайшие сотрудники журнала братьев Достоевских «Эпоха», а в виде «стрижа четвертого, беллетриста унылого» — сам Федор Михайлович.
Интересно, что в романе о Щедродарове Достоевский косвенно — но оттого не менее едко — задел и своего идеологического оппонента Чернышевского. Среди прочих наставлений, редактор «Своевременного» говорит Щедродарову:
«Молодое перо! Вам предстоит участвовать в отделе критики; итак внушите себе за правило, что яблоко натуральное лучше яблока нарисованного, тем более что яблоко натуральное можно съесть, а яблоко нарисованное нельзя съесть». Эта «громадная в простоте своей идея» — явная отсылка к магистерской диссертации Чернышевского, где тот активно проповедовал приоритет пользы над эстетикой.
Сам Чернышевский стал прототипом героя рассказа Достоевского «Крокодил» (1865). В пересказе самого автора фабула этого произведения такова. Один чиновник «как-то раздразнил доселе сонного и лежавшего как колода крокодила: тот вдруг разевает пасть и проглатывает его всего целиком, без остатку. Вскоре оказывается, что великий человек не потерпел от того ни малейшего повреждения; напротив, по свойственному ему упрямству объявил из крокодила, что ему очень хорошо в нем сидеть». Это сидение чиновника в крокодиле вызывает переполох: начальство подозревает, что тот «залез в крокодила вследствие каких-нибудь запрещенных, либеральных тенденций. Супруга между тем стала находить, что положение ее „вроде как бы вдовы” не лишено интереса» (она принимает у себя поклонников и играет с начальником мужа «в свои козыри»).
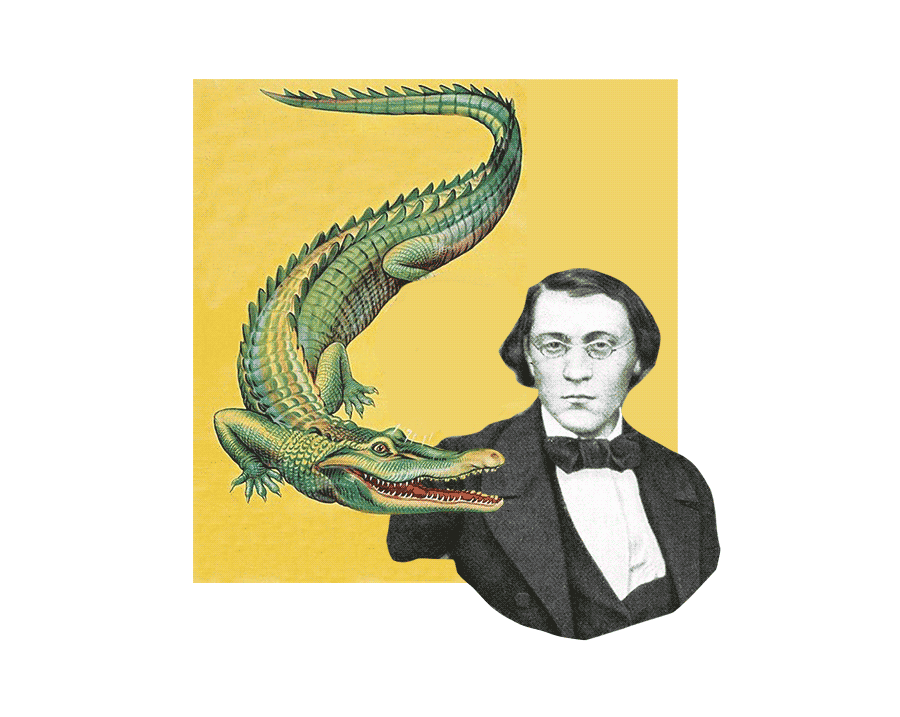 Начинается великолепно выписанная фантасмагория с добавлением, как всегда у Достоевского, реалистичных бытовых деталей. Проглоченный собирается проповедовать идеи:
Начинается великолепно выписанная фантасмагория с добавлением, как всегда у Достоевского, реалистичных бытовых деталей. Проглоченный собирается проповедовать идеи:
«Буду изрекать правду и учить; государственному мужу подам совет, пред министром выкажу способности…» А на «осторожный, но ядовитый вопрос друга: „А ну как если он неожиданным каким-нибудь процессом, которого, впрочем, следует ожидать, переварится во что-нибудь такое, чего не ожидает”, — великий человек отвечает, что уже думал об этом; но с негодованием будет сопротивляться этому весьма возможному по законам природы явлению», — продолжает Достоевский. Этот автопересказ был сделан позже, в «Дневнике писателя» 1873 года: писатель защищался от нападок современников, увидевших в образе проглоченного чиновника злую пародию на Чернышевского.
«В чем же аллегория? — возмущался Достоевский. — Ну конечно — крокодил изображает собою Сибирь; самонадеянный и легкомысленный чиновник —Чернышевского. Он попал в крокодила и всё еще питает надежду поучать весь мир. Бесхарактерный друг его, которого он деспотирует, это всё здешние друзья Чернышевского».
Однако приходится признать, что схожего действительно немало — это и черты самого чиновника — очки, навязчивое желание проповедовать, и обстоятельства его жизни: Ольга Сократовна Чернышевская, как известно, открыто (и с благословения мужа) вела свободный образ жизни: «Канашечка-то знал… Мы с Иваном Федоровичем (любовником — ред.) в алькове, а он пишет себе у окна», — предавалась воспоминаниям она. Да и «крокодил», т. е. Сибирь, изрядно «переварил» ссыльного: вернулся Чернышевский постаревшим, больным и уже не проповедником.
Из известных литературных прототипов в текстах Достоевского стоит, конечно, вспомнить Николая Гоголя — Фому Опискина, героя «Села Степанчикова». В статье «Достоевский и Гоголь (к теории пародии)» Юрий Тынянов исчерпывающе доказал связь образа Фомы Опискина с прототипом-Гоголем, однако оговорился, что Фома Опискин — не Гоголь «вообще», а только Гоголь периода «Выбранных мест из переписки с друзьями». Фома Фомич — «олицетворение самолюбия самого безграничного» — «был когда-то литератором и был огорчен и не признан; а литература способна загубить и не одного Фому Фомича — разумеется, непризнанная». Само собой, Гоголя никак нельзя записать в «непризнанные» литераторы, однако неуспех «Выбранных мест», как известно, больно ударил по его самолюбию.
Фома Фомич живет на положении капризного, балованого гостя, которому угождают и прислуживают хозяева и другие гости дома: «Фома занимал две большие и прекрасные комнаты; они были даже и отделаны лучше, чем все другие комнаты в доме. Полный комфорт окружал великого человека». «Чаю, чаю, сестрица! Послаще только, сестрица; Фома Фомич после сна любит чай послаще»; «Сочинение пишет! — говорит он (дядя рассказчика — ред.), бывало, ходя на цыпочках еще за две комнаты до кабинета Фомы Фомича»; тот же дядя дает наставления племяннику, как вести себя «при встрече». А вот из воспоминаний о Гоголе:
«Трудно представить себе более избалованного литератора и с большими претензиями, чем был в то время Гоголь. <…> Московские друзья Гоголя, точнее сказать, приближенные (действительного друга у Гоголя, кажется, не было во всю жизнь), окружали его неслыханным, благоговейным вниманием. Он находил у кого-нибудь из них во всякий свой приезд в Москву все, что нужно для самого спокойного и комфортабельного житья: стол с блюдами, которые он наиболее любил; тихое, уединенное помещение и прислугу, готовую исполнять все его малейшие прихоти. <…> Даже близкие знакомые хозяина, у кого жил Гоголь, должны были знать, как вести себя, если неравно с ним встретятся и заговорят».
Совпадений с манерой, стилем и привычками Гоголя эпохи «Выбранных мест» действительно множество: Фома Фомич толкует то об «одном глубокомысленнейшем сочинении в душеспасительном роде, от которого произойдет всеобщее землетрясение и затрещит вся Россия», то о «тридцати тысячах человек», что будут собираться на его лекции (намек то ли на курьеров из «Ревизора», то ли на лекции по истории, читавшиеся когда-то Гоголем), то как он, «пренебрегая славой, пойдет в монастырь и будет молиться день и ночь в киевских пещерах о счастии отечества».
Не менее известен и прототип «гениального писателя» Кармазинова в «Бесах» — Иван Тургенев. Причем в романе спародированы как манеры и жесты Тургенева («генеральство ужасное»), вплоть до его привычки к «аристократическому фарисейскому объятию, с которым он лезет целоваться, но подставляет вам свою щеку», так и идеология барского западничества, и стиль, и темы некоторых его произведений. В романе «отец» Кармазинов старается заигрывать с «детьми», подчеркивая свое понимание «новых идей» (недаром он Кармазинов — от cramoisi (франц.) — пунцовый, т. е. почти «красный»). Однако «новые люди», «революционеры», своим его, конечно, не признают, а Верховенский и вовсе издевается: «…Петр Степанович помнил по бывшему уже опыту, что он лобызаться-то лезет, а сам подставляет щеку, и потому сделал на сей раз то же самое; обе щеки встретились».
 Описание чтения Кармазиновым своего произведения «Merci» гомерически смешно: рассказ этот напоминает одновременно тургеневских «Призраков» и «Довольно». Там же пародируются и «фирменные» тургеневские воспоминания о первой любви, и вычурные описания природы, и эстетские упоминания малоизвестных имен и названий:
Описание чтения Кармазиновым своего произведения «Merci» гомерически смешно: рассказ этот напоминает одновременно тургеневских «Призраков» и «Довольно». Там же пародируются и «фирменные» тургеневские воспоминания о первой любви, и вычурные описания природы, и эстетские упоминания малоизвестных имен и названий:
«Правда, много говорилось о любви, о любви гения к какой-то особе, но, признаюсь, это вышло несколько неловко. К небольшой толстенькой фигурке гениального писателя как-то не шло бы рассказывать, на мой взгляд, о своем первом поцелуе… И, что опять-таки обидно, эти поцелуи происходили как-то не так, как у всего человечества. Тут непременно кругом растет дрок (непременно дрок или какая-нибудь такая трава, о которой надобно справляться в ботанике). При этом на небе непременно какой-то фиолетовый оттенок, которого, конечно, никто никогда не примечал из смертных, то есть и все видели, но не умели приметить… Сидят они где-то в Германии… Какая-то русалка запищала в кустах. Глюк заиграл в тростнике на скрипке. Пиеса, которую он играл, названа en toutes lettres, но никому не известна, так что об ней надо справляться в музыкальном словаре».
Еще один представитель «отцов» в «Бесах», Степан Трофимович Верховенский, имеет своим прототипом если не литератора, то человека, оказавшего сильнейшее влияние на науку и культуру поколения «отцов», — историка Тимофея Грановского (в черновиках Верховенский-отец так и именуется Грановским). Но в отличие от Верховенского-Грановского, к «гениальному нувеллисту» Кармазинову Достоевский относится без тени симпатии.
Будет не так легко отыскать героев, к писателям-прототипам которых Федор Михайлович относился с сочувствием. Одним из них был Яков Бутков — малоизвестный писатель, представитель модного в середине 1840-х годов литературного направления «натуральной школы». Бутков был беден, провинциал, мещанин; печатался он в лучшем журнале того времени, «Отечественных записках» Краевского. При очередном рекрутском наборе Бутков должен был идти в солдаты, но Краевский купил ему рекрутскую квитанцию, то есть по сути избавил от солдатчины, договорившись, что тот будет писать только для «Отечественных записок», возвращая понемногу долг из гонораров. Краевского в литературно-журнальной среде не любили — за деловые качества и практическую хватку, а с тяжелой руки Белинского и вовсе стали считать вампиром-эксплуататором. В итоге в повести Достоевского «Слабое сердце» (1848) появляется несчастный «маленький человек», бедный чиновник Вася Шумков, считающий себя обязанным начальнику, «его превосходительству», выкупившему его из рекрутской повинности. От чувства вины (Вася Шумков не успевал закончить работу в срок), несовместимого со счастьем (любимая девушка согласилась выйти за него замуж), маленький человек сходит с ума. В «его превосходительстве», холодном Юлиане Мастаковиче, явно угадывался Краевский — и, что интересно, «Слабое сердце» было напечатано в тех же «Отечественных записках».
Явная отсылка к литератору-современнику угадывается и в рассказе-фантасмагории «Бобок» (1873). Рассказчик засыпает на кладбище и слышит раздающиеся из-под земли разговоры покойников, в которых еще теплится остаточная жизнь. Несмотря на телесную немощь, покойники не собираются каяться в грехах прошлого, а, напротив, решают отбросить всякий стыд и предаться разврату. Живо написанная картина развлечений в замогильном обществе, а также имена некоторых персонажей напоминают нашумевший в то время (почти порнографический) роман Петра Боборыкина «Жертва вечерняя». Кроме того, уже почти совсем заснувший и разложившийся мертвец в рассказе Достоевского бубнит лишь одно слово: «Бобок, бобок» — что созвучно с одним из псевдонимов плодовитого Боборыкина — «Боб».
Конечно, портреты собратьев по перу, выведенные Достоевским в произведениях, в основном не отличаются светлыми комплиментарными красками. Однако из этого никак нельзя сделать вывод о злом и мрачном характере их автора («Я злой человек. Непривлекательный я человек») — а только лишь о его своеобразном чувстве юмора. Наилучшим образом это чувство описывает Тынянов в упоминавшейся уже статье о Гоголе и Достоевском: братья Достоевские для памятника над могилой матери выбрали надпись из Карамзина: «Покойся, милый прах, до радостного утра…». В «Идиоте» же один из персонажей, Лебедев, будто бы уверяет, что потерял левую ногу, а затем «ногу эту поднял и отнес домой, потом похоронил ее на Ваганьковском кладбище и… поставил над нею памятник, с надписью, с одной стороны: «Здесь погребена нога коллежского секретаря Лебедева», а с другой: «Покойся, милый прах, до радостного утра».