Как я сочинял стихотворение про Сарданапала
Из цикла статей «Как делать стихи Германа Лукомникова». Этюд первый
На нас напала
Орда Сарданапала,
А на Сарданапала
Нас орда напала!
Это стихотворение я сочинил летом 2001 года. Я зацепился за имя Сарданапал и напрашивающуюся рифму «напал». Точную, богатую. Хорошую, но очевидную. Не удивлюсь, если она встречалась у Брюсова или у Державина. Это не страшно. Посмотрим, что у меня из нее получится.
В принципе, ее саму по себе можно рассмотреть как готовое стихотворение: «Сарданапал / Напал» (или «Напал / Сарданапал»). Я минималист, мои стишки обычно состоят из нескольких слов, иногда из двух (или даже из одного). И таких стихов-рифм у меня целая серия: «Снег. / Человек», «Горшок. / Цветок», «Ланиты / Побиты»... Но «Сарданапал / Напал» все-таки не канает. Звучно, осмысленно, и все же нет иероглифической выразительности лучших стихов такого рода. Чего-то не хватает.
По терминологии комбинаторной поэзии эта пара слов — логогриф: одно получается посредством усечения другого. Вспомним хрестоматийные многоступенчатые примеры: латинское «amore, more, ore, re...» или наше, из детского фольклора, «победа, обеда, беда, еда, да...». Рифма-логогриф не редкость, взять хоть «розы-морозы».
Когда исходный импульс — рифма (так у меня бывает часто), я обычно пытаюсь ее углубить, развить вглубь строки. Из логогрифической хочется вырастить панторифму (или, по термину С. Федина, равнобуквицу). Это когда строки созвучны не только хвостиками, а полностью: «Во шкатулочке — / Вошь, Катулл, очки», «при виде лис во мраке / привиделись вам раки». Ну или хотя бы просто каламбурную, и как-то ее использовать.
Если из «Сарданапал» вычесть «напал», останется какое-то «сарда». Без буквы «с» слышится «орда»! Ведь безударные «а» и «о» звучат одинаково. А орда и Сарданапал семантически связаны, во всяком случае ассоциируются друг с другом. И вот с этого момента начинается самое интересное. То, что я описывал до сих пор, это такая черновая рутина, которой мой мозг занят круглыми сутками. А на этом месте я хищно повожу ноздрями: похоже, стихотворение где-то близко...
Сразу получается панторифма с восточным акцентом: «Сарданапал / с орда напал». Что, может быть, и уместно: Сарданапал — ассирийский царь, он со своей ордой напал на соседей, и те жалуются, путаясь в русских падежах. Восточный акцент мне хорошо знаком, я родом из Баку, сам в детстве говорил с тамошним прононсом. Стихи с акцентом (не путать с акцентным стихом — это другое, термин стихотворной метрики)... Стихи с акцентом бывают занятны, у меня есть несколько таких: «— Вы откуда / и куда? / — Из Баку, да-а-а, в Баку, да-а-а...», «Чем смотреть кинишко, / Почитай кинищка». Но «Сарданапал / С орда напал» — нет, какая-то неинтересная натяжка.
Можно плюнуть на фонетическую точность и исправить падеж: «Сарданапал / с ордой напал». Вклинивается «и краткое», но оно не мешает. В панторифмах с приблизительными созвучиями есть своя прелесть. Как и в палиндромах вольного стиля, где несимметричны мягкие знаки и т. п. (например, мое «Вобью ль взором мороз в любовь?» или «Сам дошёл и доводи лошадь масс» хлебниковеда В. П. Григорьева). Да и просто в рифмах: точные хороши, но и в неточности есть сила, недаром начиная с «серебряного века» русская рифма двинулась в сторону неточности. «Сарданапал / с ордой напал» — неплохой стишок.
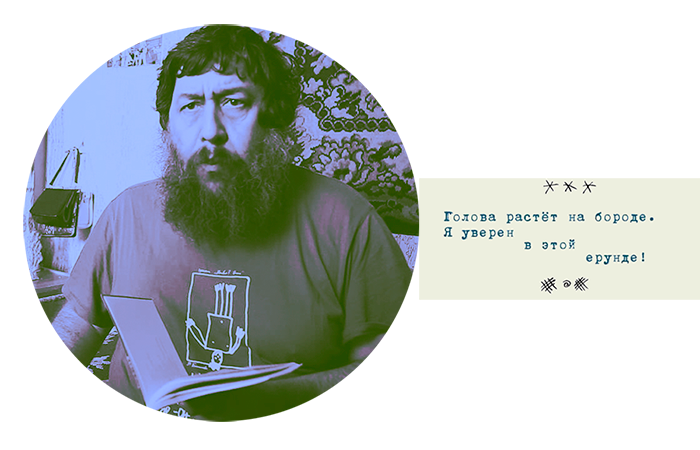 В оформлении статьи использованы фрагменты книги стихов Германа Лукомникова «Хорошо, что я такой» (М.: Самокат, 2019), проиллюстрированной Колей Филипповым.
В оформлении статьи использованы фрагменты книги стихов Германа Лукомникова «Хорошо, что я такой» (М.: Самокат, 2019), проиллюстрированной Колей Филипповым.
А можно сделать что-то вроде миниграммы (термин, опять-таки, С. Федина), то есть минимальной анаграммы. Напомню, анаграмма — это когда буквы переставляются (наподобие «апельсин / спаниель»). А миниграмма — это такая анаграмма, в которой переставляется лишь одна буква либо две буквы меняются местами (например, «лживость сиянья / живость слиянья» Дмитрия Авалиани; или мое «Всё поем. / Все поём»). В отличие от обычных анаграмм, которые важно видеть глазами, миниграммы обычно легко воспринимаются на слух, это роднит их с панторифмами. Так вот, уже забракованный нами вариант «Сарданапал / с орда напал» можно переделать в фонетическую миниграмму (фонетическую потому, что мы условно приравниваем безударные «а» и «о»): «Сарданапал / с одра напал». Тут соседние согласные меняются местами: «рд» превращается в «др». Прием, характерный для скороговорок. И в самом деле получилась скороговорка. Но смысл туманен. Смысловая туманность бывает очень поэтична, но тут, кажется, не тот случай. «С одра» — это со смертного одра, что ли, вскочил и напал? Или просто с постели? Неинтересно. Ради этого жертвовать «ордой» не хочется.
Попробуем все-таки двигаться в сторону панторифмы. Не меняя формы слова «орда». Но грамматические формы других слов можно изменить. Ну конечно! «Сарданапала / орда напала» — и этот вариант явно лучше предыдущих. Почти панторифма, фонетический логогриф с усечением «с». Выразительно.
Но пойдем дальше. Как фонетически приравнять строки? Чтобы перед словом «орда» появилось выпавшее «с». Возможен вариант со словоерсом: «Сарданапала-с орда напала», близкий к так называемой раскладухе. Такое лучше записывать как моностих, без деления на строки, чтобы читатель сам угадывал, где здесь рифменная граница. Раскладуха — мое собственное изобретение — панторифма и скрытая рифма одновременно («тепло хоть и плохо», «А меня это меняет»). Кстати, скрытая рифма (не путать с обычной внутренней) — тоже мое изобретение («Я стихи пишу про хиппи», «Комары сидят как рыси»). Но приведенный вариант (невидимая рифменная граница проходит не после словоерса, а перед ним, как бы по дефису) чересчур формален, воспринимается туго, а особых достоинств, которые бы перевешивали, у него нет. Профану наверняка захочется добавить еще один словоерс: «Сарданапала-с орда напала-с», что было бы совсем тупо, как «розы-с, морозы-с».
Вернемся к варианту «Сарданапала / орда напала». Что если поменять строки местами? «Орда напала / Сарданапала». Сам по себе этот вариант, кажется, послабее. Но к нему сразу хочется кое-что добавить. По смыслу до сих пор чего-то всё время будто бы не хватало: а на кого, собственно, напали? Недоговоренность, эллиптичность текста может быть прекрасной, и особенно это относится к поэзии минималистской. Но сюда просто просится предлог «на»: «Орда напала / на Сарданапала». Вновь переставим строки: «На Сарданапала / орда напала». Получился логогриф с каламбурной рифмой. Хороший вариант! И неожиданный: Сарданапал не агрессор, а жертва, напали-то именно на него. Интересно.
Едем дальше вглубь строки, влево. Строки прежнего варианта различались начальной фонемой «с». Теперь эта разница даже выросла. Что торчит? «Насарданапала» минус «орданапала»... Эврика! В остатке буквосочетание «нас» — идеально подходящее сюда местоимение! «На Сарданапала / нас орда напала». Четкая панторифма, замечательная и по звучанию, и по смыслу. Кто напал на бедненького Сарданапала? Да мы сами. (Как у Достоевского: «Вы и убили-с, Родион Романович».) Вот это уже действительно готовое стихотворение или, по крайней мере, его ядро.
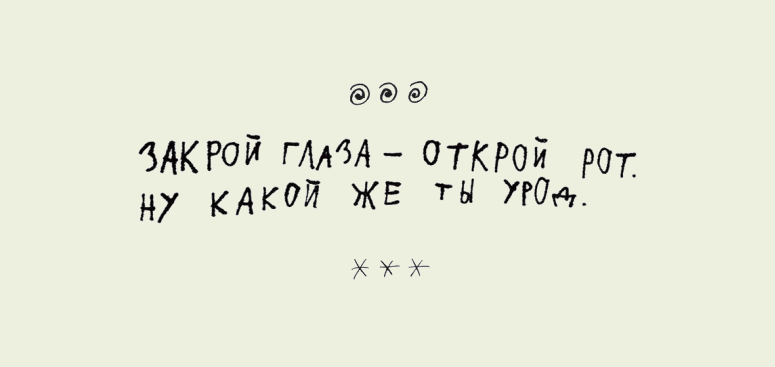 Правда, оборот «нас орда» звучит немного странно, как бы не совсем по-русски. Правильно было бы сказать «наша орда». Но смысл ясен, отступление от нормы не грубое. Да, так не говорят, но могли бы говорить. Вспоминается пушкинское «Без грамматической ошибки / Я русской речи не люблю». Кстати, этот ход я вскоре, осенью того же 2001 года, применил в еще одной панторифме: «На снегу — стая / Нас негустая...», — и оба стихотворения прекрасно воспринимаются и взрослыми, и детьми.
Правда, оборот «нас орда» звучит немного странно, как бы не совсем по-русски. Правильно было бы сказать «наша орда». Но смысл ясен, отступление от нормы не грубое. Да, так не говорят, но могли бы говорить. Вспоминается пушкинское «Без грамматической ошибки / Я русской речи не люблю». Кстати, этот ход я вскоре, осенью того же 2001 года, применил в еще одной панторифме: «На снегу — стая / Нас негустая...», — и оба стихотворения прекрасно воспринимаются и взрослыми, и детьми.
Итак, «На Сарданапала / нас орда напала». Хочется зазеркалить смысл. Добавить обратное, что-то вроде «На нас Сарданапала орда напала». Не очень складно. А ну-ка чуть-чуть переставим слова: «На нас напала / орда Сарданапала». Отлично! Это не панторифма, но я не давал подписку писать одни панторифмы. Звучит великолепно. Ритмически интересно — строки разной длины (в первой пять слогов, во второй семь). Разностопный ямб. С сильной цезурой (паузой) после «на нас». Хоть и не панторифма, а все равно насквозь прорифмовано: «на-на-с-на-пала-арда-с-арда-на-пала».
Остается соединить получившиеся части: панторифму «На Сарданапала / нас орда напала» и не-панторифму «На нас напала / орда Сарданапала». В какой последовательности? Явно эффектнее завершить панторифмой. Не-панторифма с ее странной структурой и захватывающей ритмикой тут хороша как зачин. Да и это начальное «на-на» удачно задает этакое песенно-плясовое настроение.
Поскольку смыслово части противостоят друг другу, хочется добавить между ними противительный союз «а». И это еще один аргумент за такую последовательность, иначе там какой-то дурацкий банальный отвлекающий «ананас» выскочит («А на нас напала...»).
Вот результат (запись пока условная, без пунктуации):
на нас напала
орда Сарданапала
а на Сарданапала
нас орда напала
Не мешает ли панторифме вставка перед нею этого «а»? Нет, не мешает. Стремиться к комбинаторной чистоте панторифмы не обязательно, тем паче, что первая часть все равно свободная, не строго-комбинаторная. И в этом смысле союз «а» действительно соединяет части, сглаживая их формальную разнородность. Ритмически он тоже уместен — как переходник между ямбом и хореем. Получается сперва три строки ямба, причем первая из них своей краткостью выбивается из общей (трех)стопности. А напоследок, в четвертой, как долбанем хореем!
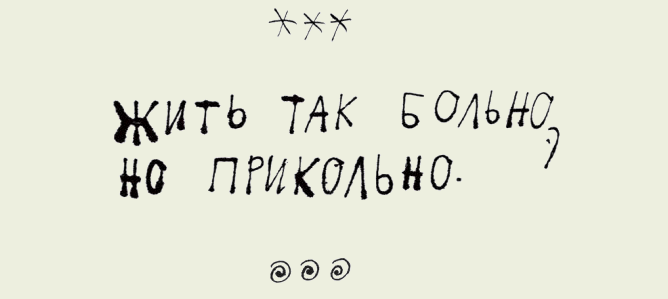 Остается косметически дошлифовать текст, выбрать способ записи. Ставить ли знаки препинания? Повышать ли акрорегистр, т. е. делать ли заглавными буквы в начале строк? Да, мне тут хочется нормативной пунктуации и повышенного акрорегистра, чтобы стихотворение выглядело «как настоящее», «как старинное». Разделять ли двустишия межстрофным пробелом? Принимаю парадоксальное решение: ставлю межстрофный пробел, но в конце второй строки ставлю запятую. Чтобы было и связано, и разъято. В самом конце ставлю восклицательный знак.
Остается косметически дошлифовать текст, выбрать способ записи. Ставить ли знаки препинания? Повышать ли акрорегистр, т. е. делать ли заглавными буквы в начале строк? Да, мне тут хочется нормативной пунктуации и повышенного акрорегистра, чтобы стихотворение выглядело «как настоящее», «как старинное». Разделять ли двустишия межстрофным пробелом? Принимаю парадоксальное решение: ставлю межстрофный пробел, но в конце второй строки ставлю запятую. Чтобы было и связано, и разъято. В самом конце ставлю восклицательный знак.
Стихотворение готово.
У него какое-то мантрическое звучание, хочется повторять его без остановки снова и снова, как «Харе Кришна...», до бесконечности.
И, похоже, это универсальная формула войны. Ироничная и по существу не военная. Скорее, антивоенная.
...На самом деле я, конечно, не помню, как его сочинял. И черновиков, за редчайшими исключениями, не храню, так что проверить невозможно. Этот рассказ — просто реконструкция. Но правдоподобная. Близкий ход рассуждений мог занимать несколько минут, несколько часов, несколько дней, недель, месяцев, несколько лет или даже десятилетий. По-разному бывает. Кажется, в тот раз получилось довольно быстро.