Как устроена волшебная сказка
Расшифровка лекции Сергея Неклюдова «Владимир Пропп: от „морфологии“ к „истории“»
Имя русского ученого Владимира Яковлевича Проппа (1895–1970) известно по всему миру, а его книга «Морфология сказки», пожалуй, самая знаменитая работа XX века по фольклористике. Она повлияла не только на специалистов, но и на писателей, киносценаристов и т. д. Вторая ключевая работа Проппа, «Исторические корни волшебной сказки», менее известна за рубежом, поскольку не выходила целиком на английском. Сейчас в США готовится ее первый полный перевод, а предисловие к нему написал профессор, доктор филологических наук Сергей Неклюдов (Центр типологии и семиотики фольклора РГГУ). Недавно он выступил с лекцией, посвященной этим двум книгам и научному наследию Проппа: «Горький» совместно с некоммерческим образовательным проектом
Дорогие коллеги, я решил предложить вам эту лекцию по нескольким причинам. Во-первых, в этом году годовщина — 50 лет со дня смерти Владимира Проппа. Во-вторых, из двух его главных книг, «Морфология сказки» и «Исторические корни волшебной сказки», вторая до сих пор не переведена полностью на английский язык, и потому ее известность крайне ограничена; только сейчас в Америке готовится первое издание полного перевода «Исторических корней». Я недавно закончил предисловие к нему, и эта работа побудила меня вновь вернуться к «пропповской» проблематике в науке о фольклоре. В-третьих, наконец, мне посчастливилось быть знакомым с Проппом, редактировать второе издание «Морфологии сказки» (1969), и это обстоятельство является для меня еще одним, чисто личным поводом поговорить о его научном наследии.
Немного истории
Когда речь заходит о Проппе, в первую очередь вспоминают «Морфологию сказки» и в меньшей степени — «Исторические корни волшебной сказки». Сказковедение занимало, пожалуй, главное место в научном творчестве Проппа. Ему посвящены три из шести его монографий — помимо упомянутых выше еще «Русская сказка», текст которой основан на курсе лекций, прочитанных на филфаке Ленинградского университета (собран, подготовлен и напечатан уже после смерти Проппа, в 1984 году). Пропп занимался изучением сказки непрерывно на протяжении почти двадцати лет, а после он возвращался к сказочной тематике лишь эпизодически, в частности когда готовил издание трехтомника Афанасьева и еще при некоторых других обстоятельствах. «Морфология сказки» вышла в 1928 году в издательстве Academia в серии «Вопросы поэтики», а «Исторические корни волшебной сказки» — в 1946 году в издательстве Ленинградского университета.
Судьба этих книг очень разная: у «Морфологии сказки» всемирная слава, а у «Исторических корней» — очень ограниченная известность. За пределами Советского Союза и России ее знают несравнимо меньше, причем главным образом ввиду отсутствия англоязычного перевода. Нельзя сказать, что ее не переводили совсем. Почти сразу после издания книги появился итальянский перевод, впоследствии многажды переиздававшийся, есть также румынский, испанский, французский и японский переводы. Однако по-английски представлены лишь две главы, вводная и заключительная. Это обстоятельство не только препятствует рецепции «Исторических корней» в мировой науке, но также влияет и на адекватное восприятие «Морфологии сказки».
Славу «Морфологии сказки» невозможно переоценить. В XX веке она стала едва ли не самой знаменитой книгой по фольклору (в действительности ее значение выходит далеко за пределы собственно фольклористики). Она была переведена на языки всех народов, у которых только существует традиция научной фольклористики, она имела огромный резонанс и стимулировала целый ряд продолжающих ее исследований. После «Морфологии» фольклористика изменилась настолько, что можно говорить о ее «допропповском» и «постпропповском» периодах.
Она вызвала отклик и далеко за пределами фольклористического сообщества, например, в исследованиях по информатике, которые проводились еще с конца 1970-х годов. В основном речь идет об опыте порождения сказок с использованием пропповского набора функций. Тексты, которые получаются в результате такого порождения, не самого лучшего качества и мало чему соответствуют в реальной сказочной традиции. Зачем это делается, мне понять трудно. Возможно, для работ по искусственному интеллекту это имеет какое-то значение, но фольклористике такое механическое использование модели Проппа не дает практически ничего.
Можно вспомнить и т. н. дидактические карты Проппа, использовавшиеся на семинаре Джанни Родари и описанные в его книге «Грамматика фантазии». Напомню, что в Италии Пропп известен лучше, чем в других странах, «Исторические корни» там были переведены раньше «Морфологии». Среди прочего Родари писал: «Сравнить приведенный перечень [функций] с сюжетом любого приключенческого фильма; удивительно, как много обнаружится совпадений и как будет почти в точности соблюден тот же порядок <...> Той же канвы придерживаются и многие приключенческие книги». «Нас его функции интересуют потому, что на их основе мы можем строить бесконечное множество рассказов, подобно тому как можно сочинять сколько угодно мелодий, располагая всего-навсего двенадцатью нотами». Тут любопытно, что подход как бы тот же самый, что и у специалистов по информатике, но цели разные, поскольку последние отнюдь не стремились к развитию фантазии.
Из воспоминаний Изалия Земцовского, фольклориста-музыковеда, который был близок с Проппом, а ныне живет в Америке, я узнал, что американская писательница и сценаристка голливудских фильмов Виктория Нельсон говорила следующее: «У нас в Голливуде есть популярная и безотказно спасительная формула — „Do it with Propp!“... Когда нужно в одной фразе изложить суть будущего фильма, особенно в случае хитрого комбинирования, например, двух сюжетов, опытные мастера-сценаристы советуют: „Follow Propp!“. Выведенные им законы построения сказки работают и в кинематографии. Его книга „Морфология сказки“ — второе американское издание 1968 г. — перепечатывалась в США уже не менее 20 раз. Все сценаристы ее имеют. Это их рабочая Библия...» Даже если это преувеличение, комментарий все равно весьма любопытный. Или, скажем, итальянский композитор-экспериментатор Лучано Берио: он выступал с лекцией на тему «Владимир Пропп и анализ оперы», а также сочинил оперу на собственное либретто, задуманное и сделанное исключительно по Проппу, в духе его «Морфологии».
«Прежде всего вредитель принимает чужой облик»
К переизданию 1969 года Пропп заново подготовил рукопись «Морфологии сказки». Речь идет не о механической перепечатке: он довольно сильно правил ее, хотя это не меняло сути исследования и потому не имело особого значения. Но две коррективы мне бы хотелось упомянуть. В предисловии он исправляет «изучение сказки как мифа» на «историческое изучение сказки». Это прямое следствие прожитой жизни, некоторого рода пересмотра своей работы, результат дискуссий (в том числе с Леви-Строссом). Возможно, Пропп хотел таким образом вернуть связку «Морфологии сказки» с «Историческими корнями волшебной сказки», и в то же время убрать жесткую формулировку «изучение сказки как мифа».
Любопытна и вторая замена — термина «вредитель» на термин «антагонист», причем осуществленная по всей книге (кое-где слово «вредитель» сохранилось, но терминологически он четко заменил одно другим). Вероятно, это связано с отказом от политической риторики 1920-х годов. Изначально слово «вредитель» встречалось преимущественно в сельскохозяйственном дискурсе применительно ко вредным насекомым (скажем, жучки, уничтожающие сельскохозяйственные культуры), но примерно с середины 1920-х годов начали говорить про вредителей советской сельской общественности; отмечу, что именно в 1926 году Пропп на заседании Сказочной комиссии презентовал первые результаты своей работы над «Морфологией сказки». Далее это понятие эволюционирует, оформляется уже и образ злейшего идеологического врага.
Похоже, что концепт «вредителя» у Проппа первоначально прямо связан с этим дискурсом. Например, в первой редакции книги мы читаем: «Он пришел, подкрался, прилетел и пр. и начинает действовать. <...> Его [вредителя] роль — нарушить покой счастливого семейства, вызвать какую-либо беду, нанести вред, ущерб. <...> Вредитель пытается обмануть свою жертву, чтобы овладеть ею или ее имуществом. Прежде всего вредитель принимает чужой облик». В том же 1928 году в газете «Правда» публиковалось такое: «Враги пробираются во все наши организации. Они овладевают нашим доверием и зло морочат нас. Они притворяются нашими преданными друзьями и потому опаснее открытых врагов» (6.07.28); «...слишком уж много у этого человека разных масок, и каждую он умеет довольно прилично и естественно носить» (24.05.28).
После 1928 года термин «вредитель» приобретает особенно угрожающий характер. Понятно, почему впоследствии автор старался избавиться от него.
Рукопись «Морфологии сказки», представленная в издательство, включала в себя еще одну главу — в ней намечался будущий труд «Исторические корни волшебной сказки». (Когда я предложил Владимиру Яковлевичу вернуть эту главу в издание 1969 года, он сказал, что она не сохранилась.) По совету Виктора Максимовича Жирмунского эта глава была изъята из книги. К слову, у меня создалось впечатление, что у Проппа была затаенная обида на Жирмунского — Владимир Яковлевич был очень чувствителен к своим текстам, а Жирмунский, как рассказывал Елеазар Моисеевич Мелетинский, шутя говорил: это я сделал из Проппа формалиста. Отсечение этой главы придало монографии большую цельность и завершенность, но отделило ее от изначально планировавшегося продолжения, которое показывало бы истинные цели исследования.
Однако до подлинной оценки замысла этой великой книги оставалось ждать еще двадцать — тридцать лет: книга явно родилась прежде своего времени.
Опубликовав «Морфологию», Пропп приступил к установлению широких этнографических соответствий темам и мотивам волшебной сказки. Почти десять лет спустя первая редакция «Исторических корней волшебной сказки» была завершена и в 1939 году защищена как докторская диссертация. Доработанная монография вышла уже после войны, в 1946 году, в крайне неблагоприятный для советской науки период. Сразу по выходе успела появиться крайне благоприятная и вполне конструктивная рецензия Жирмунского. Ну а дальше началось — партийная критика (в газетах, журналах, на «обсуждениях» в Институте этнографии АН СССР) усмотрела в ней «мистицизм», «извращение и фальсификацию истинной картины общественных отношений», обращение к работам «идеалистов» Фрезера и Леви-Брюля, к «буржуазной» финской школе, отсутствие опоры на труды русских «революционно-демократических» публицистов Добролюбова и Чернышевского, а также «пролетарского писателя» Горького, считавшего волшебные сказки воплощением мечты человека о светлом будущем. Все это была не только брань, но и настоящие угрозы. К сожалению, помимо людей, чьи имена ни в чьей памяти не сохранились, среди засветившихся в обсуждениях встречались и вполне оставшиеся в науке персонажи.
За рубежом эта книга осталась малоизвестной. Исключение — итальянский перевод (1949), не менее шести раз переиздававшийся и позднее позволивший Карло Гинзбургу чрезвычайно высоко оценить «Исторические корни...» — «великую книгу, несмотря на ее недостатки», причем именно как часть задуманной автором дилогии: «Отсылка к Гёте (к Гёте-морфологу) дается у Витгенштейна открыто, так же как и в „Морфологии сказки“ Проппа, написанной в те же самые годы. Но, в отличие от Витгенштейна, Пропп рассматривал морфологический анализ как инструмент, полезный и для исторического исследования, а не как альтернативу последнему» (1986). Определение Гинзбурга очень точное, оно дает понимание действительной цели Проппа в работе над «сказочным» проектом. А вот что еще раньше Гинзбурга написал Джанни Родари (1973): «Теория, выдвинутая В. Я. Проппом, обладает особой притягательностью еще и потому, что только она устанавливает глубокую (кое-кто сказал бы, „на уровне коллективного подсознания“) связь между доисторическим мальчиком, по всем правилам древнего ритуала вступающим в пору зрелости, и мальчиком исторически обозримых эпох, с помощью сказки впервые приобщающимся к миру взрослых. В свете теории Проппа тождество, существующее между малышом, который слышит от матери сказку о Мальчике-с-Пальчик, и Мальчиком-с-Пальчик из сказки, имеет не только психологическую основу, но и другую, более глубокую, заложенную в физиологии». Это еще одна интересная мысль, к которой хотелось бы возвращаться.
Формула Проппа
Поначалу первая книга Проппа имела заголовок «Морфология волшебной сказки», а его предварительное сообщение о результатах исследования именовалось еще точнее: «Морфология русской волшебной сказки». Однако уже тогда, вероятно, у автора возникло ощущение, что итог работы превышает исходный замысел, в результате чего родилось окончательное название — обобщенное и лаконичное. Я, кстати, предлагал вернуть книге во втором издании изначальный заголовок, но Пропп резонно отказался, поскольку, по его словам, общеизвестным стало именно название «Морфология сказки» и ничего менять не надо. Когда в последующих, уже посмертных переизданиях публикаторы восстанавливают слово «волшебной», мне вспоминается этот разговор, и я думаю, что делать так не стоило.
В формулировании своих фольклористических концепций Пропп опирался на труды Александра Веселовского по поэтике, который первым — еще в 1884 году! — употребил само выражение «морфология сказки»: «Было бы интересно сделать морфологию сказки и проследить ее развитие от простейших сказочных моментов до их наиболее сложной комбинации. Тогда бы мы узнали, что чем древнее сказка, тем проще ее схема, и чем новее, тем более она осложняется» (Веселовский А. Н. Из лекций по истории эпоса [1884]). Можно сказать, что Пропп решил задачу, поставленную Веселовским.
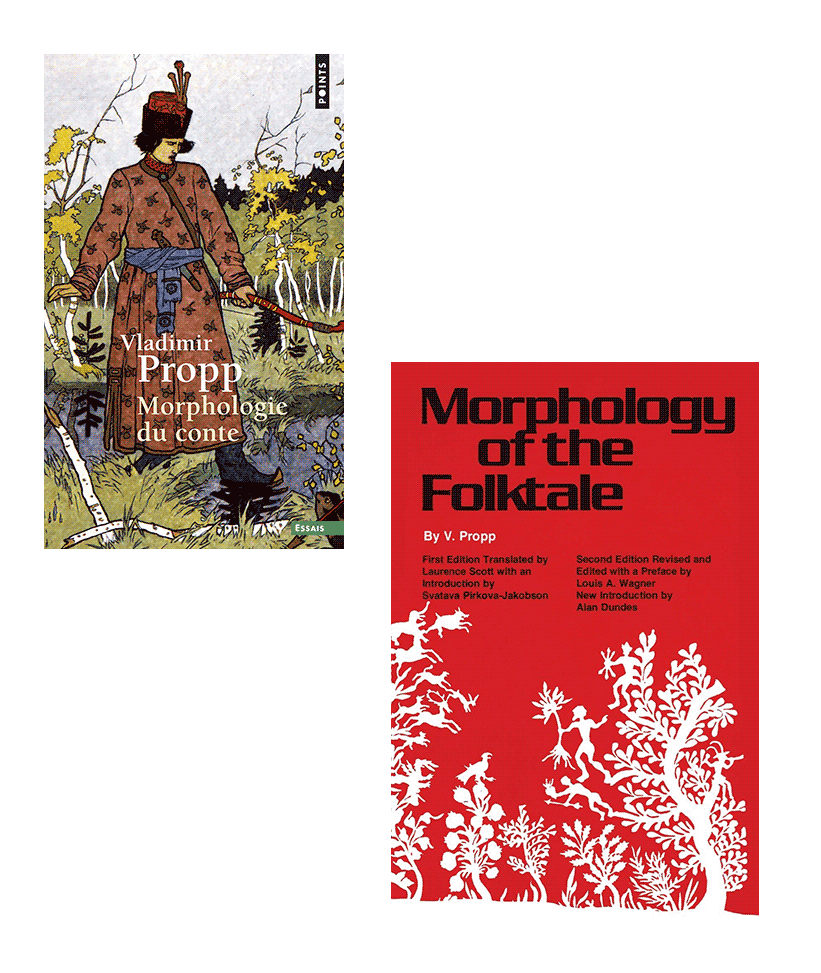 Видимо, тот же источник был у Александра Никифорова, статья которого «К вопросу о морфологическом изучении народной сказки» (1928) была в полном смысле слова параллельной пропповскому исследованию. Впрочем, в 1920-х годах термин морфология в значении «формальная структура», «композиция» уже использовался (M. А. Петровский «Морфология пушкинского „Выстрела“» [1925] и «Морфология новеллы» [1927]), а Борис Эйхенбаум еще в 1922 году предложил «формальный» метод называть «морфологическим», считая при этом, что «в области изучения фольклора и общей сюжетологии морфологический метод уже достаточно укреплен». Сказать по правде, что тут имел в виду Эйхенбаум, я не очень понимаю. На тот момент еще не было работ ни Никифорова, ни Проппа. Кстати, оба они работали в одной и той же Сказочной комиссии, и высоко оценивали исследования друг друга. К сожалению, замечательная работа Никифорова осталась как бы в тени «пропповского проекта» и не получила адекватной оценки, что исторически несправедливо.
Видимо, тот же источник был у Александра Никифорова, статья которого «К вопросу о морфологическом изучении народной сказки» (1928) была в полном смысле слова параллельной пропповскому исследованию. Впрочем, в 1920-х годах термин морфология в значении «формальная структура», «композиция» уже использовался (M. А. Петровский «Морфология пушкинского „Выстрела“» [1925] и «Морфология новеллы» [1927]), а Борис Эйхенбаум еще в 1922 году предложил «формальный» метод называть «морфологическим», считая при этом, что «в области изучения фольклора и общей сюжетологии морфологический метод уже достаточно укреплен». Сказать по правде, что тут имел в виду Эйхенбаум, я не очень понимаю. На тот момент еще не было работ ни Никифорова, ни Проппа. Кстати, оба они работали в одной и той же Сказочной комиссии, и высоко оценивали исследования друг друга. К сожалению, замечательная работа Никифорова осталась как бы в тени «пропповского проекта» и не получила адекватной оценки, что исторически несправедливо.
Далее «формула Проппа» выходит из-под контроля создателя и начинает жить самостоятельной жизнью. Впоследствии он неоднократно возражал против слишком уж расширительного толкования своего открытия и даже склонен был отказаться от термина «морфология», заменив его термином «композиция». В последней книге — «Русская сказка» — выражение «морфология сказки» практически не употребляется. Возникает ощущение, что иногда Владимир Яковлевич слушал своих критиков с излишним вниманием.
«Прежде чем ответить на вопрос, откуда сказка происходит, надо ответить на вопрос, что она собой представляет»
«Морфология сказки» и «Исторические корни волшебной сказки» задумывались Проппом как дилогия, причем первой работе отводилась скорее «подготовительная» роль, тогда как следующая монография должна была стать основной и завершающей. Сквозной сюжет этих разысканий — описание структуры явления с целью исследования его генезиса: «Прежде чем ответить на вопрос, откуда сказка происходит, надо ответить на вопрос, что она собой представляет».
Принцип стадиального развития для Проппа аналогичен закону биологической эволюции: «Область природы и область человеческого творчества не разъединены. Есть нечто, что объединяет их, есть какие-то общие для них законы, которые могут быть изучены сходными методами» («Структурное и историческое изучение волшебной сказки»). Это 1966 год, ответ Проппа Леви-Строссу, но тут он вспоминает идеи, которые приходили ему в голову во время работы над «Морфологией сказки». Идея эволюции была тогда для него чрезвычайно важной, он досадовал на снятие переводчиком эпиграфов Гете в английском издании, потому что они имели отнюдь не орнаментальный, а вполне тематический характер: «Изучение сказки во многих отношениях может быть сопоставлено с изучением органических образований в природе... Как здесь, так и там возможны две точки зрения: или внутреннее сходство двух внешне не связанных и не связуемых явлений не возводится к общему генетическому корню — теория самостоятельного зарождения видов, или это морфологическое сходство есть результат известной генетической связи — теория происхождения путем метаморфоз и трансформаций, возводимых к тем или иным причинам».
Таким образом, Пропп предельно четко определяет принципиальные установки своего исследовательского проекта, причем в нем ни отдельно взятая сказка, ни отдельно взятый сюжет не являются предметом изучения, все это — лишь материал для дальнейшего анализа. Он чрезвычайно отчетливо поясняет свой подход к материалу: «Историческому объяснению в первую очередь подлежат не отдельные сюжеты, а та композиционная система, к которой они принадлежат. Тогда между сюжетами откроется историческая связь, и этим прокладывается путь к изучению отдельных сюжетов». Это тоже из ответа Леви-Строссу («Структурное и историческое изучение волшебной сказки», 1966), но сами эти идеи заложены еще в «Морфологии сказки». То, что не всякий критик их увидел, объясняется готовностью (или неготовностью) читателей к их восприятию, потому что сам текст Проппа, с моей точки зрения, в высшей степени прозрачный, ясный и четкий. Сведéние всех волшебных сказок к одной — не ошибка Проппа (как полагал Леви-Строс), а условие достижения поставленной цели: «определить специфику сказки, описать и объяснить ее структурное единообразие» (Е. М. Мелетинский). Кстати, слово сказка он обычно предпочитал употреблять в единственном числе («Морфология сказки», «Исторические корни волшебной сказки», «Русская сказка»), говоря о данном жанровом типе («волшебная сказка») как о некой интегрированной сущности.
«Морфологическая формула» Проппа — результат конструирования модели, которая не может иметь реальных воплощений в историческом прошлом, но способна объяснить все потенциальное многообразие форм данной традиции, порождаемых процессом морфологической эволюции. Широкие этнографические соответствия темам и мотивам волшебной сказки (в «Исторических корнях») позволяют выявить ритуально-мифологический субстрат их семантики и через это — способствовать установлению их генезиса.
Как писал Карло Гинзбург (по другому поводу), «речь идет о некоем мифологическом ядре, которое на протяжении столетий — а возможно, и тысячелетий — сохраняло свою жизнеспособность. Эта преемственность, которая прослеживается за бесчисленными вариациями, не может быть упрощающе сведена к некоей склонности человеческого духа», что «под видом ответа вновь ставит исходную проблему» (туда же «архетипы» и «коллективное бессознательное»).
В синтагматической (морфологической) модели структурные элементы повествования (функции) соединяются по смежности — как устойчивая горизонтальная последовательность. В «Исторических корнях» (парадигматический уровень) каждая функция (в идеале) через широкий этнографический комментарий к опорным элементам данной модели обретает эквивалент в архаической ритуальной традиции и тем самым — глубинную мифологическую семантику (глубинную, то есть существующую лишь как результат реконструкции).
«Исторические корни волшебной сказки» — это, в общем-то, один метасюжет, связанный только с обрядом инициации, а «Морфология сказки» охватывает все сюжетные типы, все сказки. Парадигматические отношения можно использовать для исторического объяснения генезиса волшебной сказки, что Пропп и делает со свойственной ему категоричностью. Его аргументированно критиковали за преувеличение роли архаических посвятительных обрядов в генезисе повествовательных структур и за произвольность отдельных семантических реконструкций. Еще Жирмунский в своей рецензии писал, что по отношению к сказкам типа «дети у людоеда» или «мальчик-с-пальчик» роль архаических посвятительных обрядов выявлена в высшей степени убедительно, однако дальнейшее распространение данного подхода на всю волшебную сказку вызывает много вопросов. Согласно Проппу и другим сторонникам ритуалистической гипотезы, обряд по отношению к фольклорному сюжету первичен, но против подобной точки зрения есть серьезные возражения. Довольно очевидно, что отнюдь не всякий нарратив может быть возведен к сценарию обряда, многие сюжеты (видимо, большинство) с обрядами генетически явно не связаны.
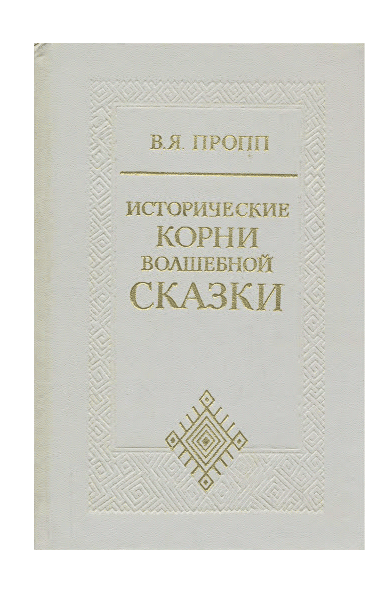 Впрочем, подлинное значение «Исторических корней» не в этих генетических реконструкциях (в каких-то случаях — сомнительных или устаревших) и не в самих сопоставлениях мотивов (или сюжетов) с «этнографическими фактами» — они были до Проппа и продолжаются поныне помимо «пропповского направления». Значение этой книги сегодня — в самом установлении структурного изоморфизма текста вербального, повествовательно-фольклорного, и текста акционального, обрядового. Речь идет именно о широко понимаемых ритуальных и нарративных моделях, инструментальное применение которых демонстрирует также высокую продуктивность при анализе других традиций, далеких и от волшебной сказки, и от обряда инициации.
Впрочем, подлинное значение «Исторических корней» не в этих генетических реконструкциях (в каких-то случаях — сомнительных или устаревших) и не в самих сопоставлениях мотивов (или сюжетов) с «этнографическими фактами» — они были до Проппа и продолжаются поныне помимо «пропповского направления». Значение этой книги сегодня — в самом установлении структурного изоморфизма текста вербального, повествовательно-фольклорного, и текста акционального, обрядового. Речь идет именно о широко понимаемых ритуальных и нарративных моделях, инструментальное применение которых демонстрирует также высокую продуктивность при анализе других традиций, далеких и от волшебной сказки, и от обряда инициации.
Итак, напомню: Пропп исходит из того, что принцип стадиального развития форм культуры аналогичен закону биологической эволюции, причем исследованию генезиса явления должно предшествовать точное и адекватное описание его структуры. При этом историко-генетическому объяснению подлежат не отдельные сюжеты, а их общая композиционная («морфологическая») система, установление которой открывает историческую связь между сюжетами и прокладывает путь к изучению отдельных сюжетов.
Подобному тому как описание структуры должно предшествовать генетическому исследованию, выявление морфологической жанровой систем должно предшествовать историческому анализу. В нашем случае речь идет о жанре волшебной сказки, но можно, как мы видели, работать и с более широким кругом текстов — вплоть до голливудских сценариев, а это позволяет предположить, что Проппом, действительно, была уловлена какая-то более широкая и «сильная» закономерность. И только после того, как установлена эта общая объяснительная морфологическая система, можно заниматься конкретным изучением отдельных сюжетов, жанров, в конечном счете, — и отдельных текстов.
Полученная таким образом «морфологическая формула» — не «праформа» или «прототекст», а модель, которая способна объяснить потенциальное многообразие форм, порождаемых процессом морфологической эволюции. Этнографические соответствия темам и мотивам волшебной сказки позволяют выявить ритуально-мифологический субстрат их семантики и через это — способствовать установлению их генезиса. Не стоит, кроме того, забывать, что «морфологическая формула» Проппа это не только последовательность функций, но и система персонажей. Она менее разработана, но она тоже должна обязательно присутствовать при оценке «морфологической формулы» Проппа.
Устойчивая горизонтальная последовательность элементов повествования (функций), соединяемых по смежности, представляет его синтагматическую модель, а эквиваленты этих элементов в архаической ритуальной традиции, репрезентирующие их глубинную мифологическую семантику — парадигматический аспект той же модели. Установление эквивалентности между моделями повествовательной и обрядовой — это не столько методологическое открытие, сколько выявление соприродности, если не тождества, самих принципов построения текстов обрядового (акционального) и повествовательного (вербального).
Иными словами, сценарий обряда (посвятительного, родильного, свадебного, похоронного и др.) выстраивается по тем же законам, что и сценарий фольклорного (и не только фольклорного) нарратива. За этим, вероятно, стоят некие управляющие структуры, организующие и нарратив, и обряд, и игры, и самые разные социокультурные практики. В связи с этим можно вспомнить суждения и Карло Гинзбурга, и Джанни Родари, и многих других людей, размышлявших над этой книгой.
Вопросы
— Несомненно, существует не только нарративная структура, но и структура обряда, а ритуал часто выстраивается по законам нарратива. Но где именно возникает этот нарратив обряда? В голове тех, кто в нем участвует? Или в голове тех, кто его описывает? Грубо говоря, не выходит ли так, что для фольклористов и этнографов, которые прочли Проппа, «Морфология сказки» и сюжетопорождающая логика стали своего рода модусом операнди? Иными словами, не повлияло ли это на методологическое описание ритуала? Не рассматриваем ли мы этот нарратив ритуала сквозь призму тех, кто видит его в логике Проппа?
Сергей Неклюдов: Я так не думаю. Описания ритуала, причем подробные, хорошие, принадлежат допропповскому времени. И эквивалентность эта скорее и легче устанавливается по хорошо структурированным допропповским описаниям старых ритуалов, нежели по более поздним. Это первое обстоятельство.
Второе обстоятельство. Возможно, я недостаточно хорошо это высказал, но фокус заключается вот в чем. У меня такое ощущение, что эта дилогия (вынесем за скобки все преувеличения, ошибки и прочее) остается вещью, не до конца прочитанной. В этом смысле сегодня она может быть прочитана по-новому и более свежо, в том числе с учетом того, о чем писал Карло Гинзбург (в своем тонком и интересном исследовании он не случайно написал, что это великая книга, он разглядел это). Я хочу сказать, что такого прочтения Проппа пока еще нет, и с этой точки зрения трудно говорить о какой-то навязанности пропповской модели.
— А если мы говорим о неких управляющих структурах — где их искать?
Сергей Неклюдов: Хочется вспомнить Чехова: если б знать... Я не готов ответить на этот вопрос. По опыту самого разного рода занятий могу сказать, что любая управляющая структура — это не мистическая субстанция, пребывающая где-то отдельно от самих текстов. Управляющие структуры зашиты в сами тексты. Каким образом это должно вычленяться, я не знаю. В конечном счете, думаю, они присутствуют в коллективном сознании (где же еще им быть?). Но как до них добраться или как получить их интегрированный рисунок, я не знаю, не возьмусь даже делать предположения. Сценарии ритуалов зашиты в ритуалах, в ритуальных текстах, а сценарий повествования зашит в повествовании. Но он зашит не в одном повествовании, а в целом комплексе. Мы спрашиваем у сказителя, от кого он получил этот текст. Он отвечает: от такого-то. Но это не совсем точно. То есть он так считает, и в каком-то смысле это правда — он, действительно, «перенял» текст от такого-то. Но помимо этого он слышал еще сто исполнений разных других людей, которые также организованы теми же управляющими структурами. То есть управляющий текст, структурирующий следующее исполнение, — это не только тот текст, на который непосредственно опирается сказитель / рассказчик / исполнитель, но и все тексты традиции, содержащие в себе управляющую структуру, которая, несомненно, шире любого отдельно взятого текста. Я бы так ответил на этот вопрос.