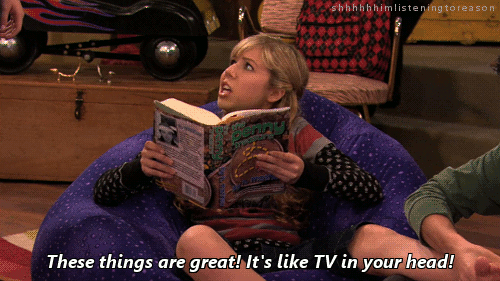Как писать рецензии на несуществующие книги
Критик вымышленных произведений вымышленных авторов делится опытом
Я всегда любила ощущение, как будто бы я превращаюсь в один большой глаз, как на рисунке Одилона Редона. Его взгляд вбирает в себя визуальный поток окружающего мира, чтобы быть живым. Поэтому мне был важен контекст — молодые российские художники, современная визуальность, связи между этикой, эстетикой и политикой. Нужно было ответить себе на вопрос о нынешнем состоянии мира. Эта задача очень на меня давила, потому что искусство развивается за счет авторского исследования методов, техник и языка, а мне точно не хотелось делать то, что раздражало в чужих работах: ностальгия по картинке 1990-х, уличная культура, имитация пленки, съемки беспокойных проходок... Потом у меня украли камеру, я оказалась без родного инструмента, и мой творческий процесс неожиданно направился в сторону слов, хотя я обещала себе никогда не писать. Здесь ответственности не было никакой, потому что о литературных трендах я знаю — ничего. Большие, символически нагруженные формы, которыми оперирует литература, всегда были для меня избыточными: слова перегружены коннотациями, к ним цепляются разные сюжеты. Но любовь к разрушению сыграла свою роль — речь как симптом абстрактного мышления дарит уникальную и потрясающую способность к рефлексии и деконструкции. Философский потенциал языка сделал нужную работу: называя переживания словами и детализируя оттенки чувств, я смотрела, как реальность рассыпается на объекты, их функции и структуры. Так я и стала рецензентом собственных историй.
1. Как придумать героя
Персонажи возникают из актуальных размышлений, когда внезапно из теоретического материала вырастает микросюжет, курьезная сцена: «Было бы смешно, если». Меня волновал вопрос идентичности, ее связи с травмой, с фигурой жертвы — я думала о работе, которую она производит в социальном плане: никто не хочет быть жертвой, и в то же время у нас нет языка, чтобы говорить о травмах в другом ключе. Смешно, как все зациклены на своей идентичности в современном искусстве, но позерством будет мнимый отказ от нее: с вами всегда останется происхождение из экономического класса, социального слоя, определенное чувство справедливости и истории про школу. Конкретность личной истории создает ваше лицо и одежду. Перечисление самоназваний — одновременно краткий способ репрезентации и зацепка на гладкой поверхности, которая раздражает, являясь пустой формой. Без подробного рассказа ее наполнят всем, что вы не хотели туда положить. Идентичность — это то, что вас дистанцирует от семьи, но и то, что защитит от придурков в общественных местах. Это такое второе или третье имя. Всегда хочется сказать, что я просто Катя, но в следующую секунду я уточню, что, конечно, совсем не просто. Холокост (как Великая французская революция или резня коммунистов в Индонезии) — одно из событий, делающих эту проблему максимально заметной. Поэтому в тексте «The Last Land» главный герой — еврей, переживший заключение в концлагере. Он не хочет оставаться на территории, которая никогда не будет для него невинной, она вся — свидетельство его травмы. Европа стала изношенным местом, где на него всегда будет надета рубашка жертвы. Этот мотив имеет для меня личное значение: у персональной катастрофы есть социальное, политическое и даже топологическое измерение. Мне было интересно ее масштабировать. Из этих материй состоит герой романа: личное — это политическое. Любое наше свойство с легкостью может быть объявлено оправданием для локального или массового террора.
2. Где взять сюжет
Прожив свои чувства до конца, мы обнаруживаем их устройство. С детства мы слышим, что нельзя убежать от себя, что единственный разумный шаг — столкнуться со своими монстрами лицом к лицу. Отсюда родился сюжетный поворот: мой еврей находит парного персонажа — нацистского преступника — и их мэтч неизбежен, травмы делают их различимыми друг для друга. Конечно, это аллюзия на «Ночного портье», но так устроены даже «Ромео и Джульетта», поэтому меня не пугала универсальность сценария. Герой возвращается в Европу. Здесь мой фокус смещается на воображаемого автора романа: мне хотелось, чтобы он поставил поэтический эксперимент. Его персонаж в этой точке обретает романтические черты — это человек, смотрящий с гор, удаленный от других людей, сражающийся со стихией времени, пересекающий ради этого океан туда и обратно. Но роман про ХХ век, и, вернувшись в условные 1960-е, он предвосхищает панк: его желание — быть самому контркультурой, отрицанием данной, как А и не-А. В этом месте я несу в руках игрушечный корабль Тесея и вопрос о существовании Европы как топоса в постколониальном сегодня.

Так выглядит несуществующая книга «The Last Land»
Фото: Амалия Пртавян, Алина Ананьева специально для petushki.org
3. Что сказать о языке
Зная только поверхностно Уолтера Рэли и Джона Донна, я не могла бы написать что-то внятное о развитии литературного английского языка. Поэтому я позволила себе пофантазировать и взяла за основу свои мысли о языке визуальном: я люблю натурализм и эстетику отвратительного, художественные исследования хаоса в наших телах и психике. Я решила, что автор «The Last Land» гениален в работе с языковым пространством, в точности обращения с ним и умении настроить оптику читателя. Конечно, такой автор — мечта о себе самой, когда я смогу делать значимые художественные высказывания тончайшими инструментами.
4. Кто автор
Думаю, я написала о моем альтер эго. Литература является для него в том числе пространством политической борьбы. Автор понял о системе идентичностей что-то такое, что очень хотела бы понять я, а еще сумел упаковать свое знание так, что это стало переворотом в гуманитарной мысли. Еще он похоже на Бэнкси — так он ловко скрылся от своих потенциальных разоблачителей. Кроме того, он решает не потакать своим литературным амбициям, искусство для него шалость и активизм. Он организовал себе зрелище и проявляет то ли божественную скромность, то ли социопатию и агрессивное игнорирование — в этом смысле он человек старого мира. Вполне возможно, что роман написала женщина, которая издевается над всеми священными коровами ХХ века, это объяснило бы иронию и бескомпромиссность. В любом случае, думаю, детализация авторского образа была частью размышления о мифическом Большом Художнике в моей голове.
***
Думая о написанных мной текстах, я с удивлением замечаю, что в них оказалась схвачена моя политическая позиция, хотя я совсем этого не планировала. Каждая рецензия была написана из ощущения веселья, я чувствовала себя забиякой — откуда-то из детства пришло это слово. Начав с романа об идентичности, через экспериментальный мультик за авторством старого панка (он шотландец, как его прототип, основоположник антипсихиатрии Рональд Лэнг), я перешла к экофеминистской повести о близости, а закончила порнографическим комиксом, который разместила в сети анонимная группа сибирских сепаратистов. Роль автора рецензий на вымышленные произведения настолько безответственная, что высказывание не ограничено никакими моральными рамками. Так я перестала бояться писать о серьезных вещах после провала аспирантуры и полюбила тексты. Кстати, сибирские сепаратисты решили все-таки выложить комикс в открытый доступ — но я здесь уже ни при чем.