Как читать роман Фолкнера «Авессалом, Авессалом!»
Рассказывает Анна Горн
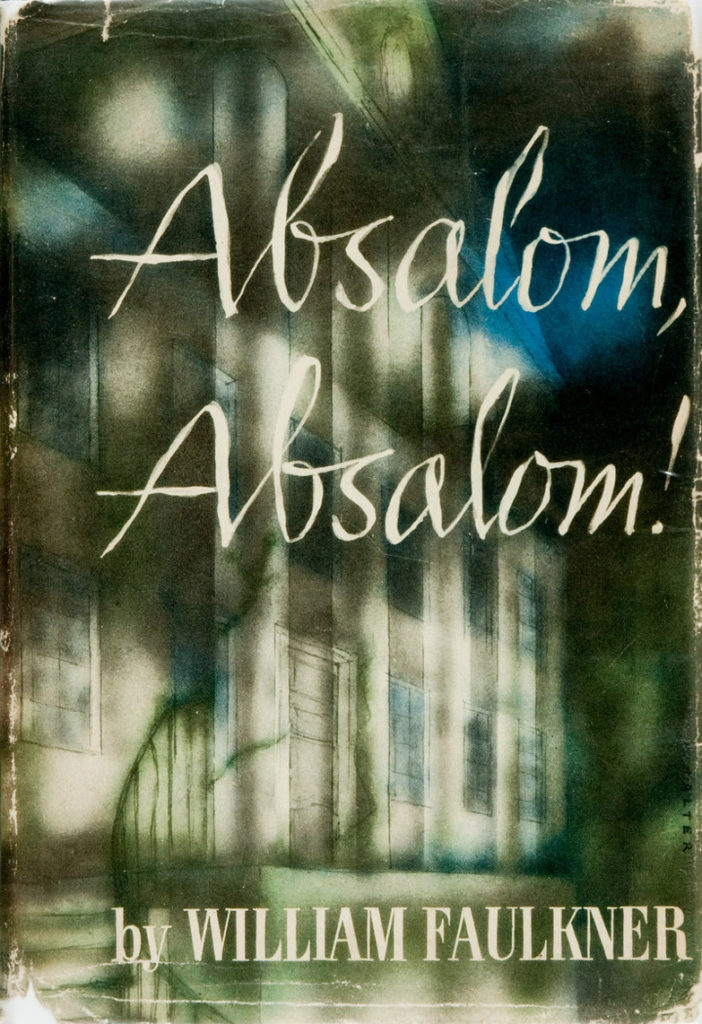 Обложка первого издания романа
Обложка первого издания романа
Гражданская война в США и трагический крах американского Юга стали теми травматическими событиями, которые Уильям Фолкнер распутывал на протяжении всей своей творческой жизни. Произведения писателя охватывают не одно десятилетие американской истории, а больше всего автора интересуют потомки первых поселенцев и аристократов — то есть люди, чье отношение к своему прошлому уже двойственно: они не могут отказаться или избавиться от легенды о Юге как о потерянном рае и в то же время осознают, что прошлое чрезмерно давит на них и способно травмировать. Внутреннее напряжение между прошлым и настоящим, обаяние легенды и беспомощность перед реальностью являются одной из значительных проблем художественного мира писателя. Тем не менее Фолкнер обращается не только к истории родного края — под его пристальным взглядом, по словам Греты Ионкис, находится человек вообще, «человек в конфликте с самим собой, со своим собратом, со своим временем и местом, где он живет».
«Тринадцать способов видеть черного дрозда» (Уоллес Стивенс) — постоянная смена точек зрения — главная особенность творческого метода Фолкнера. Писатель почерпнул ее, в том числе, из семейных преданий, рассказов о собственном прадеде: «Его знало множество людей, но нет двух человек, которые одинаково вспоминали бы его или похожим образом описывали». Роман «Авессалом, Авессалом!», как и «Шум и ярость» или «Когда я умирала», представляет собой развернутое художественное воплощение этого принципа. «Истина, я думаю, обнаруживается, когда читатель, усвоив все эти тринадцать способов видения черного дрозда, выработает еще одно, собственное представление об этом дрозде, которое, я полагаю, есть истина», — говорил Фолкнер. В его понимании истина противостоит фактам — их простое суммирование или сопоставление ничего не дают для ее поиска. «Истина — это... некий закон, нарушая который, не находишь себе ночью покоя... Факт зависит от правил, от обстоятельств, от всевозможных вещей... но истина постоянна...», — писал он. И тем не менее истины «существуют не затем, чтобы их находить. Я думаю, что они даны для того только, чтобы некоторые хрупкие участники человеческого общества их постоянно искали».
Не менее парадоксальной была и фолкнеровская концепция времени: «Нет никакого времени... Есть только настоящий момент, в который я включаю и прошлое, и будущее, и это и есть вечность». Прошлое как длящееся «сейчас» — источник страданий для героев писателя, подтверждение трагедии человеческой жизни, замкнутой в вечном настоящем. Жан-Поль Сартр в своей статье «Категория времени у Фолкнера» прибегает к выразительной образности — представьте, пишет он, едущую по дороге машину, в которой сидят люди, спиной по направлению движения: «Фары высвечивают какие-то фрагменты мира, сразу скрывающиеся во тьме, и пассажиры не видят, что впереди — в этом смысле будущего нет, есть только прошлое, но даже и его нет, потому что оно мгновенно пропадает в ночной мгле».
Неудивительно, что в произведениях Фолкнера происходит разрушение традиционных повествовательных форм, отсутствуют очевидные причинно-следственные связи — ведь причины событий могут «скрываться» где угодно. Как замечал Мераб Мамардашвили: «Фолкнеру понадобилась весьма усложненная форма письма..., чтобы в различных временных пластах реконструировать действительный смысл тех ощущений и состояний, которые человеком испытываются сейчас».
Значимой частью произведений Фолкнера выступает такой элемент повествования, как голос персонажа. Например, «Свет в августе» начинается с внутреннего монолога Лины Гроув: «Я пришла из Алабамы; путь далекий. Пешком из самой Алабамы. Путь далекий», — а заканчивается репликой героини, произнесенной уже вслух: «Ну и ну. Носит же человека по свету. Двух месяцев нет, как мы из Алабамы вышли, а уже — Теннесси»*Перевод Виктора Голышева.. Голос здесь обрамляет повествование. Нередко фолкнеровские герои рассказывают свои истории словно из темноты — местонахождение говорящего и окружающая его обстановка могут оставаться не до конца понятными читателю, однако сам голос стремится заговорить пространство, заговорить прошлое — проговорить и утвердить его в определенной форме, таким образом попытаться спастись от обреченности на неполное знание.
Центральной фигурой, «собирательным» рассказчиком романа «Авессалом, Авессалом!» выступает Квентин Компсон, уже известный читателю по «Шуму и ярости». Действие романа происходит в 1909 году, сорок лет спустя после гибели Томаса Сатпена, только старая Роза Колдфилд была непосредственной участницей тех событий — остальные герои пытаются реконструировать прошлое, опираясь на догадки и предположения. Вследствие этого события в романе излагаются вне всякой хронологии, что затрудняет чтение текста, — благодаря этому, как верно отмечал Борис Грибанов, возникает «эффект соучастия», делающий читателя «пятым расследователем», который сопоставляет факты и самостоятельно пытается наполнить историю Томаса Сатпена смыслом, выстроить собственное отношение к этому герою.
«Авессалом, Авессалом!» являет собой процесс, а не результат «сборки» истории Томаса Сатпена: фабула произведения требует прояснения, а сюжет еще больше дезориентирует читателя. Повествование в романе характеризуется «разорванным» континуумом и ассоциативной когезией (Анна Симонян), а большая часть рассказчиков отделены от описываемых ими событий временем либо вынуждены довольствоваться рассказами других героев. Истина никогда не становится окончательной, но всегда остается «продуктом» индивидуального сознания и множится с каждым повествователем.
Роман начинается с разговора Квентина и Розы, и на первый план выходит голос рассказчицы: «Голос ее не умолкал, он лишь исчезал... но после долгих пауз приходил обратно, подобно ручейку или струйке воды, что течет от одной кучки сухого песка к другой»*Здесь и далее роман цитируется в переводе Мэри Беккер.. Голос самого Томаса Сатпена впервые звучит в его разговоре с Эллен, который «по памяти» реконструирует Роза: «„Я не думаю, что ты это поймешь, — сказал он. — Ведь ты женщина”». Однако затем Роза признается: «Но меня там не было» — и мы понимаем, что перед нами не авторский рассказ о событиях, но версия о них, оставшаяся в памяти героини. Тем не менее как единственная живая свидетельница тех лет Роза Колдфилд рассказывает, каким ей запомнился голос Томаса Сатпена: «...и слушала его голос, как тридцать лет назад в апрельский день своей юности слушала его Эллен; ...это была не речь нормального человека, он обращался не к другим нормальным людям, а к темным силам рока...».
Квентин Компсон — не самый надежный рассказчик, и его повествование необходимо рассматривать как интерпретацию, но не точное изложение истории Томаса и его окружения. Как говорил сам Фолкнер, «У Квентина „больное” зрение, и Сатпенов он понимает не лучше, чем самого себя, то есть, возможно, вообще ничего не видит ясно». Главный герой романа осознает себя через отношение к прошлому — случившееся больше полувека назад оказывается и его собственным травматическим опытом, переживаемым вновь и вновь. Несколько раз Квентин буквально видит давно прошедшие события, ему удается уловить звучание минувших десятилетий: «Квентин с этим вырос; даже самые эти имена были взаимозаменяемы и почти что неисчислимы. Его детство было полно ими; в самом его теле, как в пустом коридоре, гулким эхом отдавались звучные имена побежденных...»; «...он разбирал эти письмена... до него доносился голос умершего...».
Оформление голоса Квентина происходит через его отношение к рассказу Розы Колдфилд и вопрошание: «почему я?». «Но почему ей надо было рассказывать это именно мне?.. Почему именно мне? Какое мне дело?.. Какое мне дело?..» С этими вопросами молодой человек обращается к своему отцу, но, конечно, и к самому себе — почему он должен страдать за прошлое своего края, ставшее его собственным прошлым? В определенный момент восприятие главного героя раздваивается: появляются Квентин, готовящийся к поступлению в Гарвард, «выслушивающий, вынужденный выслушивать одного из призраков», и Квентин, «слишком юный, чтобы быть одним из призраков, и тем не менее вынужденный быть одним из них» — они разговаривают друг с другом «в долгом молчании». Поскольку Квентин Компсон является центральной фигурой общего повествования, собирающей воедино мозаичный образ Томаса Сатпена, именно по отношению к нему автор выстраивает общее аудиальное пространство, — слышимое («слушал и услышал» рассказ), звучащее (звон колоколов, воркованье голубей в 1833 году) и слушающее (Квентин как адресат рассказов других персонажей).
Свой взгляд на произошедшее есть и у отца Квентина. Мистер Компсон стремится рационализировать, упорядочить историю, хотя и его толкование может быть созвучно мыслям его сына. Он говорит также об отношении к Томасу Сатпену целого города, берется озвучить позицию Джефферсона, стать его голосом: «Я думаю, город возмутился, когда понял, что Сатпен втягивает его в свои дела...»; «Ибо к этому времени город решил...»; «... город посмотрел на них и понял...».
Один из ключевых поворотов романа происходит в шестой главе — именно там появляется Шрив Маккеннон, сосед Квентина Компсона по общежитию, который «спрашивал... уже не в первый раз: Расскажи о Юге. Что там происходит. Что люди там делают. Почему они там живут. Почему они вообще живут...». Сам писатель пояснял это так: «Комментатором, который удерживает всю постройку в ее связи с реальностью, был Шрив. В одиночку Квентин превратил бы ее в нечто совершенно фантастическое. Это предприятие нуждалось в надежном вкладчике, чтобы сохранять подлинность, вызывать доверие, иначе — превратилось бы в дым, стало бы вспышкой ярости».
Шрива можно назвать «неестественным» нарратором, поскольку он не может знать того, о чем повествует. В неестественной нарратологии выделяется телепатическая наррация (Джеймс Фелан), при которой один персонаж как будто перемещается в сознание другого, причем сам этот перенос никак не комментируется — ни мистическим, ни научно-фантастическим образом. Ситуация диалога в холодной комнате студенческого общежития переворачивается — Шрив занимает место Квентина, подробно проговаривает историю, которую не может знать. Здесь вновь появляются невероятно длинные предложения — на подобные фразы человеку не хватит дыхания, и этот монотонный гул Другого сопротивляется попытке рационализировать прошлое, структурировать историю, развернуть причинно-следственные связи. В голосе Другого свои воспоминания воспринимаются как чужие — теперь, в этой перевернутой ситуации, их нужно отобрать у Другого, переприсвоить. Недаром во время разговора со Шривом Квентин замечает, что тот «говорит совсем как отец».
Название и сюжет романа «Авессалом, Авессалом!» отсылают читателя к легенде об Авессаломе, сыне Давидовом. Вынесенный в название фрагмент крика царя Давида — «...Сын мой Авессалом! сын мой, сын мой Авессалом! о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой» (2-я Цар. 18: 33) — указывает на то, что именно этот библейский персонаж является прототипом Томаса Сатпена. Сближает героев то, что оба они — зачинатели рода, главы многочисленных семей с присущими им пороками, патриархи, которым предстоит передать свою власть по наследству. Но главное, библейские коннотации наделяют героев романа, прежде всего Сатпена, мифологизированным статусом — они олицетворяют канувшую в прошлое цивилизацию и вместе с тем превращаются во вневременные, символически насыщенные фигуры. По сути, Фолкнер подразумевает, что самый надежный способ удержать воспоминания о событиях, безвозвратно отрезанных от нас ходом времени, — это пересказать их, тем самым превратив в миф. Многократно повторенный пересказ неизбежно искажает произошедшее, подменяет фактическую сторону дела выдуманными деталями, спрямляет сюжетные ходы — но так происходит с любым мифом, однако это единственный надежный способ хранить память о прошлом.
Недаром уже в рассказе Розы Томас Сатпен обретает выраженные мифологические черты, является в образе «человека-лошади-демона», «людоеда», «джинна»: «...Этот человек — родоначальник и источник зла, переживший все свои жертвы», «...словно семья наша была предана злому року и проклятью и сам господь постарался о том, чтобы этот злой рок и проклятье были испиты до последней капли». Вслед за рассказом Розы на страницах романа возникает сам Томас Сатпен, и первое его появление окутано ореолом мифа: «...От его одежды, волос и бороды все еще исходил слабый запах серы...». За ним следуют его спутники, «...дикие звери, которых только-только обучили ходить вертикально подобно людям...», и вот «...они внезапно заполонили сто квадратных миль безмятежной и потрясенной земли, яростно вырвали из беззвучного Ничто дом и регулярный сад... — и тогда возникла Сатпенова Сотня, Да Будет Сатпенова Сотня, как в незапамятные времена Да Будет Свет».
Этим описаниям вторит и мистер Компсон, называющий Томаса Сатпена людоедом. Отец Квентина пытается рассказать семейную историю с точки зрения героини, через мифологизацию и демонизацию основателя рода: «Женщина, что, уносимая потоком слез, покинула отчий дом и семью и в призрачных, дышащих миазмами краях наподобие скорбных берегов Стикса произвела на свет двоих детей...». Даже Шрив и тот мифологизирует историю: «...и ей не пришлось бы вместо роли Кассандры при овдовевшем Агамемноне играть пылкую, но нетронутую Тисбу при дряхлом подагрическом Пираме, который явился перед ней незваным апрельским многоликим демоном...», «...этот Фауст, этот демон, этот Вельзевул сбежал от мимолетного огненного взгляда своего разгневанного и возмущенного сверх всякой меры Кредитора...», «...прятал рога и хвост под человеческой одеждой и касторовой шляпой».
Томас Сатпен — символическая фигура для Квентина. По меткому наблюдению Василия Толмачева, он одновременно и «проявление крайнего зла», и «дух милой его сердцу довоенной старины, которая противопоставляется им современности». Выразительнее всего этот парадокс запечатлен в финале произведения — Квентин кричит о своей «любви-ненависти» к Югу, «о том, насколько трудно ему... выбирать между „прошлым” и „настоящим”, двумя видами иллюзий».
Изложение «одной и той же» истории разными рассказчиками только упрочивает мифологический образ Томаса Сатпена. Однако вместе с этим в рамках романа происходит и определенная демифологизация героя. Изначальный безымянный образ («человек-лошадь-демон») со временем обретает человеческие черты, вписывается в привычную нам реальность. Безусловно, история Томаса Сатпена не становится исчерпывающей, но читатель получает возможность трактовать ее, выстраивать собственное отношение к герою и его поступкам. Всем строем своего романа Фолкнер утверждает мифологизацию как единственный способ сохранения памяти, однако через фигуру Квентина Компсона свидетельствует о (не)возможности демифологизации в стремлении избавиться от иллюзий прошлого.