Как читать Овидия
Автор «Метаморфоз» — постмодернист, критик консюмеризма и певец человеческих слабостей
Прежде всего нужно сказать, что нижеследующий очерк нисколько не притязает на то, чтобы быть всеобъемлющей или хотя бы последовательной характеристикой творчества Овидия. У русского читателя, желающего ее иметь, есть с недавнего времени прекрасная возможность: это переведенная нами книга крупного филолога Михаэля фон Альбрехта «Овидий. Введение», вышедшая в 2018 году в издательстве Греко-Латинского кабинета. Более того — наш очерк сосредоточится на некоторых «пятнах», возможно, и не самых знаменитых, но, на наш взгляд, весьма характерных для творчества поэта. При этом мы будем рассматривать больше ранний период творчества, меньше — зрелый (прежде всего «Метаморфозы»), и еще меньше — поздний, «Скорбные элегии» и «Понтийские послания». Мы позволим себе написать этот очерк в виде разрозненных мыслей и наблюдений совершенно различного объема; это не даст читателю возможности составить цельное представление о поэте, но поможет несколько скорректировать то, которое могло бы возникнуть обычным путем. Мы разобьем эти мысли на четыре группы — о творчестве Овидия вообще и о трех его периодах в отдельности. Отметим, что дошедшее от Овидия — один из самых масштабных поэтических корпусов античности.
К сожалению, в моей библиотеке интересных изданий Овидия нет. Относительную библиофильскую ценность представляет только эльзевировский трехтомник 1676 года. Но он настолько маленький и напечатан таким мелким шрифтом, что использовать его по назначению практически невозможно.
 1. О творчестве Овидия в целом
1. О творчестве Овидия в целом
Очень важная черта Овидия — его отношение к собратьям по перу. Никогда, нигде, ни в чем он не высказывает недоброжелательства по отношению к другим поэтам. В автобиографическом стихотворении («Скорбные элегии», IV, 10) он отмечает как важную часть своей жизни поэтические дружбы (в том числе и мимолетное знакомство, как с Вергилием, или отношения с поэтами, которых мы сегодня вряд ли отнесли бы к числу выдающихся). В этом он близок Ариосто, который в последней книге «Неистового Орландо» создал памятник своим многочисленным друзьям. Овидий превосходит фантазией и воображением всю античную литературу, Ариосто — всю новейшую; случайно ли, что эти две особенности характерны вместе и для одного, и для другого?
* * *
У Овидия очень ярко, на пределе чувствуются два полюса, напряжение между которыми создает поэзию: с одной стороны, это мощнейшая и властная поэтическая воля (как у любого античного поэта, она проявляется прежде всего в риторических формах), с другой — медиумичность, самоощущение орудия высших сил: «Есть бог в нас, и в нас разгорается огонь, когда он приводит нас в движение» («Фасты», VI, 5).
* * *
А. А. Блок писал о поэте: «Овидий принадлежит к тому несомненному и „святому” (Пушкин), что должно светить нам „зарей во всю ночь”». Он оставил весьма проницательную характеристику: «поэт Овидий... знал, очевидно, состояние превращения; иначе едва ли ему удалось бы написать свои пятнадцать книг Метаморфоз; но окружающие Овидия люди уже опустились на дно жизни: произведения Овидия были для них в лучшем случае предметом эстетической забавы, рядом красивых картинок, где их занимали сюжет, стиль и прочие постылые достоинства, но где самих себя они уже не узнавали».
* * *
Особенность Овидиева описания патетических ситуаций, прежде всего любовных, — непременный каламбур в самом, казалось бы, неподходящем месте. «Рога Минотавра не могли пронзить твое сердце, неблагодарный Тезей, — жалуется брошенная на острове Наксос Ариадна, и то, что она излагает свои претензии в письме, которое намерена отправить с необитаемого острова (таково риторическое задание Овидия), только подчеркивает искусственность ситуации, — они не могли пронзить твое сердце, потому что оно железное». Товарищи Актеона в «Метаморфозах», радуясь удачной травле оленя, зовут его и жалеют вслух, что его нет. Актеон хотел бы, чтобы его здесь не было; но он здесь. Алкиона, волнуясь за мужа, который отправился в морское странствие, просит у богов, чтобы ее муж был цел, чтобы вернулся, чтобы никого не предпочел ей, и поэт тут же замечает: только это последнее и могло быть исполнено из всех ее желаний.
* * *
Он певец человеческой души не в ее силе, а в ее слабости, даже, если быть точным, в ее слабостях. И в этом он, пожалуй, не знает себе равных во всей европейской поэзии.
2. Ранний период
Сначала немного — о самом заглавии Ars amatoria. Слово ars, как и греческое τέχνη, означает одновременно и ремесло, и искусство, и учебник; нужно большое хитроумие для перевода на какой-либо из этих языков пушкинского «Ремесло поставил я подножием искусству». Уже отмечали сходство названия с типичным заголовком риторического учебника Ars oratoria. Есть и структурные параллели: первая книга посвящена инструкциям, как найти девушку (это часть риторики, которая называется inventio — «нахождение», «изобретение»). Вторая — искусство удержания (здесь тоже есть риторический аналог — memoria, искусство удержания в памяти сочиненного материала).
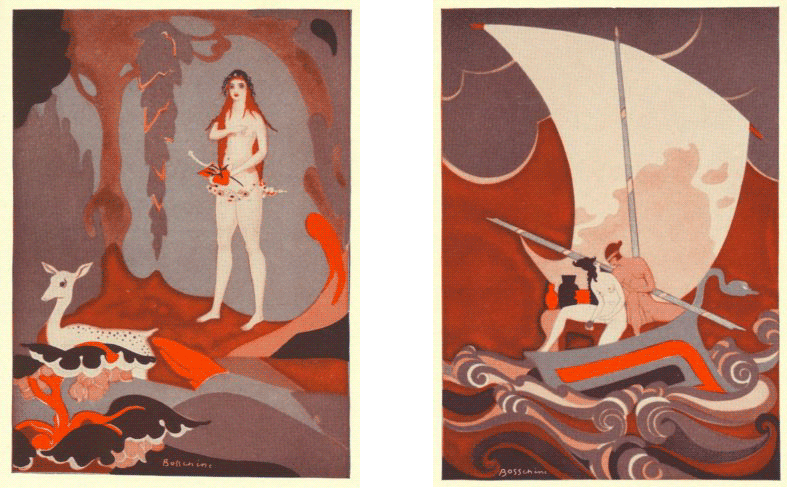 Жан де Босшере. Иллюстраци к первому и второму томам
Жан де Босшере. Иллюстраци к первому и второму томам
«Науки любви»
* * *
В «Любовных элегиях» Овидий сделал с римской любовной элегией то же, что Гейне с немецким романтизмом, — это было убийство тонким ядом иронии.
* * *
В Ars (III, 121–2, 125–8) Овидий высказывает решительное предпочтение современности: «Пусть древность доставляет удовольствие другим, а я поздравляю себя с тем, что родился сейчас: это время наилучшим образом приспособлено для моих нравов... Не потому, что исчезают горы, откуда добыт весь мрамор, и что насыпи отгоняют лазурные воды, но потому, что есть цивилизация (так мы переведем сложное слово cultus, где в корне нет города, — глагол, от которого оно происходит, означает возделывать (поле), затем — уважать, почитать, благоговейно относиться; можно было бы перевести утонченность), и до наших дней не дожила сельская грубость — пережиток древних дедов». Парадоксальным образом похвалы эпохе Августа были в глазах Августа признаком нелояльности, едва ли не преступлением: он стремился к репутации восстановителя прежних нравов.
* * *
Страсть Пасифаи к быку описывается с тонкими психологическими подробностями: «К чему тебе, Пасифая, драгоценные одежды? Этот возлюбленный бесчувствен к богатствам. К чему тебе возиться с зеркалом, если ты домогаешься живущего в горах скота? Зачем, глупая, ты столько раз укладываешь уже причесанные волосы! Поверь уж наконец зеркалу: оно говорит тебе — ты не корова. Как бы ты хотела, глядя в зеркало, чтобы у тебя были рога! Если тебе по нраву Минос, не изменяй ему на стороне: а если хочешь обмануть мужа, обманывай с мужем. И вот? Оставив покои, царица стремглав несется в горные долины и рощи, как вакханка, ужаленная аонийским богом... Ах! Сколько раз, глядя на корову, ты говорила себе: „С чего именно она нравится моему господину? Взгляни только, как она резвится в зеленой траве! Не сомневаюсь, что она, глупая, считает себя красивой!” Она говорила это, и без вины приказывала изъять ее из стада и подвести под ярмо или принести в жертву у алтарей». Здесь мы видим классический овидиевский контраст: мифологическая ситуация, совершенно невозможная в жизни, оснащается столь же правдоподобными психологическими подробностями. Вообще же в отношении мифологии Овидий — постмодернист, отвечающий на модернистическую ее критику. Вот как на самом деле было то, чего не было и быть не могло.
 Овидий в Хрониках Нюрнберга
Овидий в Хрониках Нюрнберга
* * *
Возьмем еще один отрывок из этой же поэмы. «Распоясанный разносчик придет к [...] госпоже. Он разложит свои товары в твоем присутствии; она попросит тебя посмотреть, чтоб проверить твой вкус; затем поцелует, затем попросит купить. Она даст клятву, что удовольствуется этим на долгие годы, но вот сейчас ей нужно, и купить сейчас очень с руки. Если ты будешь ссылаться на то, что дома у тебя таких денег нет, она попросит заемное письмо; и ты пожалеешь, что умеешь писать». То, что идет дальше, воспроизвел впоследствии Гоголь (возможно, не прямо из Овидия, это «общее место» иронической римской поэзии): «Ну а что сказать о дне рождения — она рождается столько раз в год, сколько ей нужно?» Мы пропустили в переводе одно прилагательное, оставив квадратные скобки, поскольку у него нет полноценного русского аналога. Это emax — образование от глагола «покупать» с суффиксом, обозначающим интенсивность действия. Должно было бы быть «купучий», но официальная версия русского литературного языка такого слова не содержит. Приходится прибегать к описательным вариантам, типа «склонный к шопингу». Но сама по себе ситуация узнаваема; изображены наши современники, общество, в котором мы легко узнаем себя и своих. Даже чуть более продвинутое (в латыни вот специальное слово есть, а у нас нет). Блок это очень хорошо уловил — просто в Ars это заметнее, чем в «Метаморфозах». К ним мы сейчас и перейдем.
3. Зрелый период
Уникальность «Метаморфоз» как жанра сделала из них своеобразный фокус всей античной культуры. Две сотни сюжетов впитали целый пучок ранних влияний — и оказали решающее влияние на позднейшую культуру, не только на словесность, но и на музыку, живопись, скульптуру. Иногда мы забываем об овидиевском происхождении того или иного явления нашего индивидуального обихода: если бы не «Метаморфозы» (и Ars), вряд ли человечество помнило бы об Икаре, хотя, когда мы обращаемся к нему, как правило, уже не думаем об Овидии.
* * *
Каламбуры Овидия — весьма многочисленные — в большинстве своем могут быть описаны несколькими простыми схемами. Одна из самых эффектных — одно и то же лицо в двух разных функциях по отношению к одному и тому же глаголу. «Зачем ты вынимаешь меня из меня же?» — спрашивает несчастный Маpсий у Аполлона, который сдирает с него кожу. Голод вдыхает себя в жилы Эрисихтона. Местра радуется, что у нее про нее же и спрашивают. Сон вытряхивает себя из себя. Другая любимая схема поэта, значительно более распространенная, — два разных дополнения одной функции к одному глаголу: конкретное и абстрактное. «Пользуйся нашими советами, а не колесницей», — говорит своему неразумному сыну Гелиос, а Зевс вышиб его одновременно и из колесницы, и из жизни. Кадм одновременно потерял и цвет лица, и самообладание. Он же вынужден избегать и родины, и отцовского гнева. «Омой вместе и голову, и преступление», — обращается Вакх к Мидасу, освобождая его от рокового подарка — свойства превращать в золото все, к чему он прикасается. Сцилла жалуется: «Мои слова, обращенные к тебе, Минос, уносят ветры — и они же — увы! — уносят вдаль твои корабли!»
* * *
В «Метаморфозах» есть один чисто риторический пассаж, где ораторское искусство используется не только как инструмент для посторонних ему целей, но совершенно прямо: спор Аякса и Улисса за доспехи Ахилла. Однако, как правило, риторический инструментарий служит целям психологии — в том числе и в рамках внутренних монологов. Сцилла, дочь мегарского царя Ниса, влюбленная в осаждающего родной город Миноса, переживает в «Метаморфозах» конфликт, который в трагедии П. Корнеля «Сид» станет визитной карточкой французского театра — конфликт между любовью и долгом. «Радоваться ли мне или горевать из-за многослезной войны, — сомневаюсь. Горько, что Минос — враг возлюбленной; но без войны он был бы мне вовсе незнаком. Однако он мог бы, взяв меня в заложницы, прекратить войну... Я была бы трижды счастлива, если бы могла перенестись на крыльях по воздуху и, очутившись в стане критского царя, сказала бы, кто я, и призналась в своем любовном огне! Я спросила бы, какого он хочет приданого? Лишь бы не требовал отцовскую крепость. Пусть пропадает пропадом вожделенный брак — не стать мне счастливой ценой предательства!» Но постепенно ее мысли меняются: Минос ведет справедливую войну, он кроток, а побежденным часто идет на пользу власть кроткого победителя... «Нет, пусть уж лучше он победит, не тратя времени и крови». Другая на моем месте уже давно поддалась бы столь сильной любви и с радостью погубила все, что ей препятствует». Сцилла срезает пурпурный волос с головы отца — это был талисман, делавший Мегары неприступными, — но своего не добивается: воспользовавшись плодами предательства, Минос не пожелал вознаградить предательницу: «О бесславие нашего века!»
...Возьмем Медею — одну из любимых героинь Овидия, который разделял в этом отношении пристрастия поздней античности, явно предпочитавшей Еврипида остальным великим трагикам. Внутренний монолог содержит аргументацию такого рода: конечно, помочь чужеземцу — предательство отца, однако отец суров, и предательство родины, но родина — страна варварская... Ясон у Еврипида, софист и циник, мог уговаривать свою Медею подобным образом — на сцене театра Диониса это были следы афинского воздуха, с приметами конкретного места и конкретного времени, однако чтобы сама Медея уговаривала — и уговорила — себя столь рациональными доводами?
 Метаморфозы. Медея возвращает молодость отцу Ясона Эсону. Офорт, 1767 год
Метаморфозы. Медея возвращает молодость отцу Ясона Эсону. Офорт, 1767 год
* * *
Плутарх в начале жизнеописания Перикла рассказывает такой анекдот: «Говорят, что однажды Цезарь увидал в Риме, как какие-то богатые иностранцы носили за пазухой щенят и маленьких обезьян и ласкали их. Он спросил их, разве у них женщины не родят детей? Этими словами, вполне достойными правителя, он дал наставление тем, которые тратят на животных присущую нам от природы потребность в любви и нежность, тогда как она должна принадлежать людям». Овидий отметил такую любовь и нежность — но адресатом сделал мифологических чудовищ: Язон гладит подгрудки огнедышащих быков, Медея — шеи запряженных в колесницу драконов.
* * *
...В «Метаморфозах» Овидий пишет о том, как раб царя Мидаса, видевший длинные уши своего господина, не смог ни умолчать об этом, ни сообщить кому-либо из людей. Он вговорил эту тайну в разрытую землю, и выросший на месте засыпанной ямы тростник своим шелестом разгласил запретное. Из этого тростника Овидий и сделал свою цевницу.
4. Поздний период
Андре Шенье — который в значительно более суровых обстоятельствах сам проявил много больше мужества, чем Овидий, и преследовал торжествующих революционеров ямбическими стихами в духе Архилоха, — упрекал автора «Скорбных элегий» в малодушии:
Ты ранен больше всех, но ты скрываешь рану.
Насмешкою ты б мог ответствовать тирану,
Иль архилохов гнев губительный яви
И мстительный свой ямб омой в его крови!
Не властный над тобой, он все же устрашает,
И ненависть твоя лишь жалобу внушает.
Достойный бед своих, не можешь ни молчать,
Ни отомстить ему, ни жизнь свою скончать!
Однако не все поэты судили так сурово. Пушкин, которому никак не откажешь в мужестве, был намного более снисходительным.
5. Итог
Во времена Овидия никому бы и в голову не пришло требовать от поэта непременных возвышенных чувств, обязательной оригинальности, непосредственности и искренности в описаниях страстей и подлинности переживаний. Эти требования вообще достаточно долго не предъявлялись поэзии — и, если мы иначе смотрим на более ранние произведения и находим в них то, чего мы ищем, это еще не значит, что предмет поиска был всегда один и тот же. (Правда, от латинской поэзии в таком случае останется один только Катулл, для разнообразия оттененный вполне искренней и непосредственной Марциаловой злобой.) Напротив, и непосредственные чувства, и тематическая оригинальность, и «свежие образы» скорее показались бы в древности дурным тоном, поскольку поэтическая задача вообще трудная задача, в ее трудности заключается сама возможность ее решения, и поэтому должны быть строгие жанровые, метрические и многие иные рамки: в их соблюдении только и может сказаться истинное достоинство, в то время как неспособный проявить его на заданном поприще, играя по общепринятым правилам, будет, конечно, стремиться к творческому эксперименту. Непосредственных чувств нет ни у кого из великих римских поэтов: их интересовала не мутная вода непросветленной страсти, но ароматное, выдержанное вино страсти умудренной, просветленной долгим жизненным опытом и аскезой продолжительного молчания, выведенной на свет не ранее, чем придет тому срок, чем она достигнет должной зрелости и окажется достойной человеческого внимания. Крик радости и боли — еще не поэзия.
Овидию было дано уловить и выразить — независимо, а во многом и против своей воли — букет мелких человеческих слабостей, зависти, ревности и измены, рациональность поведения, которая пришла на смену древней героической цельности, невозможность выдерживать прежнюю высоту и веселый отказ от нее ради достижений менее героических и более обыденных, нежели те, которые римляне чувствовали своим национальным (при всей условности этого понятия) заданием. У Овидия был мягкий характер, несвойственный римлянину; таким же мягким и пластичным был его поэтический дар.
Чувствующие подлинность его предмета собратья по цеху по достоинству оценили его — в то время как многие предвзято настроенные филологи и критики, искавшие того, чего Овидий дать не мог ни в коем случае, и упускавшие из виду подлинные его достоинства в силу своих профессиональных «очков», отнеслись к автору «Метаморфоз» со строгостью, которой этот самый крупный специалист по мелким человеческим слабостям вовсе не заслужил.