Как читать китайскую классику
Владимир Малявин — о шепоте без губ, выпрямлении прямоты и священной резьбе бытия
1.
Разговор о китайской классике и о том, какие смыслы она в себе хранит, проще начать с начала: с первого взгляда на китайское иероглифическое письмо. Мы увидим пляску штрихов, змеек, уголков и точек, линий толстых и тонких, выгнутых и свернутых... Эти живые дебри подчиняются высшему закону жизни — закону бесконечного разнообразия, где ничего не повторяется, но все вечно возвращается. «Письмо — это рассеивание», — утверждается в древнейшем китайском сочинении о каллиграфии, появившемся во II веке. Графически знак «иероглиф» в китайском языке являет картину «детей под крышей», и древние китайцы, конечно, видели в нем идею множащегося потомства. Весь людской род происходит от одного предка. Но превращение не имеет ни образа, ни идеи, ни сущности. Оно дает о себе знать в следе, отсвете, тени — знаках бесследного. Недаром древние китайцы возводили письмена к «следам драконов и птиц». Поистине, древние мудрецы писали как курица лапой, и надо очень постараться, чтобы прочитать их заветы.
Мы имеем дело с миропониманием, кардинально отличающимся от привычек мышления, формируемых умозрением и «логическим дискурсом» с их лингвистическим аппаратом: грамматикой, синтаксисом, риторикой и т. п. Здесь царит стихийная разумность жизни: правда сердечного отклика, убедительность актуального момента, очевидность телесного переживания. Здесь нет идей и объектов, а только беспредельное пространство резонанса, нестройный хор голосов, где все принадлежит «единому телу» превращений, которое можно только слушать, чуять. Несмотря на полную обособленность речи и письменности, тексты в древнем Китае записывались на слух, что приводило к особенной неразберихе на письме. Словам часто присваивали так называемые заимствованные знаки: сходные по звучанию, но разные по смыслу иероглифы. В результате история китайской литературы оказалась прежде всего историей редактирования и комментирования текстов. Впрочем, возможна ли неразбериха там, где не грамматика, а ритм и контекст наделяют слово значением? На этот вопрос еще предстоит ответить.
Сказанное приводит к двум важным тезисам. Во-первых, письмо как «поле рассеивания» смысла слито с естеством жизни. Письмена человека и «письмена природы» непосредственно продолжаются друг в друге, что можно наблюдать в преемственности иероглифики (а тем более петроглифов) и естественных линий в камне или, к примеру, совпадения «текстуры» пейзажа и ногтя в чисто китайском жанре «живописи пальцем», не говоря уже о любви китайцев к всевозможным имитациям и подделкам. Это странное совпадение природы и культуры можно считать фирменным знаком «большого стиля» Евразии. Оно делает мнимость обязательным свойством образа. А его организующей основой является ритмика мироздания, делающая несущественной предметность вещей, опустошающая их.
 Второй тезис состоит в том, что преемственность превращения — сама сущность жизни! — недоступна ни определению, ни выражению или, вернее, может быть выражена только символически, иносказательно. Канонические тексты в Китае уподобляли «жемчужинам на блюде», которые существуют по отдельности, но переливаются всеми красками жизни и друг в друге отражаются. Такой текст — кристалл бытия, и все в нем указывает на отсутствующее единство подобно тому, как в каждом человеке смутно угадывается его неведомый предок. Следовательно, все понятия в принципе взаимозаменяемы, хотя не тождественны (привет древним писцам, с легкостью «заимствовавшим» иероглифы на письме). Но если все присутствует во всем, значит, нигде ничего нет. В теле мирового резонанса есть шепот без губ, вещи живы своей тенью, все только подобно себе, и метафора первичнее и правдивее буквального смысла. «Когда подлинное становится ложным, ложное становится подлинным», гласит китайский афоризм, как будто списанный с постмодернистских манифестов.
Второй тезис состоит в том, что преемственность превращения — сама сущность жизни! — недоступна ни определению, ни выражению или, вернее, может быть выражена только символически, иносказательно. Канонические тексты в Китае уподобляли «жемчужинам на блюде», которые существуют по отдельности, но переливаются всеми красками жизни и друг в друге отражаются. Такой текст — кристалл бытия, и все в нем указывает на отсутствующее единство подобно тому, как в каждом человеке смутно угадывается его неведомый предок. Следовательно, все понятия в принципе взаимозаменяемы, хотя не тождественны (привет древним писцам, с легкостью «заимствовавшим» иероглифы на письме). Но если все присутствует во всем, значит, нигде ничего нет. В теле мирового резонанса есть шепот без губ, вещи живы своей тенью, все только подобно себе, и метафора первичнее и правдивее буквального смысла. «Когда подлинное становится ложным, ложное становится подлинным», гласит китайский афоризм, как будто списанный с постмодернистских манифестов.
В превращении как событийности всего царит всеобщее равенство, но ничто ничему не равно. В нем, если взять примеры из китайской поэзии, то ли «слива пахнет дождем», то ли «дождь пахнет сливой». Разница вроде бы есть, но как ее определить? Большинство иероглифов в языках Восточной Азии воспроизводят эту логику «интерактивной совместности»: они являются продуктом отбора самых существенных свойств вещей в мировой паутине смыслов.
2.
Чтение классики — как духовный путь — действительно сродни блужданию в «лесу символов» Бодлера, где направление указывают «обрывки смутных фраз». Так получается не по чьей-то злой воле, а просто потому, что намек, фрагмент, синкопа — самое верное свидетельство отсутствующего. Нет ничего яснее неясности там, где единичное удостоверяет единое, а мир стал вместилищем священного Иного. Вот почему первый взгляд на китайское письмо — взгляд ребенка, дилетанта, неграмотного — может быть самым проницательным. Одно из лучших свидетельств о китайском письме принадлежит как раз дилетанту Клоделю. Вот это свидетельство в изложении Максимилиана Волошина:
«Посреди храма возвышался вертикальный столб, на котором были начертаны четыре знака. „В надписи таинственно то, что она говорит, — думал Клодель. — Никакой момент здесь не отмечает ни возраста, ни места, ни начала этого знака, стоящего вне времени; это лишь уста, которые вещают. Он есть. И предстоящий лицом к лицу созерцает предписание, имеющее быть усвоенным...”»
Иероглифическое письмо в самом деле есть иеро-глифика: священная резьба бытия. Оно оберегает тайну и прочерчивает грань между мудрым и невеждой, посвященным и профаном. Но эта грань, проходящая в каждом из нас. Она неустранима, но преодолима. Священство Иного можно сделать родным в пространстве мирового резонанса, где все звуки интимны. И это священство — начало начал, Первопредок как символ даже не данности, а заданности жизни. Чтобы вернуться к ней, нужно одолеть или, точнее, оставить все частное, преходящее в себе и вместить в себя Путь превращений. Вот здесь разница между умозрительно-проективным мышлением, выстроившим Запад, и мышлением аффективно-действенным, которое пестовал Восток, выходит на передний план. Несказанность истины манит и влечет к себе сильнее всех обещаний и призывов. А стремление к ней требует взращивать духовную чувствительность. Ибо немому зову пра-почвы, предваряющему все суждения и рождающему осмысленную речь, можно только внимать и следовать, на-следуя его следам. А следование требует чуткости, неустанной настройки духовного слуха.
 Подлинный смысл чтения по-китайски — выправление себя, приобщение к внутреннему и всеобщему средоточию жизни, где все близки и потому достойны любви. Задание в высшей степени нравственное. Декларированное спасение или блаженство здесь ни при чем. Совершенствование само оправдывает себя, и его награда — точность отношения к самому себе: выпрямление прямоты, утрата утраты, оживление жизни... Так мы возвращаемся к вечному, и вечно другому, началу: пределу обыденности прежде всего понятого и понятного. Немыслимая, невозможная реальность. Но только невозможное не может не быть. Живя так, мы, по завету древних китайцев, «храним единое», каковое есть фактически «единое единичности» или «единичность единого». Всегда другое единое. Такова главная китайская философема: одно как два и два как одно, одно в другом и все во всем.
Подлинный смысл чтения по-китайски — выправление себя, приобщение к внутреннему и всеобщему средоточию жизни, где все близки и потому достойны любви. Задание в высшей степени нравственное. Декларированное спасение или блаженство здесь ни при чем. Совершенствование само оправдывает себя, и его награда — точность отношения к самому себе: выпрямление прямоты, утрата утраты, оживление жизни... Так мы возвращаемся к вечному, и вечно другому, началу: пределу обыденности прежде всего понятого и понятного. Немыслимая, невозможная реальность. Но только невозможное не может не быть. Живя так, мы, по завету древних китайцев, «храним единое», каковое есть фактически «единое единичности» или «единичность единого». Всегда другое единое. Такова главная китайская философема: одно как два и два как одно, одно в другом и все во всем.
Канон в Китае, как само китайское письмо, воплощает этот фундаментальный акт совершенствования как оставления-следования-возвращения. В культуре он предстает как тип и стиль. В отличие от западного типа, по природе стереотипного, идео-логического, китайский тип выпячивает единичность, особенное и иное в вещах; он — знак иронии, вознесенной на высоту классики. Отсюда забавные китайские энциклопедии, предлагающие вместо определения предметов перечни их курьезных качеств. Все здание китайской цивилизации выстроено на таких типах. А своей необычайной прочностью оно обязано как раз присутствующей и, в сущности, изначально заложенной в них изрядной доле иронии и даже пародии — лучшей защите от догматизма.
Принципиальная мнимость китайского канона объясняет, помимо прочего, отсутствие оппозиции воображения и действительности в китайской литературе. Одно свободно изливается в другое или сосуществует с ним в странном симбиозе административной рациональности и абсурдной фантазии по образцу, например, «Книги гор и морей». Китайская классика учит, что нет ничего фантастичнее действительности и действительнее фантастики.
 Девятиглавый феникс. Иллюстрация к «Книге гор и морей» цинского периода
Девятиглавый феникс. Иллюстрация к «Книге гор и морей» цинского периода
3.
Китайская культура и особенно китайская классика ориентированы на единение тела и духа, жизни и сознания. В своих высших формах это единство порождает «чудо стиля», как назвал живое тело Мерло-Понти. Речь идет, по сути, о типовых, не подвластных потоку времени моментах сознательного существования, усилия совершенствования, которые имеют ось возрастания или, по-другому, очищения и утончения качества духовного опыта. Канон в Китае есть свидетельство иерархии состояний, различия между которыми обозначаются только метафорически, а нередко вообще не имеют словесной формулировки и поверяются только опытным путем. Главный китайский канон — «Книга Перемен» — наглядно показывает, как ось типизации бытия пронизывает разные уровни существования: в самом низу находятся элементарные графические символы в виде сплошной и прерывистой черт, комбинации черт имеют однословное название, которое разъясняется в каскаде комментариев. В даосизме каноны считались плодом многоступенчатой кристаллизации духовных энергий. В любом случае мы имеем дело с самодостаточной структурой, удостоверяющей скрытый, эзотерический смысл. В языке ей соответствуют глоссы и комментарии, где, как в россыпи жемчужин, понятия преломляются друг в друга. Ее литературные параллели — господствующие в китайской классике жанры афоризма и анекдота, которые указывают на не предъявленный в них смысл, существуют в модусе само-упразднения. В общественном укладе канону соответствует замкнутая школа с ее строгим разделением на внутренний круг посвященных и тех, кто находится «за дверями». Все это — способы охранения не просто неких корпоративных секретов, а абсолютной тайны само-отсутствия реальности. Соответственно, особое значение придается чисто внешним обстоятельствам бытования канона: его декору, материальному присутствию знаков, месту и времени его явления в мир (ибо каноны как реальность нерукотворная не сочиняются, а открываются), а также стилю письма, звучанию слов и т. п. Недаром неграмотный патриарх чань-буддизма Хуэй-нэн прозрел, слушая декламацию буддийской сутры. На этой почве японцы пришли к субстантивации случайности в опыте, но столкнулись с проблемой оправдания выбора «показательного случая». Китайцы избежали этой трудности, поскольку соотносили актуальный опыт с отложившимися в культуре смысловыми ассоциациями.
Как бы там ни было, канон был призван уводить в дословное — то, что предваряет слова и передается дословно. Его заданием было не просвещение, а просветление: безупречная соотнесенность индивидуальной жизни с вселенским Путем. Среди китайских подвижников было принято половину времени посвящать медитации, а другую половину чтению книг, и просветление часто приходило к ним именно за чтением. Многие читали — точнее, созерцали — на сон грядущий «Книгу Перемен», чтобы развить в себе духовный слух. Один мой знакомый даос на Тайване очень изумился, когда узнал, что я перевел «Дао Дэ цзин» на русский язык. Он был совершенно уверен в том, что понять даосский канон может только тот, кто посвящен в духовную практику даосизма, и никакая ученость здесь не поможет.
Легко видеть историческую ограниченность канонического миросознания: достаточно было приписать канонам предметное содержание — материальное или интеллектуальное, — и каноническое наследие теряло смысл. С распространением грамотности и появлением массовой культуры этот исход был предрешен. Ученая элита отчаянно сопротивлялась объективному ходу истории: по уже известным нам причинам она все настойчивее культивировала вкус к гротеску и курьезу, все решительнее бравировала своими идиосинкразиями. Поразительная метаморфоза: тот, кто говорил от имени вселенской нормы, в конце концов стал по факту нонконформистом или, как говорили в Китае, «древним чудаком»! Мудрость древних продолжала жить в закрытых школах.
 4.
4.
Безмолвие, обступающее слова, пауза, учреждающая ритм, — вот подлинный смысл «предписания» канонов. Его миссия — не сообщить, даже не научить, а подтолкнуть к бесконечно действенному действию. Оттого же оно ведет по совершенно особенному Пути, который, как сказал Лао-цзы, начинается буквально «под ногами» и... там же заканчивается. Это путь к началу всего, где все сущее еще только предвосхищается, так что уповающий на мир — еще тайный, неведомый — находится в полной безопасности. Серьезное чтение канона есть не только поэзия и техническая инструкция, но и надежная стратегия. Чтобы овладеть ею, требуется совсем немного — быть, как ребенок, полностью открытым миру. Поистине, спасение приходит в опасности. Только канон может научить этой мудрости.
Повторю однажды сказанное: канон знаменует прорастание сознания сквозь морок субъективных миров. Это сознание по определению собирательное, соборное, так что рассматривать историю канонов как череду индивидуальных добавлений к существующему тексту значит лишить себя самой возможности его понимания. Ресурсы академической филологии в этом плане очень ограничены, хотя, безусловно, отрекаться от них нельзя. Через дебри текстологии нужно продраться, чтобы вернуться к первозданной свежести опыта.
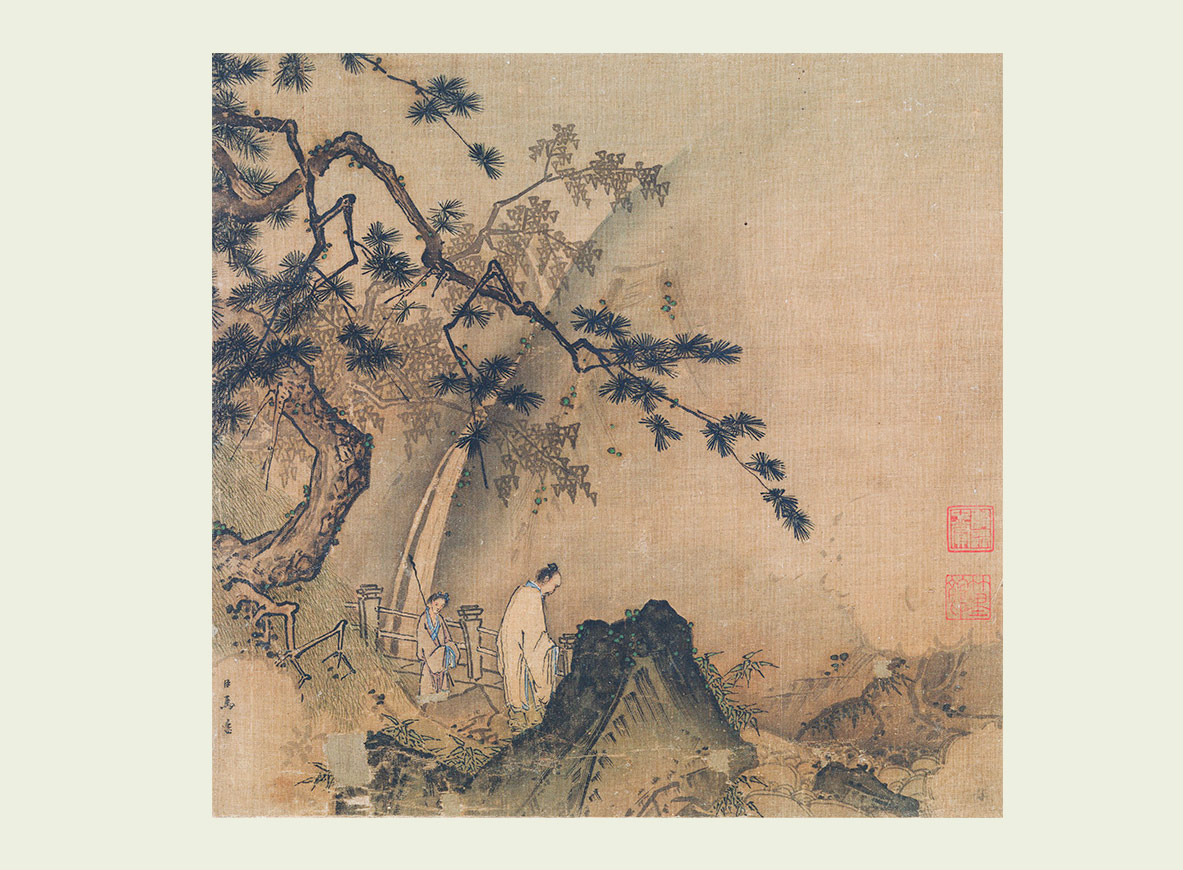 Провиденциальным образом развитие науки подтверждает эту истину. Находки древних списков ряда канонических книг в Китае значительно расширили возможности интерпретации канонического наследия, произвели эффект того самого «рассеивания», которое является главным условием духовного познания по-китайски. Возможно, мы не сумеем выразить наши новые прозрения в однозначных формулах. Но будем помнить, что истина не исключает вероятность. И что по ту сторону вероятных истин есть правда: то подлинное в нас, которое отсутствует в любой предметной «данности», но воистину неизбежно!
Провиденциальным образом развитие науки подтверждает эту истину. Находки древних списков ряда канонических книг в Китае значительно расширили возможности интерпретации канонического наследия, произвели эффект того самого «рассеивания», которое является главным условием духовного познания по-китайски. Возможно, мы не сумеем выразить наши новые прозрения в однозначных формулах. Но будем помнить, что истина не исключает вероятность. И что по ту сторону вероятных истин есть правда: то подлинное в нас, которое отсутствует в любой предметной «данности», но воистину неизбежно!
Что же касается будничного ремесла перевода, то здесь придется отказаться от умозрительной или проективной предметности и довериться мудрости жизни, которая безошибочно поведет нас к истине, если мы решимся «оставить себя» и оставить самое оставление. На этом пути нельзя ошибиться — так же, как нельзя ошибиться, ткнув пальцем в небо. Ведь мы идем к центру нашего бытия, к предку, сущему во всех нас. Когда-то Вальтер Беньямин, рассуждая о задании перевода, говорил о тяготении всех смыслов к некоему пра-смыслу, их прикровенно объемлющему. В этом залог небезнадежности переводческого дела и общечеловеческого понимания. Быть может, как утверждают некоторые, ничего перевести нельзя. Зато можно понять в безмолвии. Это было, кстати, лейтмотивом китайской традиции со времен Конфуция, учившего на высших стадиях познания «познавать на ощупь в молчании».