Как читать Гоголя с помощью Гегеля
Константин Митрошенков — о книге Григория Гуковского «Реализм Гоголя»
Григорий Гуковский (1902—1950) известен в первую очередь как специалист по литературе эпохи классицизма — его учебник «Русская литература XVIII века», впервые опубликованный в 1939 году, до сих пор активно используется и переиздается. Совсем другая судьба постигла вторую часть его наследия — цикл работ о реализме, посвященных в первую очередь Пушкину и Гоголю: две из трех книг увидели свет лишь в годы оттепели и после смерти автора, скончавшегося в заключении, а в наше время не переиздавались и никому кроме специалистов не известны. «Горький» продолжает вспоминать незаслуженно забытые исследования советских литературоведов: Константин Митрошенков уже писал об
Книга «Реализм Гоголя» обрывается на полуфразе. Завершить работу над ней Григорию Гуковскому помешал арест — летом 1949 года он был помещен в Лефортовскую тюрьму, где скончался в апреле следующего года. Книга о Гоголе увидела свет в 1959 году, уже в эпоху оттепели, благодаря стараниям одного из учеников Гуковского.
Незадолго до ареста Гуковский был уволен из «Пушкинского Дома» (ИРЛИ АН СССР) во время кампании против «буржуазного космополитизма». Столь трагически завершилась успешная до того момента карьера исследователя, прошедшего путь от формальной школы и изучения малоизвестных произведений XVIII века до создания масштабной марксистско-гегельянской теории развития литературы. Но обо всем по порядку.
Как Гуковский разошелся с формалистами
В середине 1920-х годов Гуковский был близок к кругу младоформалистов и посещал семинар, организованный Борисом Эйхенбаумом и Юрием Тыняновым. В то время Гуковский изучал русскую литературу XVIII века, которая долгое время рассматривалась как художественно незрелая и вторичная. Гуковский стремился доказать обратное. «Пульс литературной жизни бился сильно, молодо. Вместо ожидаемого серого однообразия открывается яркая картина столкновения различных поэтических систем... создавших ряды произведений высокой ценности», — писал он в предисловии к книге «Русская поэзия XVIII века» (1927).
Гуковский довольно быстро разошелся с установками формальной школы. В частности, он вернулся к использованию таких традиционных историко-литературных категорий как классицизм и романтизм, отвергнутых его предшественниками. Эйхенбаум, которого Гуковский однажды назвал своим учителем, в апреле 1928 года записал в дневнике: «Был на докладе Гуковского — „К вопросу о русском классицизме XVIII века”. Как всегда — реакционный в научном отношении дух (возвращение к „школьным” понятиям, традиционализм, высокий штиль, философия, смешанная с наглостью), внешний блеск, много нахальства, много знания». (Более подробно об этом можно прочитать в статье Кирилла Осповата «Гуковский в 1927–1929 гг.: к истории „младорфмализма”», вошедшей в тринадцатый «Тыняновский сборник».)
В статье «К вопросу о русском классицизме» (1928) Гуковский объяснял, что его интересует «художественный дух „той или иной эпохи”... специфический облик, сообщаемый поэтическим произведениям от общей литературной атмосферы данного периода... индивидуальные и характерные для эпохи признаки эстетического функционирования литературных вещей». Изучая полемику Ломоносова и Сумарокова, он показывал, что при всех разногласиях оба автора действовали в рамках общей поэтической системы классицизма. «Такие важные элементы этой системы, — пишет Андрей Зорин, — как ориентация на единый образец, преобладание жанрового начала над личностным, господство устойчивых языковых формул и пр. были осмыслены исследователем... как отражение целостного и последовательного мировоззрения».
На рубеже 1920–1930-х годов Гуковский увлекся марксизмом. Опираясь на социологический метод, он продолжил исследования литературы русского классицизма. Среди его работ того времени стоит выделить «Очерки по истории русской литературы XVIII века» (1936) и учебник для вузов «Русская литература XVIII века» (1939), неоднократно переиздававшийся уже в постсоветский период.
Андрей Зорин считает, что переход Гуковского к марксизму был продиктован не только стремлением продемонстрировать лояльность режиму и обезопасить себя от нападок: «Человека со вкусом к обобщениям глобального характера марксизм манил обещанием всеобъемлющего синтеза, приведения огромной массы к единому знаменателю, куда более универсальному, чем тот, который мог предложить формализм». Зорин цитирует слова Лидии Гинзбург, дружившей с Гуковским: «У [него] была сокрушительная потребность осуществления, и он легко всякий раз подключался к актуальному на данный момент и активному. <...> Г<уковский> был резко талантлив, поэтому он извлекал интересное из любого, к чему подключался. Так было у него с культурой символистского типа (включая религиозный опыт), с формализмом, с марксизмом».
От классицизма до соцреализма
 Г.А. Гуковский
Г.А. ГуковскийВкус к «обобщениям глобального характера» у Гуковского действительно был. В 1940-е годы ученый выдвинул свою модель развития русской литературы, охватывающую период с начала XIX до середины XX века. Основные ее составляющие изложены в статье «О стадиальности истории литературы», написанной предположительно в 1943 году.
Гуковский выделяет в истории литературы три основные стадии — классицизм, романтизм и реализм, — которые последовательно сменяют друг друга. Каждая новая стадия рождается из противоречий предыдущей, но не отменяет достижений предыдущего этапа, а сохраняет и развивает их. В концепции Гуковского, как пишет Владимир Маркович, «нетрудно заметить проекцию некоторых элементарных законов диалектики», сформулированных Гегелем, а затем переформулированных Марксом. Так, классицизм «„открыл” закономерность человеческой психики... и принцип подчиненности индивидуального и частного общим понятиям или законам. Затем пришел романтизм, которому удалось преодолеть необходимую на предшествующем этапе обобщенность понимания личности, и „открыл” принципы субъективного мировосприятия... выдвинул проблему человека как высшей ценности, проблему абсолютной свободы человека. Затем наступила эра реализма, обнаружившая, что абсолютная свобода — это анархия мысли и фикция, и заменившая проблему изображения личности проблемой ее объяснения, — национального, исторического, наконец, социального...»
Каждая стадия характеризуется своим стилем — «определенным типом мировоззрения в его художественном выражении». Это понятие становится ключевым для всей стадиальной теории. Как следует из приведенного определения, стиль у Гуковского не сводится к совокупности приемов. Он оказывается чем-то вроде «духа эпохи», которым отмечены все произведения, созданные в тот или иной период. Владимир Маркович отмечает: «Представление о стиле приобретает такой масштаб, что в соотнесении с ним даже литературные течения и школы оказываются объединениями частными и случайными».
Важным преимуществом своей схемы Гуковский считает последовательный историзм и критикует исследователей, «ищущих реализм или романтизм у Софокла... или Расина» (этим действительно грешили многие советские литературоведы). Гуковский также настаивает, что любая историко-литературная концепция должна опираться на «глубокое убеждение в том, что человечество движется... от „худшего” к „лучшему”». Поступательное развитие литературы заключается в «прогрессе содержания», а не формы: «В том совершенствуется искусство, что оно открывает все новые истины, все полнее познает мир, все более глубоко понимает человека и общество... и именно поэтому искусство открывает все более прогрессивные формы, что оно ищет на каждой стадии своего развития форму, соответствующую новому содержанию...» Наивысшей точкой развития мировой литературы закономерно оказывается социалистический реализм, вобравший в себя все достижения предыдущих стадий.
Развитие искусства и литературы Гуковский увязывает со сменой общественных формаций, что позволяет ему говорить об универсальности стадиальной схемы для всех литератур мира: «Так как всякое общество... непременно проходит определенный порядок формаций, логически и исторически предрешенный, то, значит, и искусство, выражая это стадиальное движение общества, должно пройти те этапы, те стили, которые... соответствуют закономерным этапам общественного бытия». Каким образом общественный прогресс влияет на искусство и литературу, Гуковский не уточняет. Мы лишь узнаем, что «искусство не саморазвивается» и «растет на дереве общества».
Опираясь на теорию стадиального развития, Гуковский написал в 1947 году учебное пособие «Преподавание литературного произведения в школе» (опубликовано в 1966 году). Он также планировал создать серию монографий о русских писателях. При жизни Гуковскому удалось опубликовать лишь первую из них, «Пушкин и русские романтики» (1946). Тираж второй книги «Пушкин и проблемы реалистического стиля», был уничтожен в 1949 году (опубликована в 1957 году). О судьбе «Реализма Гоголя» уже упоминалось выше — к этой книге мы теперь и перейдем.
Что такое реализм
В 1820-е годы на смену романтизму, доминировавшему в русской литературе в предыдущие десятилетия, приходит реализм. В отличие от романтизма, выдвинувшего на первый план идею свободной личности, реализм утверждает «примат конкретного коллектива над индивидуальным зерном личности». Гуковский связывает появление нового стиля с изменениями, происходившими в европейском обществе в первой половине XIX века: с закатом аристократической культуры, проникновением капитализма во все сферы жизни и появлением изданий, рассчитанных на широкую публику.
Гуковский рассматривает реализм как порождение нового, буржуазного общества, но основным принципом реалистической литературы называет антибуржуазность и антииндивидуализм, поскольку она признает «индивидуальный характер... производным от среды». Из этого Гуковский выводит ключевую, по его мнению, характеристику реализма: стремление изображать не отдельных героев (какими бы «типичными» они не были), а общество в целом и его самосознание. Правда, оговаривается Гуковский, далеко не всем писателям-реалистам это удается, и на протяжении всего XIX века для русской литературы было характерно противоречие между «идеей коллективного (народного, классового) и личного».
Первым реалистом (не только в русской, но и в европейской литературе!) Гуковский называет Пушкина, «выросшего» из романтизма и «преодолевшего» его. В 1830-е годы к нему присоединились Гоголь и Лермонтов, образовавшие «ударную группу наступления реализма». Творчеству Лермонтова Гуковский уделяет мало внимания, а главным русским реалистом второй четверти XIX века называет Гоголя.
Для советского литературоведения Гоголь был проблематичной фигурой. С одной стороны, его высоко ценили Белинский и Чернышевский, критические статьи которых были канонизированы в советский период. С другой стороны, сам классик под конец жизни сильно подпортил себе репутацию «Выбранными местами из переписки с друзьями» — книгой, за которую Белинский назвал Гоголя «проповедником кнута» и «апостолом невежества». В 1920-е и в начале 1930-х годов в литературоведческих статьях Гоголя нередко характеризовали как «типичного крепостника» и «представителя феодального дворянства». К середине 1930-х годов такие характеристики стали неуместными: Гоголь был провозглашен предшественником новой советской литературы и «великим реалистом».
Правда, с реализмом у Гоголя все тоже было непросто. Если Белинский превозносил его как обличителя российской действительности, то последующие поколения критиков пересмотрели эту трактовку. Василий Розанов в книге «Легенда о великом инквизиторе Ф. М. Достоевского» (1894) и ряде других работ подчеркивал фантасмагоричность произведений Гоголя и говорил о нем как о «гениальном живописце внешних форм», за которыми «ничего, в сущности, не скрывается». Представители формальной школы, как правило, сосредотачивали внимание на стилистических особенностях произведений Гоголя и игнорировали якобы заложенную в них социальную критику. Эйхенбаум в знаменитой статье «Как сделана „Шинель” Гоголя» (1918) назвал «наивными» людей, ищущих в этой повести «реализм».
Действительно, соглашается Гуковский, в произведениях Гоголя много фантастических элементов, но в конечном счете все они служат созданию реалистических картин жизни общества. «Вечера на хуторе близ Диканьки» — не просто красивая сказка с чертями, ведьмами и русалками, а воплощение народной мечты «о чудной, простой, нравственной и душевно красивой жизни человека». В петербургских повестях, напротив, фантастическое нужно Гоголю для того, чтобы подчеркнуть «ненормальность» и «алогизм» столичной жизни. В этом писатель расходится с романтизмом, оказавшим влияние на его раннее творчество: «Фантастика гоголевских повестей о Петербурге, лишенная субъективизма, предназначенная раскрыть смысл и характер... социальной действительности, окружающей автора... не имеет отношения и к романтической фантастике в целом. <...> Для романтиков фантастическое — это в принципе... нечто более высокое, прекрасное, чем обыденное; для Гоголя фантастическое — это суть самого обыденного. Значит, для романтиков фантастическое (мечта!) предстоит как благо, для Гоголя — как зло, как суть зла».
В приведенном отрывке Гуковский называет еще одно важное отличие Гоголя от романтиков — отсутствие субъективизма. Писатель-реалист, в понимании Гуковского, стремится говорить от лица общества в целом, а не отдельной личности. Все творчество Гоголя, от «Вечеров на хуторе близ Диканьки» до первого тома «Мертвых душ», он рассматривает как попытку «слиться с коллективом нации, стать ее голосом». Поэтому автор уделяет большое внимание фигуре рассказчика в произведениях Гоголя.
Как Гоголь возрождал эпос
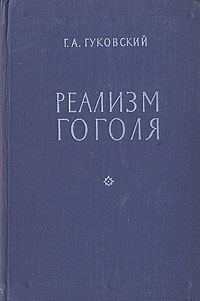 В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» нет единого рассказчика. В предисловии повествование ведется от лица «пасичника Рудого Панька», якобы собравшего и записавшего эти повести, но вскоре он исчезает и в дальнейшем появляется лишь эпизодически. Мы слышим то «безлично-поэтическую речь», то сказ — определить, кому именно принадлежит голос, невозможно. Гуковский сравнивает Гоголя с Гомером и утверждает, что писатель «стремился возродить эпическое воззрение на жизнь коллективного создателя фольклора... описать Россию не с узкой точки зрения отдельного человека, а в ее целостностности, охватывая единым взглядом то, что не может сразу увидеть один человек, но что может видеть и видит разом весь народ». По мнению ученого, в полной мере это удалось Гоголю в первом томе «Мертвых душ».
В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» нет единого рассказчика. В предисловии повествование ведется от лица «пасичника Рудого Панька», якобы собравшего и записавшего эти повести, но вскоре он исчезает и в дальнейшем появляется лишь эпизодически. Мы слышим то «безлично-поэтическую речь», то сказ — определить, кому именно принадлежит голос, невозможно. Гуковский сравнивает Гоголя с Гомером и утверждает, что писатель «стремился возродить эпическое воззрение на жизнь коллективного создателя фольклора... описать Россию не с узкой точки зрения отдельного человека, а в ее целостностности, охватывая единым взглядом то, что не может сразу увидеть один человек, но что может видеть и видит разом весь народ». По мнению ученого, в полной мере это удалось Гоголю в первом томе «Мертвых душ».
Гуковский трактует поэму как масштабное полотно, изображающее все российское общество «в борении двух сил, обнаруженных в [нем] Гоголем: силы отрицательной, силы зла, воплощенной помещиками и чиновниками, да и денежной спекуляцией грядущего дельца в придачу, — и силы положительной, силы народа». Он подчеркивает, что в «Мертвых душах» нет главного героя в привычном нам смысле и, следовательно, нет романного сюжета. Чичикова, вокруг похождений которого выстраивается композиция книги, Гуковский считает фиктивным героем, так как его авантюра с покупкой мертвых крестьян заканчивается ничем и в сюжетном плане оказывается тупиковой.
Но Гуковский все же находит в «Мертвых душах» главного героя — им оказывается сам русский народ. Такой вывод может показаться странным, ведь самые яркие и запоминающиеся персонажи в поэме — помещики и другие представители «господствующих классов», в то время как их слуги, крепостные и крестьяне остаются на втором плане. Все верно, говорит Гуковский, но народную силу олицетворяет собой рассказчик — «верный сын родины», поведавший нам о «мире Плюшкиных и кувшинных рыл»: «Это и конкретный индивидуальный человек-личность, интеллигент-писатель, и в то же время это воплощение „духа народа”, обобщение народного сознания, это его поэтическое и вещее слово». Получается, что в «Мертвых душах» Гоголь создал своего рода обновленную версию эпоса.
Здесь нужно сделать небольшое отступление. В 1930-е годы в отечественном литературоведении утвердилось представление о том, что в бесклассовом советском обществе происходит возрождение античной эпической традиции. Как объясняет Галина Белая, это возрождение связывали с тем, что «в античности личность не была вычленена из общества, и в пореволюционном обществе она тоже слита с ним, хотя — по-другому и по другим причинам». Литература соцреализма рассматривалась как синтез реалистического романа XIX века и эпоса — отсюда характерное для советского литературоведения понятие «романа-эпопеи». Одним из авторов этой концепции стал Георг Лукач, испытавший, как и Гуковский, сильное влияние гегельянства.
Гуковский, сближая Гоголя с эпической традицией, действует в рамках той же схемы. По его мнению, автор «Мертвых душ» опередил свое время и предвосхитил соцреализм: «Увидеть всю массу, весь народ, весь ход истории в единстве конкретного образа смогли только писатели социализма: Горький в „Матери” и во многом другом, вплоть до „Жизни Клима Самгина”, и Маяковский в поэме „Владимир Ильич Ленин”».
Более того, для Гуковского все творчество Гоголя — это последовательная критика современного ему российского и европейского общества, для которого характерно имущественное неравенство, разобщенность и индивидуализм. Исследователь полагает, что всем этим ужасам модерности Гоголь противопоставляет эпические картины народной жизни — не только в «Мертвых душах», но и в повести «Тарас Бульба», где мы видим «свободу и демократизм; высокую общественную мораль; свободу совести; высокую, гомеровскую, жизнь искусства».
Колесо истории поворачивается
Гуковский, рассуждая о «народности» Гоголя, повторяет установки официального советского литературоведения, согласно которым непременным условием создания «великих реалистических произведений» является «близость к народу». Другая примета времени — Гуковский избегает вопроса о классовой принадлежности Гоголя. Вероятно, он стремился дистанцироваться от социологического направления в советском литературоведении, объявленного «вульгаризацией марксизма» и разгромленного еще во второй половине 1930-х годов. Характерно и то, что Гуковский подчеркивает обличительный пафос произведений Гоголя, изображающих реалии николаевской России.
В то же время «Реализм Гоголя» заметно отличается от других работ о писателе, созданных в 1930–1940-е годы — и прежде всего своей гегельянской направленностью и скрупулезным анализом фигуры и роли рассказчика у Гоголя. Конечно, велик соблазн интерпретировать слова Гуковского об «интеллигенте-писателе», воплощающем в себе «дух народа», в контексте биографии самого ученого. Литературовед Илья Серман в воспоминаниях о Гуковском пишет, что в его поздних работах намечается путь к идее «некоего коллективного разума, который решает за человека — разума, которому понятна историческая необходимость, недоступная отдельной личности». Вполне возможно, что Гуковский действительно осмыслял свою историческую ситуацию в подобных гегельянских категориях. «Пожалуй, только в рамках такого мировоззрения человек типа Гуковского мог стоять на позициях „примирения с действительностью” в условиях зловещей антисемитской кампании 1948—1949 гг.», — замечает Андрей Зорин.
Поэтому книгу «Реализм Гоголя» можно рассматривать как свидетельство интеллектуальных поисков Гуковского, безуспешно пытавшегося приспособиться к советской действительности конца 1940-х годов. Илья Серман приводит слова, произнесенные Гуковским незадолго до ареста: «Вы ничего не понимаете, ведь это поворачивается колесо истории!».
***
Предложенная Гуковским концепция реализма, несмотря на некоторую спекулятивность и идеологическую нагруженность, имеет одно важное достоинство — она рассматривает «реализм» не просто как «любое достоверное изображение действительности», а как отдельный этап в истории европейской литературы, характеризующийся определенным набором практик и конвенций. В этом отношении идеи Гуковского созвучны подходам современных исследователей, которые снова возвращаются к понятию «реализма», дискредитированному официальным советским литературоведением и почти вышедшему из научного оборота в первые постсоветские десятилетия. Кто знает, может быть, и «Реализм Гоголя» ждет новая жизнь — не только как документ трагической эпохи, но и источник метких наблюдений и оригинальных прочтений гоголевских произведений.