«Каблуки утопают в асфальте»: почему Ростов-на-Дону убегает от большой литературы?
Столица Юга как Колобок российской словесности
Для «Маленькой России», совместного проекта «Горького» и Фонда Михаила Прохорова, филолог Владимир Серых исследует литературные отражения Ростова-на-Дону — от поэзии Леонида Григорьяна до посвящений городу за авторством Басты, от единичных впечатлений художников до поэтических призывов Ничевоков — и пытается понять, почему Ростов постоянно убегает от большой литературы, прячась в малых формах.
Любой текст о Ростове-на-Дону можно начать эпиграфом рэпера Басты: «Это Ростов, здесь начинается Юг». Заканчивается Европа, начинается Азия. Воображать Юг — значит набрасывать на него смысловые путы, сводить территорию к неким клише. Писать о Юге — значит развенчивать эти клише и копаться в местной мифологии, которая распадается на ворох слабо связанных друг с другом историй. Их невозможно без упрощения привести к общему знаменателю. И кажется, поэтому Ростов-на-Дону прячется в огромном количестве (пара)литературных форм, избегая крупных нарративов.
Когда речь заходит не столько о городе, сколько о донской местности, первыми вспоминают крупные фигуры: Чехов, Шолохов, Солженицын. Чуть реже — Калинин или Закруткин. За текстами школьных классиков, правда, едва ли удается разглядеть городскую ткань. В каком-то смысле Ростов долгое время существовал на окраинах текстов: писателей занимала жизнь провинции (зачастую лишенная ростовского колорита) или же судьба казачества. Город выносился за скобки, исчезал в больших сюжетах и появлялся лишь фоном — в качестве декорации.
О городе говорят в стихах, песнях, о нем вспоминают на театральной сцене или в автобиографических заметках — словом, он присутствует в тех формах, где есть место индивидуальному высказыванию. Эти голоса отличаются друг от друга, они принадлежат разным временам и поколениям, художникам и писателям, местным и приезжим. И в этом тексте они сплетаются в полифоническую форму — не обязательно цельную и последовательную. В этом смысле текст подражает самому городу, его лоскутной природе. Было бы опрометчиво пытаться найти все его упоминания в большой литературе, позволим себе говорить о Ростове урывками, сплетать наугад.
В предисловии к роману «Перемена» (1923) Мариэтта Шагинян описывает эту местность так: «Вместо цветов под Новочеркасском дети собирают окаменелости перистых рыб, кузнечиков, папоротников. На узле хлебного и угольного пути, где пролетает поезд, знакомый москвичам и петербуржцам по летнему следованию на минеральные, стоит город, построенный спекулянтами для спекуляций, Ростов-на-Дону. Это молодой город, у него нет истории, кроме разве „проезда высочайших особ“ да похорон городских голов. Весь он из конца в конец прорезан одной главной торговой жилой, от вокзала и до заставы».
В отрывке возникают все приметы Юга: запутанная история (то ли слишком древняя, то ли слишком молодая); город как промежуточный пункт, где можно остановиться, направляясь в кавказскую лечебницу или Баку; купеческий флер, который преследует Ростов почти в каждом тексте. Не хватает, кажется, лишь упоминания криминального прошлого, легенды о котором, будто комары, присосались к образу города.
Говорят о Юге на разных наречиях, но обязательно урывками, диалектизмами, сотрясая воздух фрикативным «гэ» и неуемной жестикуляцией. Слушать Юг — пытаться разобраться в гуле центрального рынка, в котором едва улавливаешь единственно нужный голос; здесь место малой форме, галдежу, из которого выуживаешь повествовательные крохи.
У каждого голоса в этой разговорной трескотне своя история, лишь принадлежность к земле становится общим местом в рассказах. Копни эту землю рядом с ростовским «Бокальчиком», где льет пиво усатый бармен, заводя разговор по делу и без, — найдешь меотское поселение. Поедешь в Азию, в ростовский пригород Азов, перемахнув на левый берег — будешь ходить по костям русских, турков, греков, скифов — словом, всех, кто топтал эту землю. Под землей — история; на поверхности — ее странные приметы, смешавшиеся в солянке, на Петровской площади. Здесь стояла церковь, теперь стоит не самый типичный памятник Ленину, окруженный двумя почти лужковскими зданиями и каменными бабами, а с противоположной стороны на него смотрит молодой памятник Лазареву. Юг отменяет время, смешивая далекую друг от друга архитектуру.
Я с трех лет живу в этом доме —
многолюдной сталинской шестиэтажке,
в детстве казавшейся небоскребом
среди низкорослых саманных халуп...
(Леонид Григорьян)
В стихе Леонида Григорьяна (1929—2010), крупнейшего ростовского поэта-шестидесятника, все отпечатки послевоенной эпохи: сталинская застройка, соседствующая с бедными домами; репрессии; забытое, но еще не ушедшее купечество и сосуществование на одной лестничной клетке нескольких национальностей.
И в доме теперь одни новоселы:
новые русские, новые татары,
новые украинцы, новые евреи —
новые не потому, что богаты,
а просто новенькие и только.
Национальное многообразие, кажется, южному жителю привычным, частью локальной идентичности. В самом Григорьяне — все черты ростовского интеллектуала: филолог, поэт, переводчик, который был проводником зарубежной литературы не только в Ростов, но и в Советский Союз. Наткнуться на его переводы так же легко, как и обойти стороной его стихи: классические переводы рассказов Сартра в студенчестве мне удавалось выцепить на умирающем то ли от палящего солнца, то ли от отсутствия толпы покупателей книжном развале, около стадиона «Динамо», сборник стихов — у приятеля отца, с которым они вместе учились латыни в медуниверситете.
 Леонид Григорьян на нелегальном книжном базарe. Фото: prosodia.ru
Леонид Григорьян на нелегальном книжном базарe. Фото: prosodia.ruОтдаленно Григорьян чем-то напоминает своего земляка акциониста Авдея Тер-Оганяна — тот же богемный образ (у Григорьяна с интеллектуальном колоритом, у Тер-Оганяна — с разгильдяйски-алкогольным), ориентация на мировой контекст, будь то французская экзистенциальная проза или дурного качества репродукции Матисса. Ведь «литературной жизни в Ростове никогда не было», как говорил поэт. Скорее были всполохи этой жизни, которые тут же угасали или о которых забывали спустя время. Пресловутой литературной жизни в Ростове не случилось, вместо нее — отдельные люди или редкие объединения. Может, в этом виновата литературная группировка Ничевоков (1920-е), загодя очистившие «поэзию от традиционного и кустарно-поэтического навозного элемента жизни». Именно в Ростове они приказали писателям бросить привычное дело:
Ничего не пишите!
Ничего не читайте!
Ничего не говорите!
Ничего не печатайте!
Исправить ситуацию могла бы новая кровь, писатели, которых волей судеб занесло в Ростов. Происходило иное — за редкими исключениями люди удирали из города. Изредка сюда заглядывали из других мест, чаще бывали проездом. Иногда в Ростов приезжали, чтобы украсть чью-то невесту — так разрушился брак двух поэтов-ничевоков Рюрика Рока и Сюзанны Мар, денди Мариенгоф соблазнил южанку или своим природным обаянием, или имажинистскими экспериментами. Реже приезжали ради творчества, и тогда в 1920-м из Туалета на Газетном доносилась «Ошибка смерти» Хлебникова:
Жив ли ты, труп ли ты, пой-ка!
Да славится наша попойка,
Пусть славится наша пирушка,
Где череп веселых — игрушка,
И между пирушки старушка,
И с пьяною рожей старец веселья,
Закутан рогожей, — он князь новоселья!
Этот туалет, расположенный в подвале одного из домов на Газетном переулке, по стечению обстоятельств стал знаковой культурной точкой в Ростове и оброс небывалой славой: в начале века здесь в соседнем помещении, по легенде, располагалось кафе «Подвал поэтов» (пусть о его точном местоположении все еще идут споры, оставим их за скобками — редкий туалет делит славу с местом силы поэтических кругов города).
Во время Второй мировой появилось подпольное (в прямом смысле) казино, под ее конец своим присутствием туалет удостоила Клементина Черчилль, жена Уинстона Черчилля, а в конце 1980-х он на день стал выставочным пространством, в котором тер-оганяновское товарищество «Искусство или смерть» провело «Выставку провинциального авангарда „Вылкам Плыз” №3». Экспозиция во-многом походила на такой дадаисткий жест — очевидная алогичность и эпатажность происходящего, своеобразный выбор места, разные медиумы (помимо работ художников по туалету были развешаны стихи Мирослава Немирова) и очень трепетное отношение к слову, к собственной репрезентации через афишу, которое было свойственно художественной группировке. Все ради «а) экспериментов со средой, б) славы, в) денег, г) смеху, д) укора скептикам и маловерам», как гласила программа. В воспоминаниях Немиров отразит этот случайный выбор места, навеянный фланированием по городу:
«1988, сентябрь, Ростов-на-Дону. Тер-Оганян лето проводит в Москве, где обнаруживает — там художественная жизнь ох и кипит. Нужно и у нас так — делать произведения искусства в больших количествах, сделанное — немедленно выставлять. Эх, нам бы крохотненький бы выставочный бы зальчик, чтобы — — — !
Где?
И мы ходили по Ростову, гуляли, это все обсуждали.
В фойе кинотеатров? Не пустят. Тут, проходя по Газетному переулку, увидели новооткрытый кооперативный сортир. Оганяна осенило: в нем! в сортире!»
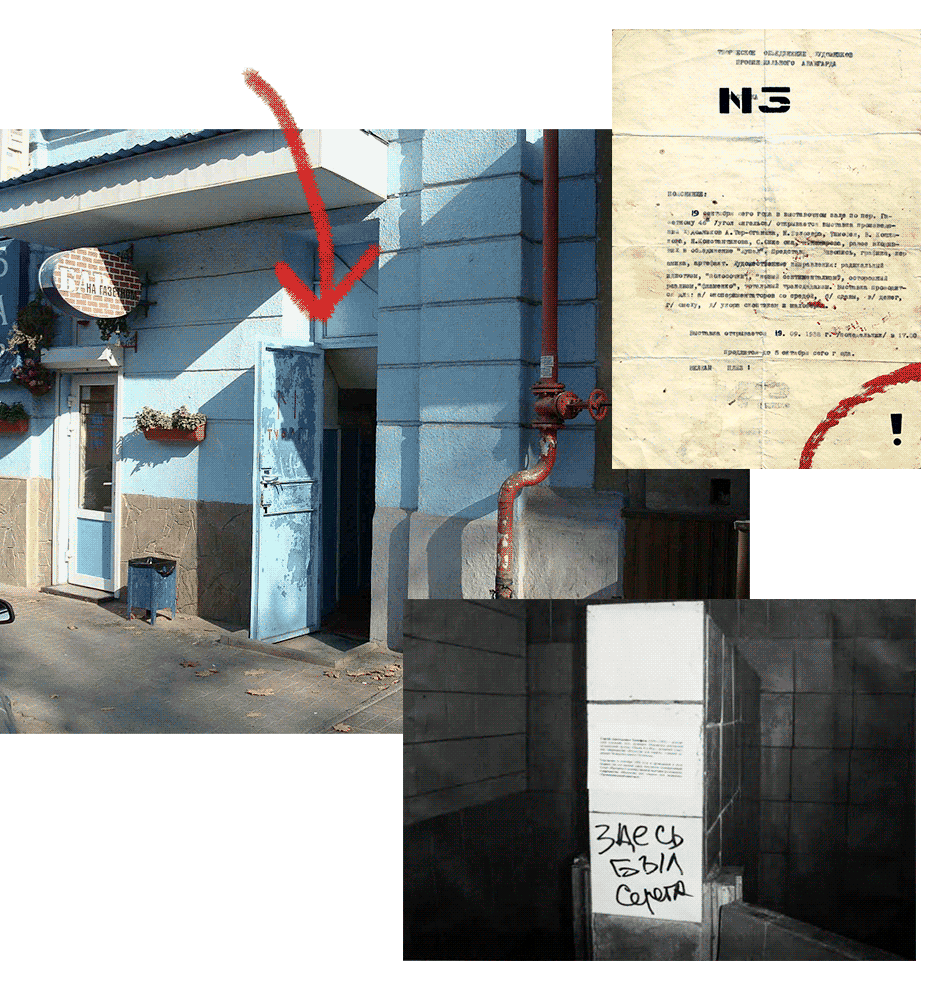
Туалет в Газетном переулке в 2008-м году; афиша «Выставки провинциального авангарда „Вылкам Плыз“ № 3» и документация акции «Здесь был Вова» Натальи Дурицкой и Сергея Сапожникова
Фото: архив Анны Астаховой; rostov-80-90.livejournal.com
В 2010-м в этих стенах пройдет акция «Здесь был Вова», которая лишний раз напомнит о ворохе имен, который непосредственно связан с местом. Попытки запечатлеть основные вехи развития художественной среды Ростова-на-Дону оборачиваются почти таким же утверждением «здесь был ***». Они упираются в ворох разрозненных и часто противоречивых источников — дневники в Живом Журнале, в которых заботливо архивировались материалы, связанные с культурной жизнью города, разбросанные по соцсетям впечатления о событиях, редкие книги, лишенные строгой последовательности.
Город живет в паралитературе, пробиваясь сквозь личные истории, будто степные цветы. Ростовское арт-сообщество, кажется, можно назвать бесконечной тусовкой, где выставка-объект-проект отходят на задний план, уступая место (в зависимости от участников и времени) вечеринке, встрече или пьянке. В этом смысле любая историография ростовского искусства (от книги «Волшебная страна» Максима Белозора до сборника «2000») всегда оказывается историей глубоко личных взаимоотношений между художником и его друзьями, искусством и городом:
«Волшебная страна» (1999) — своеобразный сборник небольших анекдотичных зарисовок про товарищество «Искусство или смерть»; «2000» — полилог художников, чье становление пришлось на начало, собственно, двухтысячных. Ростов прячется в подобных мелких историях. В калейдоскопе встреч, попоек и бесконечного кутежа «Волшебной страны» скрываются улицы, безымянные квартиры без адреса, но иногда возникают почти пасторальные пейзажи: «Когда-то в Ростове-на-Дону Авдей Степанович жил „на Западном”, на краю жилой застройки. Его однокомнатная квартира находилась на седьмом этаже четырнадцатиэтажной свечки, окна выходили на дачный поселок, старое Нижнегниловское кладбище и летное поле учебного аэродрома. Ночью с его балкона можно было через степь разглядеть огни Азова. В общем, вид из окон его квартиры открывался прекрасный». «2000», в свою очередь, полна мелких историй, сшивающих город в единое полотно: здесь воспоминания о первых художественных опытах, беспечном фланировании по улицам и субкультурном прошлом некоторых художников.
1/3 Сергей Сапожников, из серии «Город», 2015-2016 гг. Фото: предоставлено автором 2/3
Сергей Сапожников, из серии «Город», 2015-2016 гг. Фото: предоставлено автором 2/3  Сергей Сапожников, из серии «Город», 2015-2016 гг. Фото: предоставлено автором 3/3
Сергей Сапожников, из серии «Город», 2015-2016 гг. Фото: предоставлено автором 3/3  Сергей Сапожников, из серии «Город», 2015-2016 гг. Фото: предоставлено автором
Сергей Сапожников, из серии «Город», 2015-2016 гг. Фото: предоставлено автором Режиссер Театр.doc Всеволод Лисовский превратил книгу в одноименный спектакль, в своеобразное ощупывание города: зрители блуждают от улицы к улице, от переулка к переулку, встречая актеров, проговаривающих фрагменты книги Белозора. «Летом здесь солнце печет так, что каблуки утопают в асфальте», воздух плавится, прогулка по городу оборачивается скольжением по тексту, который распадается, истончается, превращаясь в форму еще меньшую, наполненную на этот раз устной речью — речью актеров и случайных прохожих, которые порой не могут удержаться от колкостей в адрес зрителей.
Поколение, чье становление пришлось на начало нулевых, занималось примерно тем же — ощупыванием города вслепую, будто бы археологией того, что лежало на поверхности. Максим Березин в отрывке из сборника «2000» вспоминает: «Все происходило на улице. Первые поездки в центр города пришли вместо колорита микрорайонов, где все было известно и никто ничего не ждал. Серость обыденных мест обитания сменилась новыми цветами города. Началу путешествия предшествовал побег от устоявшегося времяпрепровождения, каждый из нас сбежал из детства, но не ради наживы и взрослой жизни, а ради приключений, которые мы искали за границами привычного». Каждые лет десять-пятнадцать в городе появлялись новые места притяжения. В 1990-е город менялся, обрастал новостройками, цветастыми (будто цветов слишком мало) вывесками, которые соседствовали со старым городом — вот он, сверни по Садовой к Дону. Быть может, именно из-за этой небрежной коллажности город рассыпался в текстах, которым не удавалось удержать его образ.
Зато это удавалось художникам, которые по кускам сшивали дворы с сеткой улиц, а театр драмы — с дикими окраинами города. В «2000» художница Анастасия Павлицкая поэтически описывает подобный опыт фланирования так: «Начинала я с маленьких фрагментов, иначе невозможно было усвоить эту мешанину плоскостей и объемов — нарощенных или выпавших, вернакуляров и новостроек. Отсутствие в старом центре массивов и равномерности, совершенно раздробленная структура с ее тактильностью и стихийной красочностью осваивались только в двухмерности конечной картинки и в таком виде, наконец, примирялись с сознанием». Переводя на пацанский словами Касты — «Мы берем это на улицах и несем сюда, / Ожидая, что скажут города».
 Обложки журнала «Ура Бум-Бум!»
Обложки журнала «Ура Бум-Бум!»В конце девяностых, начале нулевых Юг захлестнула хип-хоп культура: пока стены покрывались слоем аэрозольной краски, город превратился в столицу русского рэпа силами буквально нескольких человек: Басты (и нескольких его альтер эго) и (объединенной) Касты. В нескольких хрестоматийных треках уже вшитые в региональное самосознание черты: пацанская риторика, уличная романтика, подозрение к незнакомцу — «Че там у тебя? Кровь или бодяженный кетчуп? / Кто ты? Реальный чел или нафуфыренный птенчик? / Рубишь суть или определяешься на мелочь? / Играешь чисто или тасуешь меченные?». Ростовский рэп, отличающийся от других школ, кажется, навсегда зафиксировал стереотипный образ южанина — резкий, рычащий голос смешался с таким же авантюрным и напористым характером, в котором есть подозрение к чужаку (даже на чужбине) и вместе с тем особое радушие:
Кубические метры этого пространства
Охвачены неистребимым духом братства.
Ваша толпа от нашей отделяется не четко.
«По-любому, будем вместе пить водку!»
И через почти два десятка лет им вторят кингисеппские «Щенки»:
Походу пацаны были с Юга,
Понятно по ростовскому акценту
И по тому, как держались друг друга,
Мы зацепились в центре.
Пацаны приехали в Северную
Столицу из Южной,
Зашли в паб с зеленым клевером:
Тут было всё, что им нужно.
В общем обычная ситуация:
То-ли я задел, то-ли меня задели.
А, х*ли делать? Пятница
Конец рабочей недели
<...>
Ты думаешь это удар?
Мой кулак тяжелее стали.
Засмеялись, обнялись и вместе в бар,
Трое суток потом бухали.
Ростовскому року, в отличие от свердловского, повезло меньше: он так и не вышел за пределы локальной сцены, оставшись в статусе городской легенды: серия фестивалей и концертов, музыкальный журнал «Ура Бум-Бум!», десяток групп (самая значительная из которых, пожалуй, «Пекин Роу-Роу»), Дунькин клуб и вездесущий Мирослав Немиров. Музыкально «Пекин» напоминал психоделический рок 1960-х с поправкой на местный колорит и неспешность, отсюда и психоделические мотивы, которые иногда вплетаются в текст, а иногда и в сам город:
 По улице Садовой
По улице Садовой
Шел парень бестолковый
В жеваной панамке
Лизал пломбир на палке
Парень крючковатый
Ни в чем не виноватый.
Цепляяся за люки
За ним тащились брюки
За ним тащились палки и стрекозы и бурундуки
За ним, визжа и воя
Тащилась паранойя.
Ему была бы рада
Любая психбригада
Он сам ей был бы рад
Аминазина брат.
Совершая привычное путешествие из пригорода в центр Ростова, в который раз от скуки засматриваешься на местный пейзаж: ни намека на вертикаль, земля расползается по сторонам, прорезаемая редкими водоемами и Доном. «Вначале Дон каштановый блестит в камышах, потом показываются первые грузовые краны, затем широкобедрые корабли, и вот уже едем вдоль целого леса кранов, а кораблей и считать уже не хочется», — подхватывает Эдуард Лимонов в «Книге воды» (2002). Приходит жара, начинаются пожары: своеобразное напоминание о том, что преследует эту землю — вечное обновление, осознанное и добровольное, или, наоборот, насильственное. Днем дорога окрашивается в темно-серый, вечером — поля заливает алым. Лишний раз задумаешься: ты принадлежишь этой территории или она тебе. И призыв вернуть землю погорельцам — еще один малый, но такой заметный текст — кажется уже не требованием, но метафорической фигурой речи.
Двигаешься по Садовой, пытаясь не замечать цветастые вывески, но ненароком выглядываешь из окна, чтобы разглядеть работу Тимофея Ради — «Я бы обнял тебя, но я просто текст». Текст прячется в тени, скукоживается, чтобы скрыться от постороннего, ждет того же слепого ощупывания, которым открывается город — переулок за переулком, абзац за абзацем.
***
Автор благодарит Сергея Сапожникова, Владимира Козлова и М-галерею за предоставление визуальных материалов. В оформлении использована работа Калуста Мовсесяна, «Двое», 1996.