«К сожалению, многие русские авторы-эмигранты сделали бизнес на русофобии»
Интервью с британским политологом Анатолем Ливеном
— Давайте начнем с классики: кто из русских писателей XIX и ХХ веков вам наиболее близок и почему?
— Самыми важными для меня были Чехов и Толстой, отчасти потому, что это первые русские авторы, которых я читал подростком. Толстой — благодаря его прямоте и смелости, а Чехов — из-за его порядочности и человечности (а вот к Достоевскому я питаю гораздо более сложные чувства). Впрочем, надо сказать, что моя супруга, русская женщина, относится к Толстому гораздо скептичнее — поэтому, например, большого плюшевого льва нашей маленькой дочки мы назвали Львом Николаевичем. Еще я очень ценю Василия Гроссмана, причем, пожалуй, не как великого романиста, а как человека, запечатлевшего память о трагических противоречиях Великой Отечественной войны.
— Вам доводилось читать что-то из русской классики в оригинале?
— Увы, такое чтение требует серьезной помощи словаря, но мне уже удалось продраться через порядочную часть «Войны и мира», а также прочесть ряд произведений Чехова и «Мастера и Маргариту».
— Хочу отдельно спросить про Солженицына: в книге «Чечня: Трагедия российской мощи» вы несколько раз упоминаете о нем и сожалеете, что его идеи оказались невостребованными в России 1990-х годов. Актуальны ли они сегодня и не являются ли чем-то вроде очередной консервативной утопии или «изобретения традиции»?
— Оскар Уайльд сказал как-то: «Не стоит и смотреть на карту, раз на ней не обозначена Утопия, ибо это та страна, на берега которой всегда высаживается человечество. А высадившись, оно начинает осматриваться по сторонам и, увидя лучшую страну, снова поднимает паруса. Прогресс есть реализация Утопии».
Каждой стране нужен собственный идеализированный образ — не для самовосхваления, напыщенности и надменности (как это часто, к сожалению, бывает), а в качестве основы идентичности и стабильности, стремления к общему усовершенствованию. Все это было особенно нужно России в 1990-е годы, когда слепое преклонение перед Западом сочеталось с моральным коллапсом, интеллектуальной анархией и социальной дезинтеграцией. К тому же традиции очень редко полностью «изобретаются» — а если это происходит, то они обладают незначительной силой. Скорее традиции представляют собой переформирование уже существующего культурного материала, зачастую глубоко укорененного в прошлом того или иного общества.
Кстати, это верно не только в отношении России. Меня поразила дискуссия в книге русско-французского романиста Андрея Макина 2006 года «Эта Франция, которую мы забываем любить» — Макин призывает французов возродить любовь к своим национальным достижениям и традициям, чтобы появился барьер против аналогичных тенденций к аномии и социально-культурной дезинтеграции.
— Как читатель русской литературы видите ли вы явные связи между классической и современной культурой России?
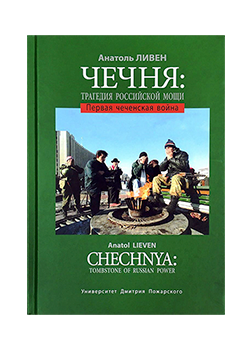 — Мне кажется, в некотором смысле русская литература сама по себе обеспечивает эту связь между дореволюционной культурой и современностью в силу того центрального значения — не имеющего аналогов и устойчиво сохраняющегося, — которое эта литература имеет для российской традиции и российской идентичности, по крайней мере для образованных классов. Если эта литература будет утрачена — точно так же, как знание классических национальных литератур исчезает в западных странах, — то из русской культуры и самой идеи России пропадет нечто принципиально важное.
— Мне кажется, в некотором смысле русская литература сама по себе обеспечивает эту связь между дореволюционной культурой и современностью в силу того центрального значения — не имеющего аналогов и устойчиво сохраняющегося, — которое эта литература имеет для российской традиции и российской идентичности, по крайней мере для образованных классов. Если эта литература будет утрачена — точно так же, как знание классических национальных литератур исчезает в западных странах, — то из русской культуры и самой идеи России пропадет нечто принципиально важное.
Конечно, российское общество отличается от общества до 1914 года. Однако величие русской литературы главным образом и состоит в изображении универсальных человеческих типажей и ситуаций, пусть и в русском обличье. Скажем, в моем случае моему внутреннему Штольцу очень часто приходилось бороться за то, чтобы вытащить меня из обломовского халата. Глупо (как это часто делают дурацкие западные комментаторы) искать поверхностные аналогии между имперской и современной Россией, но столь же глупо и отрицать определенные моменты органической преемственности между ними.
— Кого из наших современных писателей вам доводилось читать? Принадлежат ли они к русской литературе в указанном выше смысле или скорее это некая глобальная литература, написанная на русском?
Самые важные для меня русские писатели — Чехов и Толстой, а на современную вашу литературу у меня не хватает времени из-за профессиональных обязанностей, так что мое впечатление о некой ее исчерпанности, возможно, неверное. Мне нравятся книги Татьяны Толстой и Марины Степновой, а также исторические детективы Бориса Акунина и фантастика Виктора Пелевина; недавно я прочел «Свет и тьму» Михаила Шишкина — эта вещь мне с некоторыми оговорками понравилась. Мне кажется, не вполне верно называть их глобальными авторами. Глобализация и гомогенизация культуры означают, что в какой-то степени подобное утверждение было бы верно для всех современных авторов — по крайней мере, в развитых странах. Ни один английский писатель сегодня не сможет писать с уникальной английской натурой Диккенса, ирландский — с такой же натурой Джойса, а русский — писать как Толстой или Достоевский. Но те авторы, которых я упомянул, определенно сохраняют мощный русский дух.
Иногда я ловлю себя на мысли, что подлинная национальная оригинальность сегодня обнаруживается преимущественно не в реалистических, а в фантастических произведениях. Никто не примет муми-троллей за иной народ, кроме финнов, а в хоббитах безошибочно угадываются англичане. К счастью, и у русской литературы есть большая фантастическая традиция.
— У нас в стране хорошо знают книги вашего брата, историка Доминика Ливена. Он сильно повлиял на ваши представления о России?
— Мое знание российской истории и ее главных тем исходно проистекает из бесед с моим отцом — покойным князем Александром Павловичем Ливеном, бывшим руководителем Русской службы ВВС, и моим старшим братом. Наши с Домиником базовые представления о сегодняшней России очень близки, но есть один нюанс. Доминик еще в 1970-е годы, будучи аспирантом, получил исчерпывающий опыт беспросветности советского житья, тогда как мой главный личный опыт восприятия России и Кавказа был опытом бедствий, порожденных коллапсом Советского Союза.
 Анатоль Ливен
Анатоль Ливен
— Кого из пишущих о России на английском авторов вы могли бы порекомендовать перевести на русский? Как вы оцениваете средний уровень современных британских и американских исследований, посвященных России?
— На протяжении жизни последнего поколения случилось печальное и опасное событие — деградация западных исследований современной России в рамках общей деградации страноведения на Западе. Подлинные знания об отдельных частях света оказались в тени общетеоретических подходов (наиболее примечательный из них — теория рационального выбора), которые используются «учеными» с ограниченным кругозором и зачастую служат не более чем тонким прикрытием для западной идеологической повестки и предрассудков. Во множестве случаев — включая Россию — все это внесло свою лепту в политические ошибки Запада. Впрочем, все не так уж беспросветно: на Западе по-прежнему остается немало зорких наблюдателей, но, к сожалению, в последние годы их игнорируют круги, принимающие политические решения.
В области исторических исследований ситуация заметно лучше. Вы уже упомянули моего брата Доминика Ливена — я бы добавил еще такие имена, как Тим Колтон, Андреас Каппелер, Джеффри Ходжсон, Шейла Фицпатрик, Кэтрин Мерридейл и Орландо Файджес. Но нужно признать, что большинство из них — это уже достаточно пожилые люди, а хороших новых исследователей в этой сфере существенно не хватает.
— В прошлом, двухлетней давности интервью, вы говорили, что для преодоления русофобии на Западе потребуется очень много времени. Кто из современных западных авторов, по вашему мнению, способствует решению этой задачи? Лично мне в первую очередь приходит на ум Том Стоппард.
— В области комментариев и аналитики по современной России и ее отношениям с Западом есть множество очень ценных фигур — точнее, они имели бы громадную ценность, если бы к ним прислушивались западные политики. Я бы назвал такие имена, как сэр Родрик Брейтуэйт, Сэмюел Чарап из RAND, Марк Б. Смит из Кембриджского университета (автор книги о Смутном времени), Томас Грэхэм, Марк Галеотти, Роберт Легволд, Александр Рар, Фиона Хилл и Ричард Саква, а если говорить об авторах российского происхождения, то это Андрей Цыганков и Николай Петро.
В сфере же художественной литературы, кино и театра ситуация довольно обескураживающая. Стоппард, которого вы упомянули, действительно исключение, отчасти благодаря его чешским корням. Еще один редкий голос разума в отношении России — поздний Чеслав Милош. К сожалению, очень многие русские авторы-эмигранты сделали бизнес на русофобии (исходя из собственных убеждений, карьеризма или трусости), подыгрывая самым упрощающим и враждебным западным стереотипам о России.
Российские романы и книги, даже если в них идет речь об универсальных современных темах и проблемах, западные критики тоже очень часто встраивают во враждебные стереотипы. Например, фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» с его яростными нападками на современный материализм, индивидуализм и социальную дезинтеграцию на Западе был в целом воспринят как обвинительный вердикт «путинской России».
— В книге о Чечне вы проводите аналогии между Россией 1990-х годов и Италией эпохи Рисорджименто, обращаясь к книге Лампедузы «Леопард». А какие художественные тексты помогают понять сегодняшнюю Россию?
Мое сравнение с поглощением юга Италии севером и с вторжением либерального капитализма под маской «демократии» в ранее закрытое общество касалось некоего воспроизводящегося процесса в истории капитализма, который в последнем десятилетии прошлого века затронул и Россию. Именно поэтому я ссылался и на другие исторические примеры, такие как либеральные Испания, Мексика и Бразилия в XIX веке.
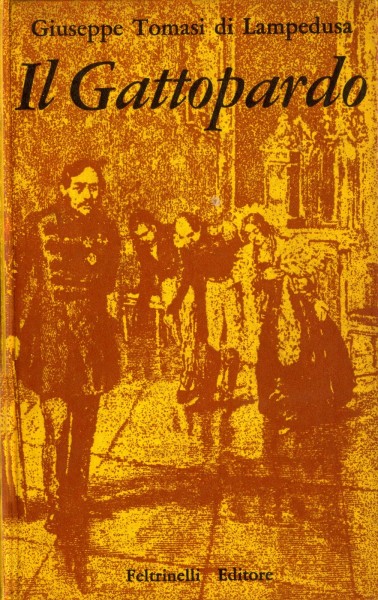 Найти уместные исторические и литературные параллели для сегодняшней России гораздо сложнее. Даже если рассматривать Россию как умеренно коррумпированное, умеренно авторитарное государство со сложным полупериферийным отношением к Западу, она колоссально отличается от других подобных стран. В любом случае, Россия — великая держава, а кроме того по мировым меркам это еще и сравнительно рациональное и неплохо управляемое государство. Так что сравнения с Мексикой или Аргентиной были бы абсурдными.
Найти уместные исторические и литературные параллели для сегодняшней России гораздо сложнее. Даже если рассматривать Россию как умеренно коррумпированное, умеренно авторитарное государство со сложным полупериферийным отношением к Западу, она колоссально отличается от других подобных стран. В любом случае, Россия — великая держава, а кроме того по мировым меркам это еще и сравнительно рациональное и неплохо управляемое государство. Так что сравнения с Мексикой или Аргентиной были бы абсурдными.
В случае с более патриотически ориентированной российской интеллигенцией меня порой поражает ее сходство с той же группой в Иране. И там, и там эти люди глубоко погружены и в национальную, и в западную культуру, но на Западе к ним относятся как к курьезной и подозрительной экзотике (если они не совпадают полностью с западным отношением к своей стране) — как к людям, отчужденным от системы власти, но исключительно гордым за свою страну, возмущенным западным культурным покровительством и попытками США сокрушить их национальные притязания. Тем не менее различия между Россией и Ираном огромны, и я не хотел бы, чтобы аятолла Хаменеи — да станет его борода еще более кустистой — подумал, что я сравниваю его с президентом Путиным.
— А как вы понимаете словосочетание «русская идея»? Действительно ли у России собственный путь, путь уникальной цивилизации, или же, как не раз говорил с иронией покойный Иммануил Валлерстайн, наша страна не отличается принципиально, скажем, от Португалии?
— О русской идее сложно говорить и писать по той же самой причине, что и о евразийстве: приходится продираться через невероятное количество мессианской, опасной и зачастую совершенно безумной ерунды и отбрасывать ее, прежде чем вы доберетесь до каких-то серьезных вещей, которые, конечно же, существуют (вспоминаю, сколько раз, рассказывая о евразийстве западным слушателям, я был вынужден оправдываться и говорить, что не являюсь приверженцем Шамбалы). Если рассматривать русскую идею как некое представление о спасении всего мира, то ее, конечно, надо четко проводить по разряду исторических исследований и/или психиатрии.
В то же время российская общественная, интеллектуальная и политическая культура определенно имеет свои ключевые особенности, которые отличают ее от аналогичных феноменов в Европе, США и Китае. Россия не похожа на Португалию в деталях — разве что в смысле огромного размера бывшей португальской колониальной империи, которая граничила с Азией и имела исконное мусульманское и буддистское население, а также в плане имперского наследия и сохраняющихся имперских реалий.
В общем, ни один элемент того, что мы наблюдаем в России, нельзя рассматривать в качестве чего-то отдельного. Специфическая комбинация рождается в сложении этих элементов: более сильный акцент на порядке и долге перед государством, чем в современной Европе и США, но без жесткого авторитаризма, как в Китае; подлинное принятие культурного, религиозного и этнического разнообразия, но в рамках лояльности государству и ведущей роли русской культуры; умеренный социальный консерватизм без истерических фундаменталистских импульсов, как в отдельных частях США, в Индии и мусульманском мире; откровенность в обсуждении реальных проблем, приятно отличающаяся от гнетущих ограничений западной политкорректности. Если говорить о прошлом, то следовало бы еще добавить социальный и экономический коллективизм, хотя сейчас он как минимум отошел на задний план.
На мой взгляд, все это может и не складываться в уникальную русскую идею, но действительно задает особенный характер России, помогает ей оставаться оплотом стабильности на евразийском континенте и вносить важную лепту в культуру и политику по всему миру. С другой стороны, сюрреалистическая сторона России продолжает прорываться наружу (этот аспект вашей страны увековечен в «Мастере и Маргарите») — для экономистов, бюрократов и государственных деятелей это сущий ад, но, если бы не эти постоянные вспышки яркого цвета, картина была бы довольно унылой.
— Давайте напоследок вернемся к вашим книгам. Было бы здорово, если бы после «Чечни» на русском вышли и ваши работы 1990-х годов о Прибалтике и Украине. Они сейчас требуют каких-то принципиальных корректив с учетом истории прошедших двух с половиной десятилетий?
— Я думаю, что для российских читателей моя книга 1993 года о странах Прибалтики («Балтийские революции: Эстония, Латвия, Литва и путь к независимости») имеет ценность в качестве исторического портрета этих стран, включая их исчезнувшие меньшинства наподобие евреев, поляков и моих собственных немецких предков, а также как свидетельства очевидца происходившего там в годы краха СССР, с 1990-го по 1992-й. Было бы здорово переиздать эту книгу с обзором прошедших тридцати лет после обретения независимости в эпилоге. Что касается моей небольшой книги об Украине, то она приобрела бы большую ценность в 2014 году, спустя пятнадцать лет после ее издания, если бы кто-то из власть предержащих на Западе или в России прочел ее и извлек из нее уроки. Сегодня она читается в большей степени как плач по трагически упущенным возможностям.
— Вы говорили мне о планах написать книгу о современной России. По-прежнему ли они актуальны?
— Пока я отложил этот проект, так как последние два года занимался книгой о климатических изменениях и национальном государстве, а ближайшие три года уйдут на написание книги о национализме и прогрессе в современной истории. К тому же я твердо уверен: чтобы написать что-нибудь стоящее о современной России, надо прожить здесь несколько лет, а у меня такой возможности не было начиная с 1990-х годов. Очередная же книга с рассуждениями живущего за пределами России западного «эксперта» — последнее, что я хотел бы выпустить в свет. Но когда я смогу наконец избавиться от академических обязательств и снова пожить в России, я обязательно напишу новую книгу о вашей стране. Мне было бы крайне интересно сравнить Россию 2025-го или 2030 года (как говорится, если будем живы) с той страной, которую я видел в 1990-х годах.