«Из всего „Generation П“ я запомнил только хомячка по имени Ростропович»
Читательская биография писателя и переводчика Владимира Микушевича
Если я не ошибаюсь, в Институте журналистики и литературного творчества вы читали целый курс, посвященный связи мировой литературы с тайным знанием.
Он назывался «История тайных учений», я читал его несколько лет назад.
Вы в нем местами говорили о довольно неочевидных вещах, вроде связей Сервантеса с какими-то мистическими учениями.
Конечно, а вы разве не знаете, что битва с ветряными мельницами — это суфийский образ?
Только с ваших слов, в литературе о Сервантесе не встречал.
Возьмите книги Идриса Шаха о суфизме, вы там это найдете. Собственно говоря, Дон Кихот — это суфийский учитель мудрости, своеобразный аналог Ходжи Насреддина. Вообще, восточным корням «Дон Кихота» в последнее время стали уделять большое внимание, хотя традиционное литературоведение обычно не занимается такими вопросами. Сервантес познакомился с суфизмом в плену, да и вообще суфийскими идеями была пропитана вся испанская культура того времени.
А у каких еще испанских авторов того времени можно найти суфийские мотивы?
Например, «Жизнь есть сон» Кальдерона.
Мне казалось, что это скорее алхимическое произведение, там в конце что-то вроде трансмутации происходит.
Идея о том, что жизнь и сон тождественны, восточного происхождения.
Я был уверен, что жизнь как сон — общая барочная идея.
А вы думаете, в основе барочных учений нет ничего восточного? Дело в том, что наследие Запада гораздо более ограничено, чем принято считать. Уже в «Эдде» есть пласты, восходящие к общеарийскому прошлому. Название известной оперы Вагнера переводят как «Гибель богов», но вообще Götterdämmerung означает «угасание богов». В индийской традиции угасание — это нирвана, а здесь — трагедия. Но на самом деле основа одна и та же.
А как, на ваш взгляд, сформировалась эта оккультно-мистическая традиция в европейской литературе?
Она сформировалась, в общем, одновременно с самой западной традицией — попробуйте себе представить без нее, скажем, Бальзака или Шелли.
Правильно ли я понимаю: для того, чтобы эту традицию рассматривать и анализировать, мы вынуждены обращаться только к самим текстам?
Да.
А почему не существует заметок самих авторов или каких-нибудь документов, о ней свидетельствующих?
Так ведь понимаете, такое знание рассчитано на то, что о нем не будут говорить другим способом, напрямую. Разве Сервантес сел бы писать трактат по каббале?
Ну, например, есть известный немецкий текст XVII века «Химическая свадьба Христиана Розенкрейца» — это и художественное произведение, и алхимический трактат. Мне кажется, в то время было довольно много людей, которые пытались подобные вещи сформулировать эксплицитно.
Они формулировали то, что находили нужным, но был огромный слой того, о чем они предпочитали молчать.
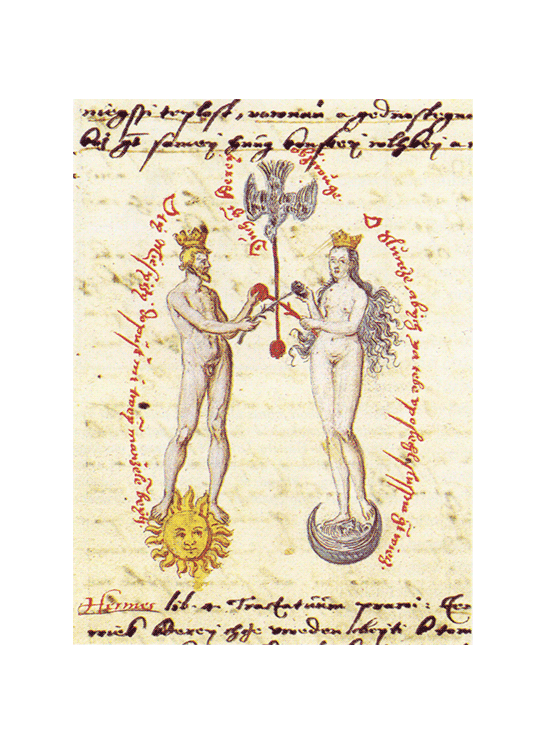
«Химическая свадьба Христиана Розенкрейца в 1459 году»
Фото: public domain
То есть их идеи приходится как-то интуитивно постигать, просто читая художественные произведения?
Понимаете, историю молчания в философии трудно написать, не от чего оттолкнуться, но без этого нет культуры. Вспомните, еще Лао Цзы обвинял Конфуция в том, что он слишком много болтает, а философия — это то, о чем молчат.
А как вы думаете, почему в более отдаленные времена было так много мистических произведений — сочинения Дионисия Ареопагита, трактаты немецких мистиков и так далее, а позднее все это как будто бы схлопывается?
Вы знаете, гуттенберговское книгопечатание этому враждебно, оно искажает многое из того, что передается устно или в рукописях. То, что исчезает рукописная книга, — огромная потеря для культуры. В круг Стефана Георге был некто Эрнст Блекнер, каллиграф, который занимался тем, что переписывал от руки книги и дарил друзьям. Вот последний след той традиции.
Получается, прогресс сыграл тут довольно дурную роль?
Что такое вообще прогресс — не совсем понятно.
Совершенствование техники, науки европейского типа.
Вы знаете, Леви-Стросс говорил, что это очень опасная идея. Мы понимаем под прогрессом исключительно техническое развитие. Индийская философия, например, опережала европейскую, трудно себе представить европейскую философию без индийского влияния. Причем речь идет не только о Шопенгауэре, но и о Гегеле — он, конечно, был слабо знаком с индийскими текстами, но этого хватило, чтобы построить философию самопознающего духа.
Насколько я помню, немецкие переводы индийских философских текстов в начале XIX века были очень несовершенными.
Какие-то переводы существовали, Шлегель написал очень серьезную книгу «О языке и мудрости индусов». Но ведь мы до сих пор многого не понимаем, потому что опять-таки тут огромное место занимает молчание, которое мы не умеем расшифровывать. Ведь вы знаете об индийской теории поэзии, что такое «дхвани» представляете?
Нет.
Это «отзвук», воздействие поэзии, которое не сводится к тем словам, которые в ней употреблены, что-то сверх них. Пример вот такого «дхвани» — описание весны в Гималаях у Калидасы, которое я перевел, кстати. Это фрагмент из поэмы «Кумара-самбхава», «Рождение Кумары», там перечисляются все приметы весны, но индийские поэтологи говорили, что главное воздействие этой поэмы не в том, что тут сказано. И, собственно говоря, этот момент, «дхвани», есть во всяком поэтическом произведении. Само сочетание слов говорит больше, чем эти слова означали бы вне его.
Давайте вернемся к вашей переводческой деятельности. Когда вы уже начали профессионально заниматься переводами, как эта работа была устроена? Это была постоянная занятость?
Нет, постоянной занятости, конечно, не было, и у меня случались довольно необеспеченные периоды: целые зимы я зимовал в нетопленом доме и писал работу «Поэтический мотив и контекст». Но позднее я уже был регулярно занят переводом: когда начала выходить «Библиотека всемирной литературы», я уже не успевал справляться с тем, что мне предлагали.
То есть с тех пор не приходилось жаловаться на отсутствие заказов?
Я все время работал сам, основная форма моей работы — не то, что мне предлагали, а то, что я предлагал издательствам. В этом смысле я отличаюсь даже от Пастернака, который говорил, что ему дают работу. На самом деле это я давал работу издательствам. Так было с Рильке (его никто не собирался печатать), так было с Гельдерлином, которого я перевел, совершенно не рассчитывая на то, что он будет напечатан, потому что это был свободный стих, а тогда свободный стих в принципе не печатали, в этом состояла одна из особенностей советской культуры. И когда стали делать Гельдерлина, Александр Иосифович Дейч меня разыскал, и оказалось, что я единственный, кто перевел поздние гимны Гельдерлина, которые составляют его славу.
Гельдерлин — это большой синий том, вышедший в конце 1960-х? Там ведь были не только ваши переводы?
Да. Но вы знаете, это вообще был такой порядок: мне не полагалось издавать отдельных книг в советское время.
Почему?
Не знаю. Одна из особенностей. Издания «Библиотеки всемирной литературы» всегда разбавляли какими-то другими переводами, может быть просто для того, чтобы дать работу еще кому-то, не знаю, в издательстве была своя стратегия. Отдельная книга у меня вышла только в 1985 году, и то не без приключений, — «Средневековый бестиарий».
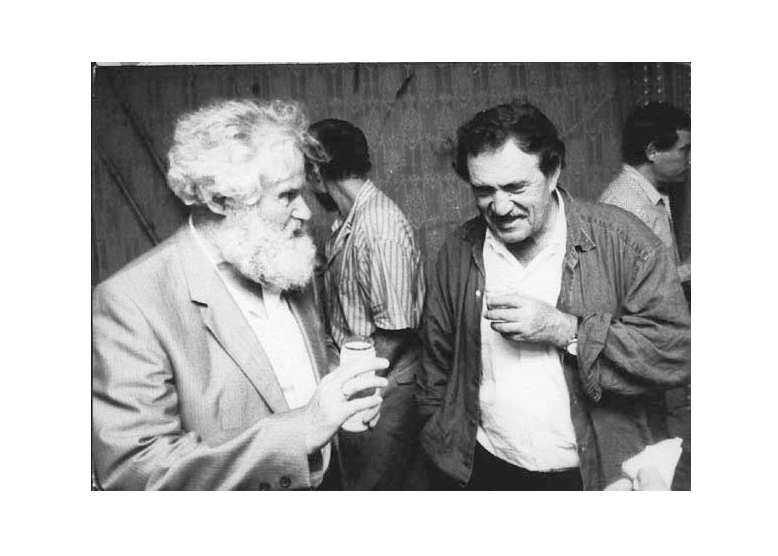
Владимир Микушевич и Василий Аксенов
Фото: liter-net.1gb.ru
Что это за книжка?
Есть такой искусствовед, Ксения Михайловна Муратова, родственница того Муратова, который написал «Образы Италии». Она открыла в Библиотеке имени Салтыкова-Щедрина (кажется, XIII века) рукопись с миниатюрами и стихами разных поэтов к ним: Филиппа Танского, Гийома Нормандского. Я их перевел со старофранцузского, книгу издали, но, правда, примерно треть сократили, и опять-таки из-за религиозной пропаганды. Говорят, главный редактор сказал: «Что мы будем делать, если такими прекрасными стихами будет описываться религия?» Потом у меня вышла отдельная книга переводов Григора Нарекаци, армянского поэта и богослова X века. Я всегда был против перевода с подстрочника — на мой взгляд, это не перевод. Но и мне приходилось таким заниматься, был такой порядок, по-разному оказывали давление на переводчика. И вот я поддался соблазну и перевел эту огромную книгу, которая целиком до сих пор не напечатана, потому что я переводил ее с французского перевода католического священника. Также издательство привлекло Лену Ханларян и Марго Дарбинян-Меликян, которые сделали подстрочник, поэтому считается, что переведено с подстрочника. Конечно, я его учитывал, но в основном опирался на французский перевод отца Саака Кешишяна. Я не могу сказать, что эта книга для меня ничего не значила. Благодаря ей я открыл для себя свободный стих русских духовных стихов, которые писались примерно в то же время. В общем, целиком книгу так и не издали, три главы не включили как слишком религиозные и, кроме того, сняли мои комментарии из-за ссылок на Священное Писание. Говорят, что тогда запрещали ссылаться даже на Веды, не только на Библию. Так что это поневоле было отдельное мое издание, а уже Кретьена де Труа мы готовили для «Литературных памятников» вместе с Надеждой Януарьевной Рыковой, «Клижеса» и «Эрека и Эниду» в «Литературных памятниках». Скоро должен выйти отдельный том моих переводов Кретьена де Труа в «Литературных памятниках», они никак не подготовят это издание. Кстати, перевод «Ивейна» в советское время меня заставили сократить, я сейчас сделал полный перевод.
Как же можно сократить перевод «Ивейна»?
Да, перевод в БВЛ немного сокращен, полиграфические какие-то соображения были, объем тома и так далее. Там такой же сокращенный «Парсифаль» в переводе Льва Гинзбурга, очень далекий от оригинала, кстати, хотя по-своему талантливое произведение. Когда он спросил мое мнение о переводе, я ответил: «Лев Владимирович, у вас получился не „Парсифаль”, а „Операция Грааль”». Сейчас речь идет о том, чтобы я сделал полный перевод «Парсифаля», но знаете, 25 000 строк, я как-то еще не решил, возьмусь ли за это. Вероятно, возьмусь. А еще я сейчас перевожу Стефана Георге, рассчитываю перевести целиком, но тут очень сложная проблема: трудно находить последние его издания, их и в Германии непросто найти. У меня есть большая электронная библиотека немецкой поэзии с полным Георге, и я основываюсь на этом. Оказывается, современные достижения науки и техники могут приносить какую-то пользу.
Может быть, вы немного расскажете и о своих прозаических переводах, вы же прозу тоже довольно много переводили?
Понимаете, прозаические переводы стихов — они ведь рассчитаны на то, что человек будет изучать язык. Простое чтение прозаического перевода стихов мало что дает, потому что исчезает «дхвани». Впрочем, к поэтическим произведениям это относится в еще большей степени. Возьмем, например, проблему перевода «Божественной комедии» Данте. Никакой поэтический перевод поэзии Данте не передает, поэтому если бы я готовил издание «Divina commedia», то написал бы такие комментарии, прочитав которые, человек уже потом перечитывал бы текст в оригинале. Приведу в качестве примера три строки: «Per entro sé l’etterna margarita / ne ricevette, com' acqua recepe / raggio di luce permanendo unita». Это значит: «При входе в себя вечная жемчужина восприняла нас, как вода воспринимает луч света, оставаясь цельной». Так вот, тут все основывается на сочетании смыслов: «per entro» — «etterna», «entro» — вход, «etterna» — вечный, вечное вхождение. Передать это на русском невозможно. Если говорить о моих прозаических переводах, то особенно я бы выделил трилогию немецких романов: «Ночные бдения» Бонавентуры, «Генрих фон Офтердинген» Новалиса и «Эликсиры дьявола» Гофмана. Еще я переводил прозу Рильке, недавно закончил полный перевод «Worpswede», он скоро должен выйти в издательстве Libra. В моем переводе опубликовано «Рискующее сердце» Эрнста Юнгера, на русском языке есть еще «Сердце искателя приключений» — это другая редакция той же книги, одна из них выходила при нацизме. Я считаю, что дал более точный перевод названия «Das abenteuerliche Herz». Немецкое «abenteuer» — это даже не приключение, это авантюра, приключение рыцаря. Я должен был с Юнгером увидеться в Германии, ему тогда уже исполнилось больше ста лет, но мне не хватило денег на поездку. Я был на юге Германии, а он жил на севере. В одном из последних интервью его спросили, что он думает о смерти, и Юнгер ответил: «Знаете, я вообще об этом не думаю, в моем возрасте это так редко случается». Он хотел со мной встретиться, интересовался переводчиками на русский язык. Юнгер ведь был любителем русской литературы. «Бесстыдство страдания» — так он охарактеризовал «Униженных и оскорбленных» Достоевского.
Насколько я понял, ваше чтение в зрелом возрасте было связано с вашей переводческой деятельностью. И у вас не было никакого плана, вы просто двигались по наитию — читали и переводили то, что вам ближе?
Я никогда не стремился прочитать все, но только те книги, которые мне нравятся. Так я читал Шопенгауэра, «Die Welt als Wille und Vorstellung», сейчас перечитываю с большим интересом на немецком. Читал Ницше, и не для того, чтобы стать последователем этих философов, а для того, чтобы насладиться их языком и построениями. Поэтические произведения Ницше я тоже переводил, у меня есть эссе «Ирония Фридриха Ницше», где я говорю, что сверхчеловек — это насмешка Ницше над читателями. Ницше пишет: «Я — великий отрицатель, странно было бы, если бы я стал проповедовать сверхчеловека», — то есть развенчивает эту идею.
Если пойти дальше по хронологии, изменилось ли что-то в вашем творчестве и чтении в конце 1980-х — начале 1990-х?
Знаете, нет. В общем, я обратил тогда внимание на какие-то чисто исторические публикации, но они противоречили друг другу. Мы не совсем ясно себе представляем историю XX века в России до сих пор. Очень интересен вопрос об эзотерике большевизма. Собственно говоря, это было эзотерическое учение, и в этом смысле конфликт между Сталиным и Лениным имел такое происхождение: Ленин был рационалист, а Сталин эзотерик. С другой стороны, Ленина называли махатмой, и я подозреваю, что в определенном смысле на него повлияли какие-то веяния поволжские — может, даже калмыцкие. А Сталина махатмой не назовешь, Сталин был манихеем. По-видимому, его исключили из семинарии за участие в какой-то эзотерической секте — не исключено, что это как-то было связано с Гурджиевым, хотя настоящих доказательств этому нет. Во всяком случае, само по себе наличие мавзолея говорит о какой-то эзотерике. Вы понимаете, с рационалистической точки зрения это невообразимо: я представляю, как смеялся бы Ленин над идеей мавзолея.

Фото: vk.com/club12604596
В общем, до сих пор трудно понять, как это возможно, что в центре Москвы лежит мумия.
Предполагалось, что его оживят. Это была идея Федорова, конечно, и с воскрешения Ленина должно было начаться воскрешение всех мертвых. И подспудно эта идея продолжает присутствовать в культе мавзолея, иначе этот культ был бы необъясним. Защитники мавзолея сами не понимают, почему они так стремятся его сохранить.
В общем, новые времена вам ничего интересного в плане чтения не дали?
Нет, интересного чтения было много, но не художественного. Теперь я вижу, насколько публиковавшиеся тогда материалы противоречили друг другу, и в целом мне очевидно, что это не так интересно, как казалось в то время. По существу, последние десятилетия Советского Союза не так уж интересны.
Изменения в нашей жизни произошли колоссальные, как мне кажется.
Вы знаете, они преувеличиваются, эти изменения, и сейчас я вижу, как постепенно все возвращается на прежние рельсы в ухудшенном виде. В Советском Союзе был один огромный изъян — отношение к религии. Это роковая историческая ошибка Советского Союза. Если бы мы немного изменили отношение к исламу, мы в Афганистане были бы до сих пор. И если бы в России изменили отношение к православию, Советский Союз был бы и теперь еще, хотя, наверное, по-другому бы назывался.
А если говорить о конце XX века, какие-то новые писатели вас заинтересовали тогда?
Нет, я даже не могу никого назвать, хотя, вероятно, кого-то читал. По-моему, я читал Пелевина «Generation „П”» — из всего романа я запомнил только хомячка, увешанного медалями, по имени Ростропович. «Омон Ра» читал, по-моему. Вы знаете, мне кажется, того же «Чапаева и Пустоту» уже всерьез никто не воспринимает.
По-моему, он сейчас читается как такой портрет 1990-х, я несколько лет назад к нему возвращался.
Не знаю, не знаю, это очень быстро уходит в прошлое. Вернее, даже не в прошлое, а в какое-то небытие. В конце концов, я ведь и сам пишу романы — например, «Воскресение в Третьем Риме». Не уверен, что этот роман много людей прочтет. Я пишу прозу в значительной степени для собственного удовольствия.
Есть энтузиасты вашего творчества — Лев Данилкин, например, большой ваш поклонник.
Данилкин — тонкий критик, но он перестал заниматься критикой в последнее время. Критиковать стало нечего. Но лучшее, что написано о «Воскресении в Третьем Риме», написал он.
Последний вопрос пусть будет совсем тривиальным: какие три книги вы взяли бы с собой на необитаемый остров?
Я взял бы Библию, Ветхий и Новый завет с апостольскими посланиями и апокалипсисом, «Gespräche mit Goethe» Эккермана и «Опавшие листья» Розанова. Это мое постоянное чтение.