«Искусство ничего не говорит о жизни, как жизнь ничего не говорит об искусстве»
Самые яркие цитаты из книги композитора Мортона Фелдмана «Привет восьмой улице»
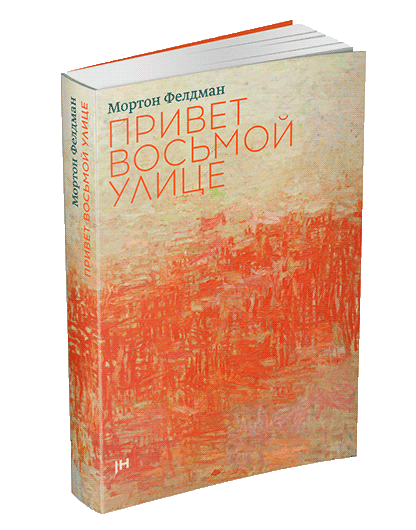 Мортон Фелдман (1926–1987) — выдающийся американский композитор-новатор, участник Нью-Йоркской школы, которая объединила послевоенный американский авангард, друживший с Джоном Кейджем, Джексоном Поллоком, Сэмюэлом Беккетом и многими другими. Внушительное музыкальное наследие Фелдмана по-прежнему востребовано, но кроме того он известен как автор книги «Привет восьмой улице» — сборника эссе, комментариев к собственным сочинениям, коротких рассказов о себе, своем методе и людях, с которыми Фелдману довелось встречаться. В англоязычном мире эта книга давно разошлась на цитаты, а теперь и мы можем поучаствовать.
Мортон Фелдман (1926–1987) — выдающийся американский композитор-новатор, участник Нью-Йоркской школы, которая объединила послевоенный американский авангард, друживший с Джоном Кейджем, Джексоном Поллоком, Сэмюэлом Беккетом и многими другими. Внушительное музыкальное наследие Фелдмана по-прежнему востребовано, но кроме того он известен как автор книги «Привет восьмой улице» — сборника эссе, комментариев к собственным сочинениям, коротких рассказов о себе, своем методе и людях, с которыми Фелдману довелось встречаться. В англоязычном мире эта книга давно разошлась на цитаты, а теперь и мы можем поучаствовать.
О новой живописи
Новая живопись возбудила во мне жажду звукового мира, более непосредственного, более осязаемого, чем всё, что было прежде. Элементы этого встречались у Вареза. Но он был слишком «Варез». Проблески этого ощущались у Веберна. Но его творчество было слишком сковано дисциплиной двенадцатитоновой системы. Новая структура требовала большей сосредоточенности, чем статичная фотография, в которую, как мне кажется, превратилась точная нотация.
О собственном методе
Моим желанием было не «сочинить», но спроецировать звуки на время, освободить их от композиционной риторики, которой здесь было не место. Чтобы не связывать исполнителя (то есть себя) с памятью (отношениями) и поскольку звуки больше не имели внутренней символики, я допустил неопределенность в отношении звуковысотности.
О новациях
К черту новации — это скучный век. Неужели всё, начиная с 1900 года, было таким безвкусным? Неужели всё было написано, чтобы услышать одобрение Дягилева? За исключением Веберна, сочинения, собранные Гюнтером Шуллером, сработаны из одного и того же застенчивого «гуманизма», забальзамированного в ходе вымученных академических экспериментов, свойственных enfants terribles среднего возраста. Выбор произведений, представляющих всё самое эффектное и популярное у каждого композитора — с толикой эксперимента, — кажется, отражает шуллеровские воззрения на музыку в целом, включая чушь о «третьем течении». С Веберном, конечно, другое дело, хотя под сентиментальной палочкой Шуллера даже его музыка оказалась еще одним венским пирожным для буржуа. Но, в конце концов, это была их революция.
О Мессиане
Мессиан, с другой стороны, покрепче. (Не то чтобы у Мийо не было энергичных галльских контрапунктов.) У Мессиана галльский художественный темперамент, и он куда абстрактнее, чем Мийо, — не забывайте, он моложе. Мессиан очарован сложными ритмическими рисунками, позаимствованными на Востоке, и демонстрирует забавную озабоченность птичьим щебетом.
О времени и музыке
Время распутывает сложность. В итоге нам остается одномерность — циферблат часов, а не их внутренний механизм. Время в отношении к звуку похоже на солнечные часы, чья загадочная стрелка совершенно незаметно движется по своему пути. Но если звук по своей природе и есть почти природа, давайте тогда понаблюдаем за нашими солнечными часами в те моменты, когда солнца больше нет, но света достаточно. Парадоксально, но именно в этот момент время менее неуловимо. Все тени ушли, оставив нам видавший виды предмет. Тогда-то время меньше всего замечается как движение и больше всего воспринимается как образ.
О соотношении искусства и музыки
Искусство в отношении к жизни не более чем вывернутая наизнанку перчатка. Вроде бы у нее те же форма и очертания, но ее невозможно использовать в тех же целях. Искусство ничего не говорит о жизни, как жизнь ничего не говорит об искусстве.
Об идеях
И я стал понимать (слишком быстро), что «идеи» мало чего стоят. На самом деле именно «идеями», которые Стравинский обаятельно называл «швами» в своих сочинениях, для меня уже тогда была испорчена бóльшая часть музыки. То, что я начал искать, и то, что вскоре нашел, было едва намеченным контуром процесса, лишь смутно определяемым действием: на нелинованной бумаге пишется свободней.
О Варезе
Сочинения Вареза были (и остаются) чрезвычайно важны для меня. Возможно, потому, что его музыка, в отличие от Веберна или Булеза, не имеет характера замкнутого «объекта». Композиторский инструментарий Вареза, кажется, удовлетворяет лишь тому, что он сам называет «организованным звуком».
 О традиционализме
О традиционализме
Если по-прежнему считать, что музыкальная традиция, идущая от Баха и Бетховена (а это и есть наша музыкальная традиция), обладает неприступной святостью, тогда, конечно, то, что делаю я и несколько моих коллег, никогда не будет принято на наших условиях. Ошибка традиционалиста заключается в том, что он берет из истории лишь то, что ему нужно, не понимая, что Бёрд без католицизма, Бах без протестантизма, а Бетховен без наполеоновского идеала были бы второстепенными фигурами.
О Штокхаузене
Штокхаузен, проницательный наблюдатель времен, вообще хочет создать «беспристрастное» искусство, которое охватит все техники разом. Однако на деле у него получается эклектизм, достойный Гаргантюа, фактически устраняющий необходимость в оригинальности. От блестящих фрагментов литературных реминисценций прошлого до эсхатологических пространств Ла Монте Янга — парень использует всё! Этим ослепительным блеском ярмарочного аттракциона, этим tour de force Штокхаузен и привлекает молодые умы. Штокхаузен верит в Гегеля, я верю в Бога. Проще некуда.
О несопротивлении
И всё же художник не сопротивляется. Он отождествляет себя с той силой, что способна лишь уничтожить его. На самом деле эта сила неодолимо влечет его, предлагая определенные цели, иллюзию безопасности творчества, искусительное знание о том, что в искусстве вообще не может быть успеха — как не может быть чьего-либо еще успеха. Одним словом, облегчает беспокойство искусства.
О различии в исторической позиции
Различия в исторической позиции тем не менее всегда были не так уж важны для меня. Булез, например, чрезвычайно увлечен тем, как его музыка сконструирована, тогда как Дюшан предпочитает реди-мейд. Но оба сходятся в том, что слышимое или видимое не столь важны, как историческая ситуация, вызвавшая их к жизни.
О звуке и истории
Нас попросту не интересовал исторический процесс. Нас интересовал звук сам по себе. Звук не знает своей истории. Революция, которую мы устроили, не была оценена. Но ведь и Американскую революцию, по существу, так и не оценили. Ей никогда не придавали такого значения, как французской или русской. Да и с чего бы? У нас не было кровавой бани и неотъемлемого террора. Мы не празднуем акт насилия — у нас нет дня взятия Бастилии. Было лишь требование — «дайте мне свободу или смерть». Наше творчество лишено авторитаризма, или, я бы даже сказал, тоталитаризма, присущих учению Булеза, Шёнберга и теперь Штокхаузена.
О подражателях
Этот авторитаризм, это давление необходимы произведению искусства. Вот почему подлинную традицию Америки двадцатого века, традицию, идущую от эмпиризма Айвза, Вареза и Кейджа, обходят вниманием, называя «иконоборческой» — иными словами, непрофессиональной. В музыке, когда ты делаешь нечто новое, нечто оригинальное, — ты любитель. Твои подражатели — вот они профессионалы.
О публичности музыки
 Проблема музыки, разумеется, в том, что по своей природе это публичное искусство. Чтобы мы ее услышали, ее нужно исполнить. Ударишь в барабан — услышишь звук. Это вполне резонно. Нельзя представить звук как абстракцию, вне связи с тем, кто стучит по клавишам фортепиано или бьет в барабан. Исполнение — вот в чем штука. Это и есть реальность музыки. И всё же есть что-то унизительное в том, что для музыки существует лишь публичное измерение. У композитора нет даже права на частную жизнь его произведения, как у драматурга, чья пьеса может существовать как литературное сочинение. Композитор обязан быть также и актером. Когда мне не по душе его игра, это раздражает. Строки шедевра могут быть великими, великолепными, совершенно бесспорными, но мне может не понравиться, как композитор произносит свои собственные строки
Проблема музыки, разумеется, в том, что по своей природе это публичное искусство. Чтобы мы ее услышали, ее нужно исполнить. Ударишь в барабан — услышишь звук. Это вполне резонно. Нельзя представить звук как абстракцию, вне связи с тем, кто стучит по клавишам фортепиано или бьет в барабан. Исполнение — вот в чем штука. Это и есть реальность музыки. И всё же есть что-то унизительное в том, что для музыки существует лишь публичное измерение. У композитора нет даже права на частную жизнь его произведения, как у драматурга, чья пьеса может существовать как литературное сочинение. Композитор обязан быть также и актером. Когда мне не по душе его игра, это раздражает. Строки шедевра могут быть великими, великолепными, совершенно бесспорными, но мне может не понравиться, как композитор произносит свои собственные строки
О свободе
Однажды мне рассказали об одной даме из Парижа — родственнице Скрябина, — которая всю жизнь сочиняла музыку, не предназначенную для слушания. Что это и как она это делала, не очень ясно; но я всегда завидовал этой женщине. Я завидовал ее безумию и непрактичности.
Об уничтожении слышимости
Меня заботит то состояние в музыке, где слуховое измерение уничтожено. Что я имею в виду? Уничтожение «слышимости» не значит, что музыка должна быть неслышимой — хоть может показаться, что моя музыка иногда именно это и предполагает. Взять хотя бы Фантазию фа-минор Шуберта. Вес мелодии здесь таков, что нельзя точно сказать, где она находится и откуда она взялась. Вообще музыка не так часто дает нам подобное переживание. Идеальный пример того, что я имею в виду, — автопортрет Рембрандта из коллекции Фрика. Непостижимо не только, как эта картина сделана, — невозможно даже уяснить, где она существует по отношению к нашему зрению. Музыка не живопись, но может у нее научиться большей восприимчивости, в силу которой она пристально вглядывается в тайну своего материала, тогда как композиторы слишком озабочены своим ремеслом. И поскольку у музыки никогда не было Рембрандта, мы так и остались всего лишь музыкантами.
Художник достигает мастерства, позволив тому, что он делает, быть самим собой. В известном смысле для того, чтобы контролировать, он должен уйти в сторону. Композитор еще только учится делать это. Он только начинает учиться тому, что контроль можно рассматривать как всего-навсего сложившуюся практику.
О звуках и шуме
Звук — это наши сны о музыке. Шум — сны музыки о нас. Те моменты, когда контроль потерян, и звук, подобно кристаллу, формирует собственные грани, и вдруг, в одно мгновение, не остается ни звука, ни тона, ни чувства, ничего, кроме важности нашего первого вздоха, — такова музыка Вареза. Он один дал нам это изящество, эту телесную реальность, это впечатление, что музыка сама пишет о человеке, а не сочиняется им.
О Булезе и Кейдже
На сегодняшнем «холодном» языке музыка воспевает лишь собственную конструкцию. Интересно не то, что такие люди, как Булез и Кейдж, представляют собой противоположные полюса современной методологии. Интересно их сходство. В музыке обоих вещи таковы, какие они есть, — не больше и не меньше. В музыке обоих слышимое неотличимо от процесса. Можно сказать, процесс сам по себе — это Zeitgeist нашей эпохи. Дуализм точных средств, порождающих неопределенные эмоции, теперь ассоциируется только с прошлым.
О кино и книгах
Кино? Я не думаю, что оно сильно повлияло на мою художественную карьеру. Но, разумеется, кое-что можно вспомнить. Конечно, я ходил в кино и долго-долго помнил музыкальные темы из фильмов. Как насчет темы Макса Штайнера из «Осведомителя»? [Напевает скорбным высоким баритоном тему из фильма 1935 года] А Эрих Корнгольд? Его тема из «Верной нимфы»? [Вновь напевает музыку из фильма 1943 года] Я только и делал, что читал. Всегда. Сейчас я одновременно читаю пять книг.
О художниках
Художники научили меня многому, они научили меня устойчивости. Устойчивости к давлению, каким бы оно ни было, к давлению, вынуждающему заискивать перед публикой или исполнителями.
О Гейне
Как-то рано утром в Париже я прогуливался по улочке на Левом берегу, там, где сейчас, как и больше века тому назад, находится мастерская Делакруа. Я читал его дневники, где он говорит о Шопене, который собирается на прогулку, о Гейне, беженце из Германии, который к нему заглядывал. Ничего не изменилось на этой улице. И я видел Гейне на углу, он шел мне навстречу и почти дошел. Я его очень хорошо чувствовал — знаете ли, еврейский изгнанник. Я видел его. Потом я вернулся к себе и написал пьесу «Я встретил Гейне на рю Фюрстенберг» («I Met Heine on the Rue Fürstenberg»). Они не умерли. Они со мной.
Об абстрактном искусстве
Одна из проблем абстрактного искусства — в том, что доступные решения куда более детерминированы, чем можно себе представить, — та или иная система работает как радар. Стравинский пришел к этому выводу как раз вовремя и смог написать два произведения из числа, как он считал, самых важных, в которых сериальный подход оказался подчинен его слуху и, следовательно, использовался как инструмент, а не как средство.