«Иду окольным путем к главному»: как читать рассказы Георгия Семенова
Роман Сенчин — о прозаике-лирике 1960–1980-х годов
О писателе Георгии Семенове вспоминают нечасто. В основном как о друге Юрия Казакова, с которым они были очень близки и в жизни, и как художники. Посмертная судьба Казакова завидней семеновской — изредка, но выходят томики переизданий, о нем пишут литературоведы, его рассказы читают, в конце 1990-х был снят так называемый байопик «Послушай, не идет ли дождь...» с Алексеем Петренко и Ириной Купченко в главных ролях.
Да, жизнь Юрия Казакова притягательней для исследователей, Георгий Семенов же прожил на первый взгляд спокойно, без мук и срывов. Написал много, издавался обильно, умер не «преждевременно», хотя и совсем не старым — в 61 год. В который раз приходится задуматься о том, как несчастливая или по крайней мере сложная прижизненная судьба идет на пользу творческому наследию. И наоборот.
Здесь уместно привести слова из очерка писателя Анатолия Курчаткина о Казакове и Семенове «Поцелованные Богом»:
«Поцелуй, которым отметил Господь Георгия Семенова, был любящ и крепок, но без огня, клеймящего художника чудовищной печатью на весь срок его жизни. Поэтому и жить рядом с ним, дружить было одно удовольствие. Он был очень земным человеком. Любил всякие разнообразные человеческие радости, умел наслаждаться ими, умел наслаждаться вообще жизнью. Будь то охота, рыбная ловля, вождение автомобиля, даже и обычные бытовые хлопоты».
...Как и герой моего предыдущего очерка, Глеб Горышин, Семенов родился в большом городе, и бо́льшую часть жизни пытался убежать от мегаполиса, людской толчеи. Ленинградец Горышин после окончания института уехал на Алтай, москвич Семенов — юный лепщик-модельщик (а с Горышиным они одногодки, оба 1931 года рождения) — в Иркутскую область на строительство города Ангарска.
Уже на закате жизни он вспоминал о годах, проведенных в Сибири, держал в памяти истории, которые собирался преобразить в прозу:
«Рассказы написать можно: как жгли сусликов; как били женщину за украденную лопату; как издевались над Колей Цветковым. Как ловили моего героя, давая ему на лапу, и как он устоял.
И конечно, об Ангаре, набитой мальками, о той, которую даже Валя Распутин уже не видел — мальчишкой он приехал в Иркутск в 56 году, а я там был в 50-м».
В 1960-м Семенов окончил Литературный институт, первые рассказы опубликовал в следующем году в журнале «Знамя» и сразу приобрел репутацию прозаика-лирика, которая, в общем-то, сохраняется среди историков литературы и поныне. И в этом плане его можно назвать учеником, или, лучше, последователем Юрия Казакова, который, правда, до того как найти свою тему, пробовал писать и о производстве, и в сатирическом жанре, и об ужасах капитализма в США, где никогда не был...
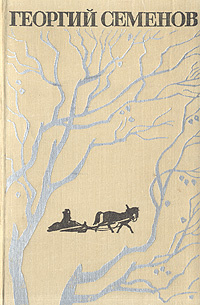 В первой же книге Георгия Семенова, вышедшей в 1964 году в издательстве «Молодая гвардия», есть рассказ «Сорок четыре ночи» (давший название всему сборнику), где действие происходит в Москве. В нем много воспоминаний о военном времени, когда семья героев рассказа (как и самого автора) была эвакуирована на Урал, об умершей при родах матери, о возвращении в Москву, которая только-только вновь становилась городом, а не крепостью. Это рассказ о трех мужчинах — старом отце и двух братьях. На дворе начало 1960-х, война вроде бы далеко, но не помнить о ней герои не могут. Ведь там осталась их жена, мама...
В первой же книге Георгия Семенова, вышедшей в 1964 году в издательстве «Молодая гвардия», есть рассказ «Сорок четыре ночи» (давший название всему сборнику), где действие происходит в Москве. В нем много воспоминаний о военном времени, когда семья героев рассказа (как и самого автора) была эвакуирована на Урал, об умершей при родах матери, о возвращении в Москву, которая только-только вновь становилась городом, а не крепостью. Это рассказ о трех мужчинах — старом отце и двух братьях. На дворе начало 1960-х, война вроде бы далеко, но не помнить о ней герои не могут. Ведь там осталась их жена, мама...
В этом рассказе автор использует прием (прошу извинить за термин), который будет часто виртуозно применять дальше, — резкий переход от настоящего к воспоминанию, которое перетекает в другое воспоминание, уводя мысли героя далеко-далеко от сюжета, а на самом деле обогащая сюжет, напитывая новыми мыслями, красками, настроениями. Некоторые критики того времени не принимали таких вольностей в прозе, упрекали автора в «расплывчатости повествования», а то и попросту в «бессюжетности».
Но, по-моему, в этом и заключается соль настоящей прозы: сюжет может быть ничтожным, его, по сути, может и не быть вовсе. Так, ситуация, рядовой случай, которые благодаря писателю становятся произведением литературы. Сам Георгий Семенов в одном из интервью объяснил свой метод:
«...Надо идти около явлений, потому что прямой путь — казалось бы, самый близкий — в творчестве, наоборот, самый далекий и непродуктивный. Я говорю как будто ни о чем, а на самом деле — о самом главном. Иду окольным путем к главному».
Точнее всего это получалось у него в рассказах и повестях от первого лица.
Вообще, как мне кажется, Юрий Казаков, Глеб Горышин, Георгий Семенов по-настоящему утвердили «я» в русской прозе. В XIX веке повествование от первого лица, конечно, использовалось. Но оно почти никогда не ассоциировалось с автором. Вспомним, что, например, «Бесы» Достоевского или «Подросток» написаны от первого лица. Но вряд ли кто-то и при жизни Достоевского соединял повествователя и автора. Это совершенно разные люди, повествователь — один из персонажей.
Пожалуй, первым (не считая протопопа Аввакума, но это другая эпоха, другая литература) пошел на умышленное соединение повествователя с автором Тургенев в «Записках охотника». Недаром Некрасов с Панаевым, выпускавшие журнал «Современник», не смогли определиться с жанром «Записок...» и поместили их в «Смесь». Но ведь это рассказы, почти незамутненная беллетристикой проза. А «я» как автор, повествователь и нередко главный герой, хотя и больше наблюдающий, чем действующий — вернейший путь к тому, чтобы читатель поверил в достоверность написанного.
Критики отзывались о рассказах Георгия Семенова 1960–1970-х нечасто. В основном упоминали через запятую с другими мастерами рассказа. Ну а что было писать? Хоть и несколько иначе, «на другой ноте», но он работал в том же ключе, что и Юрий Казаков. И шишки, и похвалы достались Казакову в конце 1950-х.
Есть и сегодня писатели такого же, не скажу уровня, а склада, и о них молчат, их не замечают. Пишущим о книгах (на публикации в толстых журналах отзываться практически перестали) нужен конфликт, проблема, экшен, бьющее фонтаном воображение, эпатаж, игра ума, стилистические изыски и интеллектуальные головоломки. Здесь критику или обозревателю есть где разгуляться. Впрочем, и разгуливаться хотят все реже — в ходу нынче аннотации, а не рецензии и статьи.
Да, писать о рассказах, подобных тем, что писал Семенов, непросто. Пересказывать — получается какая-то мелочь, чуть ли не байка. Такую прозу нужно читать. Наслаждаться языком, постепенно узнавать героя и тех людей, с которыми свели его обстоятельства. И обязательно начнешь сочувствовать, ощущать их живыми...
 Попытаюсь показать это на одном из своих любимых семеновских рассказов — «Объездчик Ещев». Без пересказа не обойтись, без обширных цитат — тоже.
Попытаюсь показать это на одном из своих любимых семеновских рассказов — «Объездчик Ещев». Без пересказа не обойтись, без обширных цитат — тоже.
Точную дату первой публикации рассказа мне установить не удалось. Читал я его в сборнике «Утренние слезы» 1982 года. Судя по возрасту героя — это немолодой человек, — написан рассказ примерно тогда же.
Итак, герой рассказа на охоте. Прибыл на поезде. Ждет на перекрестке лесных заброшенных дорог, когда полетят вальдшнепы.
«Звон стоит в ушах от тишины. Хотя и бормочет в овраге ручей, а в березах трещат и квохчут обезумевшие дрозды. Какая уж тут, казалось бы, тишина!
Но — тишина потрясающая.
Чудится мне, будто бы только что я бежал, торопился, стоял в очередях, ехал вниз-вверх на лифте, на эскалаторах метро, несся в железных полуавтоматических устройствах с программным управлением, в длинных поездах под землей и на земле, в грохоте и скрежете металла забывая самого себя, и уши мои, привыкшие с детства к этому реву, визгу, гулу большого города, к железно-каменному его дыханию, заложило теперь первозданной тишиной.
Я убежал! В панике бежал всю свою долгую жизнь от преследующей меня грохотни и улюлюканья, и наконец-то мне очень повезло, как везет иногда гонному зверю, ушедшему от смертельно опасных собак, сколовшихся со следа».
И тут «выламывается из зарослей на поляну всадник». Сначала он настроен к герою враждебно, почти наезжает на него лошадью.
«— Я, — говорит мужик, тыча себя пальцем в грудь, — объездчик. А фамилия у меня Ещев. Фамилия такая — Ещев, — добавляет он, произнося по складам: — Ее-щев... Понятно?»
Продемонстрировав свою власть, объездчик становится миролюбивей. Тем более что герой (имени его мы так и не узнаем) заворожен лошадью. Не то чтобы лошадь особенная, просто он давно их не видел. И когда объездчик уезжает, на героя накатывают воспоминания.
Вспоминается деревня под Звенигородом, где их семья еще до войны снимала дачу. Мама, приезжающая на выходные, а потом и в отпуск отец, младший брат... «В той деревне, которая и сейчас стоит на московской земле, я впервые в жизни узнал три важные вещи, три, так сказать, явления природы: увидел, как растут ландыши; узнал, что такое рогатка, с которой не расставался хозяйский сын Колька; перестал бояться и полюбил живую лошадь».
Знакомство с лошадью произошло благодаря вот каким обстоятельствам:
«Химическая промышленность не выпускала в те времена силиконовых лесок, и ни у кого даже в мыслях не было заполучить что-нибудь подобное, что-нибудь эдакое, хоть отдаленно похожее на прозрачную, тонкую и прочную жилку. <...>
Рыбу ловили на конский волос, плетя из него леску и связывая концы рыбацким узлом. Лески эти отличались прочностью, были пружинисты и эластичны в воде. Узлы, конечно, мешали, но с этим мирились, считая само собою разумеющимся и неизбежным злом, избавиться от которого невозможно.
<...> Мой отец, с детства зараженный рыбацкой страстью, перешедшей к нему от моего деда, не мог равнодушно смотреть на проходившую мимо лошадь. Стояла ли та в упряжке, паслась ли спутанная на лугу, тащила ли с дровяного склада тяжелый воз березовых бревен, отец, улучив момент, подходил сбоку к лошадиному крупу с задумчивым каким-то выражением на лице, с деловой серьезностью отбирал в хвосте несколько волос на пробу и, накрутив их на палец, резко, наотмашь дергал.
Ругались, кричали, обзывали последними словами извозчики, грозились вожжами, но отец отходил в сторону и, отделываясь тоже возмущенным: „Ну что тебе, жалко, что ль!“ — пробовал волос на прочность, оставаясь, как правило, недовольным и бросая жиденькую прядку на землю.
Черные или короткие хвосты его вообще не интересовали. Если же он видел длинный светлый хвост, который носили лошади соловой, например, масти, остановить его было трудно».
Мерин по кличке Соловей подходящей масти как раз обитал в той деревне. И отец героя решил нарвать у него из хвоста волос на леску, из-за чего чуть не случилась драка с конюхом.
«На всю свою жизнь запомнил я этого Соловья. Я боялся подходить к нему и всегда узнавал среди других лошадей. Но однажды он шел по деревне, и на этот раз ноги его не были спутаны. Шел, как будто прогуливался от нечего делать, медленно постукивая по тропинке подковами, останавливался, чесался скулой об какой-нибудь деревянный кол чьей-нибудь ограды, поглядывая по сторонам, как бы разыскивая кого-то, и, когда подошел к нашему дому, красивый и большой, с разметанной по шее мочалистой гривой, я обомлел от удивления и мистического какого-то страха, встретившись с ним взглядом. Соловей тоже, по-моему, удивился и, остановившись, стал смотреть на меня. <...>
— Здравствуй, Соловейчик, — сказал я ему, протягивая руку, но не доставая. — Какой ты хороший, как я тебя люблю. Ты очень хороший! И хвостик у тебя хороший. Он у тебя прошел? Не болит? — спрашивал я у мерина, точно во сне, не узнавая своего голоса и своей умиленности. — Не болит, наверное... Противный папка, надергал волос из хвостика Соловья. Ух, какой противный! Но ты на него не сердись, Соловейчик! Он хороший тоже. Только ему надо рыбу ловить. А у тебя волосы в хвосте очень хорошие. Он на них рыбу ловит... Много-много.
Соловей перестал кивать, задумчиво посмотрел на меня, отвернулся и, ничего не сказав, пошел дальше. Меня больше всего удивило, что он ничего мне не сказал: взял и пошел, как будто я ему ничего не говорил. Пошел так же медленно и лениво, как бы вразвалочку, и звуки его шагов напоминали громкое тиканье больших ходиков. У него, видимо, одна подкова болталась, и она-то издавала это ритмичное и выпадающее из глухого перестука металлическое причмокивание. Тики, а после — таки — замирал стук его шагающих ног: тики-таки...»
Через некоторое время герою представляется возможность прокатиться на лошади. Вернее — доехать на жеребце Бурке с покоса до конюшни. Поездка кончается падением, но мальчик все равно счастлив. К тому же конюх оказывается вполне добрым дядькой.
Через год началась война, герой оказывается на Урале, дружит с лошадкой Барыней. Потом возвращение в Москву, другая, совсем городская, жизнь...
Герой просится на ночевку в дом, где живет как раз объездчик Ещев. А утром просит:
«— Слушай! — говорю я ему вдруг с придыханием. И кровь ударяет в голову. — Слушай, дай-ка мне на твоей Солове прокатиться! Очень прошу тебя. Сколько ездил на лошадях, а в седле ни разу в жизни не сидел. Дай!
Ещев от неожиданности смеется и кашляет, жмется в каком-то смущении.
— Очень ты тяжеловат будешь для Соловки, — говорит он. — Она к такой тяжести не привыкла, а к тому ж, будем так говорить, устала она. Я с ней, знаешь, сколько сегодня отмахал!
— Да я ж совсем чуть-чуть, — умоляющим голосом говорю я Ещеву. — Вон хотя бы у тебя на огороде, хотя бы кружочек один. Дай, пожалуйста!»
Объездчик соглашается; герой делает два круга по огороду и испытывает счастье.
Такой вот вроде бы незамысловатый рассказ. Но очень трогательный, со сложной конструкцией, сплетением воспоминаний. Мы ведь вспоминаем не линейно, а перескакивая с одного на другое, в мыслях совершая молниеносные перемещения во времени. Георгий Семенов умел писать это мастерски.
Есть в рассказе эпизод, который сейчас, когда я перечитывал «Объездчика Ещева», показался мне трагикомичным и удивительно актуальным. Вот Ещев рассуждает о соседях, купивших недавно «Жигули»:
«Что ж получается? Зимой не ездит, весной не ездит, летом за травой для коровы, а осенью, как дожди зарядили, опять в гараж. Была бы асфальтовая шоссе, тогда другое дело. А так что же получается? Ничего не получается у сельского труженика, как теперь про нас говорят. Раньше мы крестьяне были, потом колхозники, а теперь сельские труженики, или, как это еще, — труженики полей. Ты нас хоть как назови, а если дороги нет, то „Жигули“ нам совсем нельзя иметь. Я бы так и спрашивал: „Дорога есть асфальтовая? Есть — покупай, бери. Нет — подожди“. А как же? Все ж таки вещь дорогая и государству кое-чего стоит, верно? Во-о... Я шучу, конечно. Но все ж таки, будем так говорить, несправедливо это.
Шутит он или не шутит, а дороги-то и в самом деле нет. И главное — никому не известно, когда она будет».
Год или два назад, во время очередной прямой линии с президентом, кто-то пожаловался, что автомобиль у них в семье есть, а ездить не могут — нет дороги. И президент, помнится, тогда пошутил: «А зачем вам тогда автомобиль?» Этакий постмодерн самой жизни, что ли...
В творческом наследии Георгия Семенова не только рассказы и небольшие повести. Он писал произведения крупной формы, действие которых происходит чаще всего в его родной Москве.
 Советую прочесть повесть «Уличные фонари» (1975) о том, как легко совершить ошибку, которая сломает судьбу, разъединит любящих людей; роман «Городской пейзаж» (1983), в котором очень колоритно показаны типажи того периода, что был назван «развитым социализмом», а оказался его закатом; роман (или большая повесть) «Ум лисицы» (1986) — о трагической судьбе молодой женщины, которая исповедовала личную свободу и независимость. Печальна и лирична последняя повесть «Путешествие души», вышедшая уже после смерти Георгия Семенова, в 1993 году.
Советую прочесть повесть «Уличные фонари» (1975) о том, как легко совершить ошибку, которая сломает судьбу, разъединит любящих людей; роман «Городской пейзаж» (1983), в котором очень колоритно показаны типажи того периода, что был назван «развитым социализмом», а оказался его закатом; роман (или большая повесть) «Ум лисицы» (1986) — о трагической судьбе молодой женщины, которая исповедовала личную свободу и независимость. Печальна и лирична последняя повесть «Путешествие души», вышедшая уже после смерти Георгия Семенова, в 1993 году.
Переизданий его прозы я не нашел. Судя по всему, последняя книга — «Прохладные тени» 2013 года, в которую вдова писателя Елена Владимировна собрала неопубликованные ранее рассказы и «записки разных лет». Есть среди них и такая:
«Великие писатели обладают удивительной судьбой: они словно бы никогда не рождались и никогда не умирали — они прошли по времени и пространству, оставив людям свое мироощущение, с которым люди живущие, рождающиеся и умирающие могут соотносить свои мысли и поступки, соображать, как им жить и как умирать».
Но закончить хочу горькими словами из очерка Анатолия Курчаткина, с которыми солидарен:
«...Выпадение из духовной жизни общества таких явлений, какими были Юрий Казаков, Георгий Семенов, — это то же самое, как отказ от цивилизационных достижений ХХ века: телефона, самолета, радио, телевизора... Разве что в случае утраты этих достижений мы тотчас почувствуем, насколько изменится наша жизнь, потери же культурные не так явственны, вернее, даже так: их не замечаешь. Как свойственно человеку не замечать внутренних болезней, пока они не дадут себя знать наружными проявлениями. Можно сказать, цивилизационные утраты — утраты внешнего, культурные — внутреннего. Так, по утверждениям ученых, СПИД не дает себя знать до того, как организм не начнет реагировать на пустячную простуду тяжелейшими пневмониями».