«Хорошая книга — это терапия»
Читательская биография писательницы Гузели Яхиной
14 апреля пройдет очередной Тотальный диктант. В этом году текст для него написала лауреат премий «Большая книга» и «Ясная Поляна» Гузель Яхина. Диктовать будут фрагмент из нового романа писательницы «Дети мои», который выйдет в мае 2018 года. «Горький» поговорил с Яхиной о ее читательской биографии. Гузель Яхина выступит на Иркутском Международном Международном Книжном Фестивале (18-20 мая) который организуют фонд «Вольное Дело» и Межрегиональная Федерация Чтения.
«Книжный шкаф вызывал у меня трепет»
Бабушка с маминой стороны, Раиса Шакировна, была педагогом и очень рано научила меня читать, писать и считать. Она работала учителем русского языка в начальных классах татарской школы – учила русскому языку детей, которые до прихода в первый класс русским не владели вовсе — и была прекрасным дидактиком. Я же родилась в тот год, когда бабушка вышла на пенсию, поэтому весь свой огромный педагогический пыл она направила на меня. Я даже школу закончила на год раньше — перескочила через второй класс, просто потому что бабушка уже прошла со мной еще до поступления почти весь материал начальной школы. Кстати, это та самая бабушка, судьба которой вдохновила меня написать первый роман.
Во всех домах, где я бывала в детстве, было очень много книг, поэтому я росла совершенно книжным ребенком. В доме бабушки и дедушки с маминой стороны стоял огромный шкаф, битком набитый всем, что только можно вообразить: начиная от журналов по искусству и заканчивая кулинарными книгами. Можно было подойти и достать необходимое по настроению: новеллы О’Генри, или исторический роман Нурихана Фаттаха «Итиль-река течет» на татарском, или собрание карикатур Херлуфа Бидструпа.
Дома у родителей книжный стеллаж полностью занимал стену единственной в квартире жилой комнаты. Мама с папой все время боролись. Мама расставляла многочисленные книги так, чтобы было красиво: самые красивые подписные издания — на самые видные места, а томики поскромнее — под потолок или к самому полу. Папа хотел, чтобы было правильно, по алфавиту. Вокруг книг шла настоящая борьба.
В третьем доме, у бабушки и дедушки с папиной стороны, также хранилась очень серьезная библиотека. Это были старые книги, заслуженные, большие собрания сочинений издания 1950-х годов: весь Жюль Верн, весь Марк Твен, Дюма, Майн Рид, Пушкин, Лермонтов… И весь Ленин, а еще Маркс и Энгельс. Перед этим шкафом я по-настоящему трепетала: почему-то казалось, что когда я вырасту, то должна буду прочитать все, что в нем есть, — и становилось страшно при мысли, что все эти толстые тома придется одолевать. К этому шкафу я относилась с особой осторожностью и почтительностью.
«Родители волновались, что я читаю слишком много сказок»
Читала я много и совершенно без разбору. Может быть, это и неплохо — никто не разрабатывал программу моего образования через книги. Я просто подходила к книжному шкафу и брала все, что мне нравилось: будь то «Золотой осел» Апулея, или Набоков, или Ницше, или Фрейд, или стихи Берггольц, или подписка «Искателя», или «Теория игр», или какие-то детективы-однодневки… Я сама решала, что читать и когда, часто прилипала к книжкам надолго. В среднем и старшем школьном возрасте это были «Граф Монте-Кристо» и «Три мушкетера», Ильф и Петров, Эдгар Аллан По. А еще «Письма незнакомки» Андре Моруа. Эти книги становились любимыми на несколько лет, и я могла перечитывать их бесконечно.
Мои родители волновались, что я читаю слишком много сказок. Они считали, что я уже достаточно взрослая, чтобы читать серьезные книги, а сказки — дело несерьезное. Поэтому сказки у меня отнимались и прятались куда-нибудь подальше, в платяной шкаф или на холодильник, но я находила и читала снова. Новеллы О’Генри сделали года два моей жизни — эту книгу читала бессчетное количество раз. Как в свое время и «Чучело» Железникова. И «Мифы и легенды Древней Греции» Куна. А в старших классах серьезно заболела кинематографом и переключилась на книги о кино.
«В нашей семье никто не занимался кино и литературой»
Мое увлечение кино началось со знакомства с одним хорошим человеком, который бредил кинематографом. Пообщавшись с ним, я скоро поняла, что тоже «заразилась» — стала читать о кино все, что можно было найти в то время в районной и городской библиотеках: воспоминания о Тарковском, биографии советских кинозвезд, «Работу актера над собой» Станиславского, статьи Эйзенштейна об искусстве монтажа, журнал «Советский экран». Начала выискивать сценарии — их печатал журнал «Искусство кино». Смотреть больше фильмов — в девяностые годы классику показывали по ночам, и приходилось засиживаться до двух-трех после полуночи, чтобы посмотреть «Дорогу» Феллини или «Седьмую печать» Бергмана.
В 1993 году, когда я закончила школу, мои родители пришли в ужас от моего желания уехать из Казани и учиться непонятно чему: в нашей семье никто не занимался кино и литературой. Моя мама — врач, многие родственники тоже, а папа — инженер. Тогда, в начале 1990-х, изучать кинематограф казалось совершенно пустой фантазией: это было очень непростое время и всем было не до кино. Поэтому в ходе долгих семейных обсуждений было решено, что все-таки я, старший ребенок, пойду учиться по стопам дедушки — иностранным языкам. Так я окончила факультет иностранных языков, а потом начала работать в сфере маркетинга — и оставила на какое-то время мечту о кинематографе. Но она никуда не делась.
«Вне России Шукшина чувствуешь по-особому»
Я с теплом вспоминаю учебу в Казанском педагогическом — это было весело и в удовольствие. Но в первую очередь это была сильная языковая школа, поэтому во время учебы я по большей части читала учебники немецкого и немецкие книги. За некоторыми шла настоящая охота: в начале девяностых «урвать» в магазине или где-нибудь на книжной барахолке (на «Крупе» в Питере, к примеру) словарь разговорной лексики Девкина или этимологический словарь Дудена было неописуемым счастьем.

Гузель Яхина в мастерской прозы Creative Writing School, 2015 год
Фото: litschool.pro
На третьем курсе института я выиграла по конкурсу стипендию Немецкой службы академических обменов и уехала учиться в Германию на один семестр, в Боннский университет Фридриха Вильхельмса. Находясь в чужой языковой и культурной среде, я вскоре стала ностальгировать — и кинулась перечитывать любимые вещи: Шукшина, Пушкина, Булгакова, Достоевского. В университетской библиотеке было очень хорошее собрание книг на русском языке. Все-таки когда ностальгируешь, становишься гораздо более сентиментальным, более чутко отзываешься на текст: к примеру, читаешь Шукшина и совершенно по-особому его чувствуешь… За те полгода мне показалось, что в языковой изоляции читать русские тексты полезно: их воспринимаешь и чувствуешь иначе.
Я любила немецкий язык, но обучение кино по-прежнему оставалось моей мечтой. После окончания института я проработала год в Казани, затем переехала в Москву — и тут стало не до мечтаний: нужно было обустраивать жизнь, зарабатывать себе на хлеб, находить свое место в этом городе. Это был практический опыт, тоже очень интересный, но в нем было совсем мало искусства.
«Из зоны притяжения Зулейхи я не могла выйти очень долго»
Однажды — мне было тогда уже за тридцать — подумалось, что стоит все-таки поучиться тому, чему очень хочется: просто ради процесса, не ради результата. Я это сделала — и все два года учебы на сценарном факультете школы кино наслаждалась каждым днем, каждой лекцией. В итоге был написан сначала сценарий «Зулейха открывает глаза», а на его основе уже одноименный роман. Большой интерес читателей к этой книге подтолкнул меня написать вторую — роман «Дети мои» о судьбе Немецкой автономии на Волге.
В теме немцев Поволжья сошлись две важные для меня вещи — Волга и немецкий язык. Я волжанка: у нас была дача на волжском острове, я все детство не вылезала из Волги. И для меня Волга — это совершенно конкретная природная сущность: я знаю ее вкус и запах, и какие бывают на ней закаты, и как она покрывается льдом. Еще в школе кино я написала дипломный сценарий «Учитель немецкого» — о татарском мальчике, который попадает в семью немцев Поволжья и вырастает в ней. Позднее задумала сделать из этого сценария роман. Однако притяжение первого романа оказалось слишком сильным: все, что я писала, было очень похоже на «Зулейху» — она меня фактически поглощала, и это было неправильно.
Очень долго старалась написать что-то иное — и сделала несколько попыток входа в историю с разных точек, в разное время и с разными героями. В итоге отказалась от татарского мальчика (теперь он киргизский и появляется в истории уже ближе к концу), а главным героем я сделала российского немца по имени Якоб Иванович Бах: поменяла пол героя, возраст, религию, национальность, язык… В результате мучений, которые длились почти год, мне удалось выскочить из поля притяжения Зулейхи. Насколько — об этом, конечно, судить читателю.
«Материал для новой книги я начитывала целый год»
В романе «Дети мои» мне очень хотелось сделать не просто полароидный снимок Немецкой республики в 1916 году, а бросить взгляд через годы, создать объемную картинку — про народ, его ментальность, историю, культуру. Поэтому на этапе подготовки я читала очень много: газеты 1920-х–1930-х годов, книги на немецком языке, творчество и научные труды современных историков, учебники из сферы кино… Начитывание материала шло примерно год, потом были попытки написать и снова начитывание — пока не нащупалась структура, связка тем, о которых хочется поговорить. По многу раз я перечитывала книги по искусству создания историй, которые вышли в последнее время: «Анатомию истории» Джона Труби, тексты его лекций; «Миф и жизнь в кино» Александра Талала (кстати, он же был и моим мастером в школе кино); «Драматургию фильма» Нехорошева.
Чуть не наизусть выучила сказки братьев Гримм: в романе «Дети мои» германская мифология играет ключевую роль. У главного героя очень богатое воображение — и читателю предстоит самому определить, какие вещи происходят в реальности, а какие являются плодом фантазии Якоба Ивановича Баха.
Прочитала раз сто книгу Леонида Лерда «Сказки немцев Поволжья». Эти тексты, изданные в 1935 году, автор якобы записал со слов крестьян, советских колхозников Немреспублики, которые сами их придумали. Сюжеты этих «народных» сказок впечатляют: например, встреча Сталина с великанами, которые хотят участвовать в соцсоревновании. Или диалог партийного работника с последним чертом на советской земле — в итоге черт умирает в муках, не выдержав идеологический спор. Или сюжет о девочке Ленхен, которая находит волшебное зеркальце — в нем она видит светлое будущее и товарища Сталина.
«Последние два года я прожила в республике Поволжья»
Я стремилась к тому, чтобы фантазийное полотно романа «Дети мои» было составлено из кусочков реальной жизни. При этом все мельчайшие детали — начиная от ругательств, которые используют поволжские немцы, рисунков росписи их сундуков или кроватей, цвета краски наличников, оторочки шуб и до более серьезных вещей (исторических дат, фактов, цитат Постановлений ЦК…) — все эти детали правдивы. Последние два года чтение занимало большую часть моего времени: я жила физически здесь, в Москве, а ментально — в Саратовском Поволжье, в Немецкой республике.
Моей настольной книгой в этот период была «Немецкая автономия на Волге (1918–1941)» Аркадия Адольфовича Германа, историка, который занимается немцами Поволжья и живет в Саратове — это обширный труд, подробно описывающий жизнь немецкой автономии.
Читала и книги самих немцев Поволжья — это эмигрантская мемуарная литература о событиях 1918–1920-х годов. Эти книги были изданы с 1920 по 1935 год на немецком языке, напечатаны готическим шрифтом. Некоторые из них я нашла в хранилищах Ленинки, а некоторые пришлось заказывать по межбиблиотечному абонементу из Вены и Мюнхена. Их авторы эмигрировали в разное время после революции и позднее описали свой опыт. Одна женщина, Анна Янеке, бежала из Поволжья на перекладных, добралась до Украины, много времени провела в разных лагерях для беженцев и в итоге сумела остаться в Германии. Несколько сцен в моем романе вдохновлены ее книгой «Волго-немецкая судьба»: к примеру, сцена забоя стельных коров, когда из чрева убитых животных достают еще не рожденных телят и бросают в отдельную кучу, не решаясь присовокупить тельца плодов к полезном мясу…
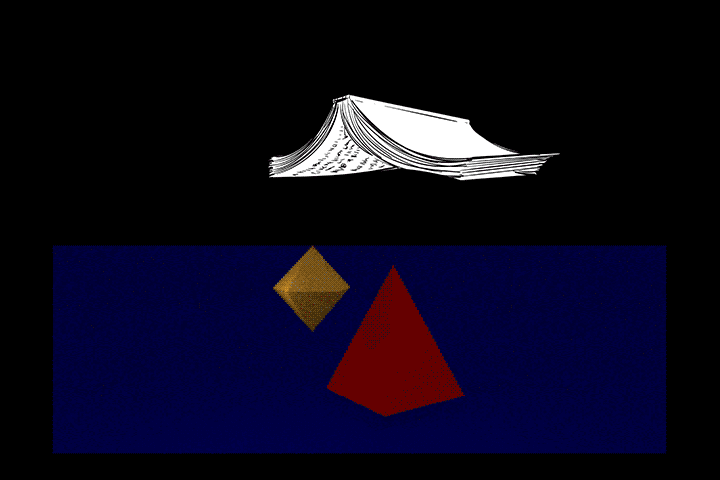
Еще один интересный блок литературы — книги, написанные немцами Поволжья в дореволюционное время, они тоже напечатаны готическим шрифтом. Например, исторический роман Иеронимуса «Штефан Хайндль» (о переселении германских крестьян в Поволжье во времена Екатерины Великой). Или сентиментальные сказки о Волге Фердинанда фон Вальберга. Или его же роман «Лайли Зултанех». Или пьеса Хунгера «Киргизенмихель». Последние две книги основаны на волжсконемецком эпосе, на сложившемся архетипе взаимоотношений поволжских немцев и киргиз-кайсаков: это история любви Ромео и Джульетты — выходцев из этих двух народов — которая, однако, счастливо заканчивается. Мне хотелось непременно включить этот архетипический сюжет в роман «Дети мои». В итоге дочь главного героя, девочка по имени Анче, становится любовью всей жизни для киргизского мальчишки, беспризорника Васьки. Анче и Васька — это и есть дети Баха. Это их он называет «дети мои».
«Я мало понимаю про чужие книги»
В сфере кино нам рассказывали о такой дилемме: когда опытный сценарист (или режиссер, или оператор, или монтажер) смотрит фильм, он легко переключается в регистр профессионала и начинает отслеживать сцену, звук, построение кадра — но умение отдаваться просмотру при этом исчезает. Точно так же и с книгами. Мне кажется, важно сохранять именно читательское — непрофессиональное — отношение к текстам. У меня отношение к чтению не профессиональное, а совершенно читательское. Про свой роман я понимаю все, могу защитить каждую запятую в нем, но очень мало понимаю про чужие книги. Я их читаю именно как читатель: открываю страницу, вторую, третью — и если совпадаю с текстом, то читаю дальше и получаю удовольствие.
Есть только одна книга, в которую я заставила себя погрузиться через «не могу» — «Школа дураков» Саши Соколова. Это очень интересный текст, но мне потребовалось много времени, чтобы его понять и совпасть: когда это произошло, то получила огромное вдохновение.
В моем доме книги не накапливаются. Все книги, которые нужны мне и мужу, мы уже перевели в электронный вид. Надо сказать, умение читать тексты в электронном виде потребовало от меня определенного насилия над собой: уже была сформирована привычка читать именно бумажную книгу, и для переключения на чтение электронных текстов я на несколько месяцев запретила себе касаться обычных книг. Но сейчас я почти полностью перешла на чтение с планшета, и мне это очень нравится. Я подписана на библиотеку MyBook и нахожу там многое из того, что мне интересно. Но в целом я читаю немного и очень выборочно. Чтение — то, что всегда рядом, в самолете и в любой свободный момент.
В кабинете, где работаю, храню либо подаренные книги, либо те, которые мне очень хотелось иметь в печатном виде, делать в них пометки, наклеивать закладки, чтобы в любой момент к ним прибегнуть — это источник вдохновения, успокоения и силы, если вдруг что-то не получается. А еще у меня есть «красивый» шкаф: в нем хранятся разные издания «Зулейхи…». Книга уже вышла на 20 языках, еще 9 в процессе, скоро должен появиться английский вариант.
«Хочется верить, что моя дочь будет читать»
Мы с мужем составили список чтения для нашей дочери — эти книги мы оставляем на видном месте, чтобы она ненароком обнаружила их и сама заинтересовалась. Ей уже 13 лет, и она не всегда хорошо воспринимает прямой совет. И, конечно, она читает только бумажные книги: мы всегда стараемся покупать ей издания, которые читали сами в детстве. «Волшебник Изумрудного города» с иллюстрациями Владимирского, все шесть томов. Повести Алексина, книги Самуэллы Фингарет, «Евгений Онегин», дилогия Ильфа и Петрова, Булгаков, «Мертвые души», «Чучело» Железникова (очень важная книга моего детства, и мне хотелось, чтобы дочь прочитала ее именно в том издании, в котором читала я). На полке дочери книги лежат беспорядочными слоями, в которых она роется и всегда что-то вытаскивает. Мы разрешаем ей беспорядок на книжных полках, это ее личный беспорядок. Захочет — расставит.
Наше поколение уже сформировано, но у тех, кто родился после 2000 года, в эпоху интернета, совершенно другое восприятие: это поколение визуальное — ему нужны короткие тексты, и не столько чтение, сколько видео-контент, образы. Мне хочется верить, что моя дочь привыкла читать и будет читать. Но как все получится, мы не знаем: влияние среды огромно, и невозможно его полностью свести на нет домашним воспитанием.
«И написание, и чтение — это терапия»
Когда пишешь длинную историю, она превращается в некую субстанцию в голове — и перед ней уже отвечаешь: ее нельзя начать, к примеру, а потом отодвинуть и забыть, она этого не простит. С романом живешь долго, по нескольку месяцев и лет — и выходишь из написания романа немного другим человеком. Это процесс взаимного влияния: ты влияешь на историю, создаешь ее, лепишь — но и она при этом влияет на тебя. Автор не только взрослеет или обогащается: он серьезно меняется под воздействием всего прочитанного, впитанного, причем необязательно в лучшую сторону.
«Зулейха…» очень повлияла на меня. И «Дети мои» тоже, даже сильнее. В процессе работы над второй книгой я осознала большое количество собственных страхов: страх внимания, страх сравнения с «Зулейхой…». И уже когда я почти закончила текст второго романа, то поняла, что именно тема страха сшивает его в единое целое. Там есть разные сюжетные линии, но психологическая — это именно страх и его преодоление.
Любая хорошая книга — это терапия. Так можно сказать и про того, кто пишет, и про того, кто читает. Процессы написания и чтения — это терапия. В одних случаях, если вы читаете легкие книги — это ненавязчивая терапия. В других — очень серьезная: через шок, стресс, сопереживание, узнавание себя или родных, откровение и о себе или близких людях. Но в любом случае это терапевтический опыт.
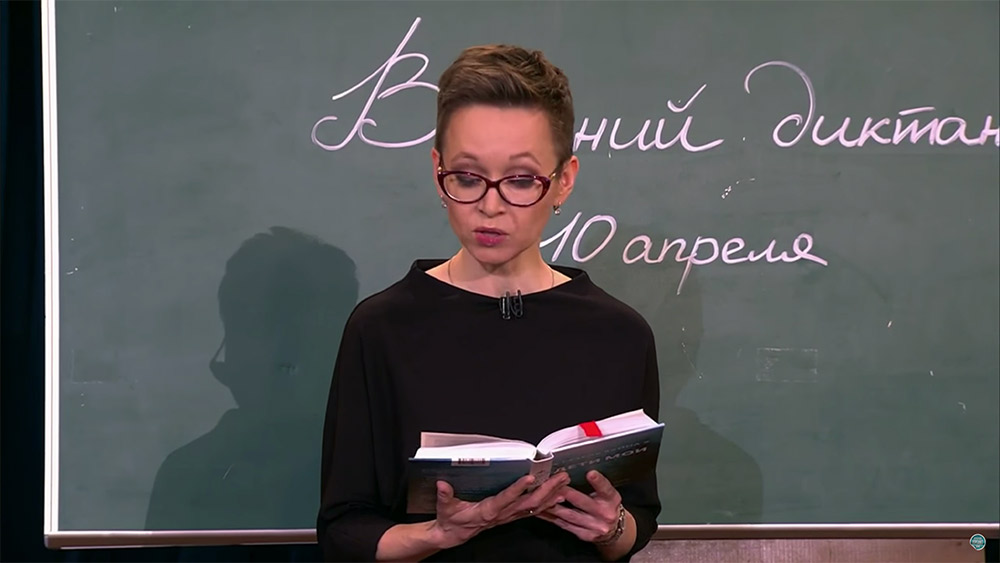
Гузель Яхина в программе «Вечерний Ургант»
Фото: www.youtube.com/user/1tv