Горький и Радищев — это отрава
Что читает русское блэк-метал-подполье
Группа Blackdeath полным составом
 Abysslooker:
Abysslooker:
Читать я научился еще до школы и в детстве читал много — что называется, запоем. Пожалуй, это было некоторой ошибкой, насколько теперь я могу судить. Я объясню.
Да, чтение художественной литературы — ведь именно с нее начинается чтение в детстве, — несомненно, способствует развитию неокрепшего сознания, повышает эрудицию и обогащает фантазию формирующейся человеческой особи. Все это важно — в особенности, как мне представляется, последнее. Вместе с тем неумеренное чтение создает у ребенка (и впоследствии у личности пубертатного возраста) искаженное представление о жизни. И дело вовсе не в том, что литература не готовит к тяготам и суровости жизни. Чепуха. Жестокости хватает даже в детских книгах. Все дело в том, что беллетристика рисует людей гораздо более интересными, нежели они есть на самом деле. Ведь каждый автор, если он хоть чего-то да стоит, стремится заинтересовать читателя не только сюжетом, но и персонажами.
Я вовсе не хочу сказать, что люди неинтересны, и уж тем более, что они скучны. Отнюдь. Штука в том, что по большей части они просты. Как и сама жизнь проста и, пожалуй, груба. Как броуновское движение, в целом создающее впечатление сложности, но при рассмотрении отдельно взятого его элемента поражающее простотой. Еще раз, я не говорю, что жизнь не может быть интересной. И что тот или иной обычный человек не способен вызвать интерес. Просто художественная литература подает людей более интересными, нежели они есть в реальности, и при взаимодействии с таковой рано или поздно охватывает разочарование. Если новый знакомый не преподносит на блюдечке свою интересность сам, нужно как следует постараться, чтобы обнаружить ее в нем. И зачастую эти старания ни к чему не приводят.
В общем, читал я в детстве много и прочитал, наверное, все книжки, с которыми полагалось ознакомиться советским детям. Наиболее яркое впечатление, сохранившееся у меня с тех лет, — это романы Жюля Верна. Несомненно, наивные в нынешнюю эпоху, но от этого ничуть не менее увлекательные. Через много лет эта моя влюбленность в фантастику вернется и захватит меня полностью.
Насильственное привитие любви к так называемой классике в школе на меня воздействия не оказало. Достоевского, например, я открыл для себя только после института. Прочел все его художественные произведения и даже покушался на письма. Читал, потому что написано интересно, легко и захватывающе. Но жизнь по Достоевскому, повторяю, изучать не стоит. А вот по Чехову — вполне.
Из захвативших мое воображение писателей не могу не отметить Лавкрафта и Филипа Дика. Эти авторы повлияли на меня, пожалуй, даже на психическом уровне. Лавкрафт — вот уж кто действительно показал, что вещи могут быть не тем, чем кажутся. Благодаря его богатому — до болезненности — воображению читатель с головой погружается в жуткую атмосферу столь шаткого и обманчиво реального мира. Биографию Лавкрафта за авторством Спрэга де Кампа я переводил едва ли не с благоговейным трепетом, и при всей приземленности жизненных перипетий писателя нисколько не разочаровался в нем как в личности.
В плане болезненности Дик ему не уступает. Первое его произведение, с которым я познакомился, было по сути и не фантастическое. Я говорю, естественно, о «Помутнении», публикация которого в журнале «Юность» произвела сущий фурор среди, скажем так, прогрессивной молодежи тех лет. Я стал проповедником этого произведения и доносил «слово Дика» в самодельном и потому весьма увесистом переплете до всех друзей и знакомых, пока в конце концов книжка не сгинула в дебрях купчинской студенческой общаги. А уж диковская фантастика меня просто очаровала. Много позже я познакомился и с другими его реалистическими произведениями, а одну из них — «Трансмиграцию Тимоти Арчера» — мне даже выпала честь переводить, и работа над переводом обернулась для меня сложным психологическим и даже мистическим опытом.
Последние годы я только фантастику и читаю, не считая произведений, которые перевожу по работе. Пожалуй, мне не хватает дивного мира будущего, в то время как нравственными метаниями персонажей я сыт по горло.
Если книга мне нравится, стараюсь растягивать удовольствие — читаю неспешно, с перерывами. Из современной фантастики пока наибольшее впечатление на меня произвел трансгуманизм Аластера Рейнольдса и вывернутые миры Чайны Мьевиля.
 Colonel Para Bellum:
Colonel Para Bellum:
Читать приучили родители, за что им признателен. Из детских потрясений хорошо помню Брэдбери, тогда я воспринимал его как какую-то мистику. В юности читал много и, можно сказать, все подряд, но постепенно сосредоточился на всевозможных субкультурных направлениях.
Главное влияние на меня оказала мистическая художественная литература. Набор авторов классический: Лавкрафт, Меррит, Линдсей, Мейчен, Грабинский, Перуц, Эверс, Рэ, Оуэн. Но в основном, конечно, Майринк.
«Настоящих» оккультистов тоже читал, однако почти всегда разочаровывался — читать их «теоретические труды» было далеко не захватывающе, за исключением разве что «Книги Закона» Кроули. При этом его художественные произведения откровенно раздражали — в них было больше стремления подать себя и пропихнуть свои идеи, нежели литературы как таковой. Как писателя Кроули воспринимать серьезно нельзя.
Что и говорить, Майринк был мастер в своем деле: он подавал свои идеи под видом литературы так, что его читали и ценили именно как писателя, в том числе и люди, равнодушные к мистике и оккультизму. Под его влиянием я в итоге свернул проект «НИИ Апокалипсиса» (не окончательно и не безоговорочно) и перекинул силы на возрожденный проект «Валентин Истомин» — если в начальном периоде его произведения были «брутальным реализмом», то после возрождения проекта главный акцент делается на мистику.
Из философов самое сильное впечатление оказал Генон. Для меня его труды и, в первую очередь, «Царство количества и знамения времени» — так сказать, мистическая версия «Общества спектакля», но более глобальная, более проникновенная, более обличающая. К традиционалистам себя, конечно, не причисляю — куда мне. Настоящий традиционалист должен отречься от цивилизации и уехать жить в традиционное общество. С женитьбой на дочери шейха — уж как получится.
Позже примерно такое же впечатление произвел КачинскийТеодор Качинский — американский математик, теоретик анархо-примитивизма и террорист, приговоренный к пожизненному лишению свободы за рассылку пакетов с самодельными взрывными устройствами., но ходивший по сети «Манифест Унабомбера» меня не устроил, поэтому я перевел его сам и издал в рамках проекта «Револва». Когда списался с автором по вопросу переиздания, то он меня разочаровал как личность — нет, так сказать, величия души, одна только зацикленность на своих идеях, никакого чувства юмора. К анархо-примитивистам себя, разумеется, не причисляю, зачем мне. Настоящий примитивист должен отречься от цивилизации и поселиться в хижине в лесу. С бомбами — уж как получится.
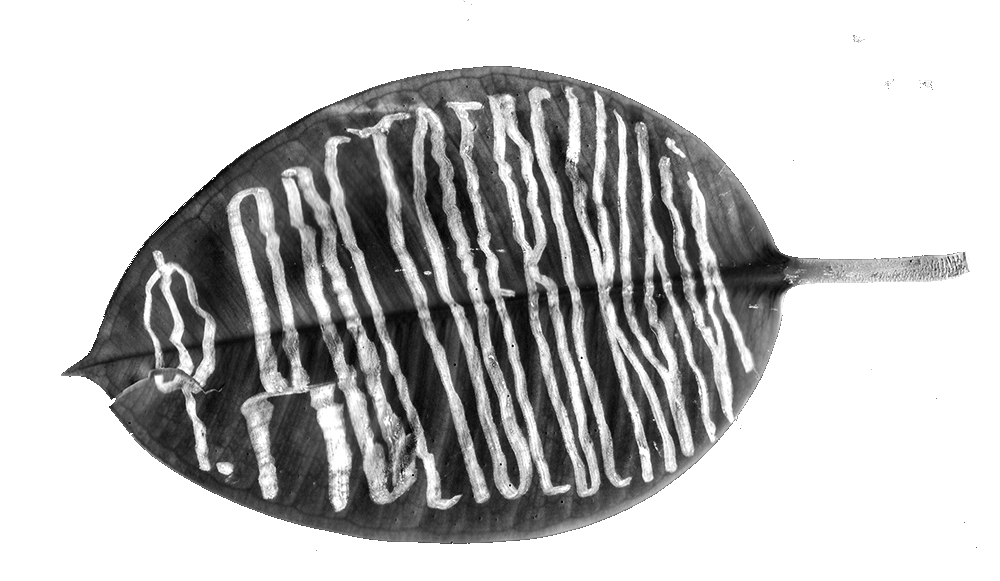 Из истории своих отношений с книгами могу еще рассказать, что был у меня период в несколько лет, когда я принципиально не брал их в руки — по примеру одного из героев Майринка, однако вечно воздерживаться не смог. Сейчас тоже читаю, впрочем, не так много и часто, как раньше. «Цифру» не признаю, читаю только бумажные книги. По-прежнему иногда читаю параллельно две книги — но обязательно в разных жанрах: одна — художественная литература, другая — публицистика.
Из истории своих отношений с книгами могу еще рассказать, что был у меня период в несколько лет, когда я принципиально не брал их в руки — по примеру одного из героев Майринка, однако вечно воздерживаться не смог. Сейчас тоже читаю, впрочем, не так много и часто, как раньше. «Цифру» не признаю, читаю только бумажные книги. По-прежнему иногда читаю параллельно две книги — но обязательно в разных жанрах: одна — художественная литература, другая — публицистика.
Не постесняюсь сознаться и в экспроприациях: если с позиций своего фанатизма я видел, что та или иная книга тому или иному человеку как собаке пятая нога, то брал ее почитать (иногда без спроса) и никогда не возвращал. Я называл это «спасением» книги. Сейчас уже не экспроприирую, однако если вижу, что где-то на раздаче лежит бесхозная книга, то забираю, конечно. Благодаря этому, к примеру, недавно осилил «Доктора Живаго». Возникло подозрение, что, если бы Пастернак не обличал советскую власть, не видать ему Нобеля, потому что пишет-то он коряво.
Я вообще из русских авторов только Достоевского признаю. У меня его ПСС, перечитал два раза, на большее пока не хватило.
 Polar Maya:
Polar Maya:
К книгам мне пришлось пробираться заковыристым путем. Читать приучилась очень поздно. Родители никогда меня ни к чему не принуждали, давали свободу делать то, что мне интересно, и не делать того, что мне не интересно, в том числе не пытались заставлять меня (как большинство сверстников) читать школьную программу. Литература была моим самым ненавистным предметом — скучным и, как мне казалось, совершенно бесполезным. Выручало умение в совершенстве делать и использовать шпаргалки, благодаря чему читать приходилось по минимуму. Сдавать потом экзамены в вузы при таком навыке не было проблемой.
С одной стороны, мне повезло: нечасто детям доступна подобная свобода, и многие, повзрослев, приобретают иммунитет к чтению именно потому, что в детстве их заставляли читать, полки с книгами становятся лишь частью домашнего интерьера. С другой стороны, когда я начала читать (лет с семнадцати), когда мне вдруг стало это интересно, я почувствовала огромный пробел, у меня не было необходимого опыта, почвы под ногами. Я стала читать все подряд: книги по мифологии, религии, истории, философии, мистике, оккультизму. Когда нет классической базы, такое беспорядочное чтение превращается в странную фигуру, нечто рваное и бесформенное — лошадь с головой змеи, крыльями мухи и хвостом осла. Упорядочить это чудище мне помогло обучение на философском факультете, оно заставило меня читать последовательно и системно.
После я пыталась наверстать упущенное, читала художественную литературу, пропущенную в детстве и юности. Но я ее деконструировала и только так могла оценивать — чем больше виделось в произведении смысловых пластов, тем ценнее оно казалось, и перечитать книгу значило найти новую степень или еще один пласт. Достоевский, Майринк, Дик, Паланик, Ницше и Стругацкие отлично укладывались в эту систему. Даже Агата Кристи и Гюго были прочитаны под таким углом. Сконструировать смыслы можно при желании из чего угодно, и не факт, что они будут иметь хоть какое-то отношение к мысли автора и к реальности вообще, хоть бы и метафорически. Да и сойти с ума при таком подходе достаточно легко.
Сейчас книга для меня — это инструмент, один из многих, которым можно и нужно пользоваться. Не тот инструмент, с помощью которого можно погрузиться в прекрасный (черный или белый) другой мир, а тот, которым можно сломать дверь в мир реальный. Хорошо, если это достаточно тяжелый инструмент, кувалда, которая рушит устоявшееся представление о чем бы то ни было. Одной из таких недавних книг стал роман «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд. Кувалда, постучавшаяся в мой, конечно, все еще советский менталитет. Такой же эффект произвел «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына и отчасти «1984» Джорджа Оруэлла (что может быть страшнее и реальней, чем не просто соврать, а поверить и принять логически, что дважды два равно пять). Однако эти книги я никак не отношу к любимым, они просто сработали опять же как инструмент. Как отчасти сработали Дарвин, Эйнштейн, Фрейд, Талеб, Арендт и другие, в основном научные или публицистические книги. У меня вообще нет любимых книг, как и любимых писателей, потому что сама идея «любимой книги» или «любимого литературного жанра» заводит в тупик, концентрирует слишком много внимания на отдельном маленьком пазле в очень большой и сложной картине. В выборе новых книг я исхожу из того, что читать нужно разное, взаимоисключающее, стараться менять темы и жанры, а главное — читать не то, что уютно и знакомо, а наоборот, как можно больше того, что совсем незнакомо и очень неуютно.
Безвременно почившая группа ВТТА (ex-Vessel to the Abyss, ex-Vessel through the Abyss, ex-Vessel through the Asylum)
 Acidkopf:
Acidkopf:
Мой первый опыт Осознанного Чтения был и самым сладким. Как сейчас помню, стукнуло мне тогда лет пятнадцать — сами понимаете, самый разгар увлечений Черным Искусством, преданности Хаосу и прочим Антиделам.
Бреду по городу и вижу: на теплотрассе копошатся мои изрядно подвыпившие соратники. В центре опьяненной толпы, среди звенящих бутылей, лежит журнал цвета крови — Odium. В те годы меня чрезвычайно интересовали темы религиозно-философского и идеологического характера, однако до этого я никогда встречал подобного в бумажном формате, только в виде живого общения с единоверцами. Я самозабвенно прилип к журналу и за один подход прочел все 84 страницы, от начала до конца, от альфы до омеги. По сравнению с невинным Dark City, журнал был по-настоящему сумасбродным, и, пожалуй, его единственным минусом было отсутствие раздела «Знакомства». В конце школьной поры Odium был для меня настольной книгой, лучшей книгой. Лучше голубоватых Бунина и Куприна. Лучше пустомели Киплинга. Лучше болтуна Даниеля Дефо и подонка Зощенко. Лучше — потому, как это был мой первый акт познания, не навязанный хрестоматийной тиранией.
Я писал и царапал цитаты из журнала везде: «среди тел Солнечной системы свойствами абсолютно черного тела в наибольшей степени обладает Солнце» на полях тетради; «поглощательная способность абсолютно черного тела равна 666!» на школьной парте; «Славься Сатана!» на кубике сахара в столовой; и даже в туалете я писал цитаты из Odium. Был тот журнал для меня как «Отче Наш» или «Домострой» для православного, как «Веды» для неправославного или «Некрономикон» для умалишенного. Во многом я обязан своему чувству юмора и живости ума этому уникальному человеконенавистническому куратору и мультимедийному навигатору.
Сейчас же я в основном читаю Солженицына и Алексиевич, а из современников — Сашеньку Тимофеева и Феликса Сандалова. Знаете их?
 Pater Satanik:
Pater Satanik:
Осознанно читать я начал сравнительно поздно, класса с десятого, но сразу с гигантского литературного пласта — Серебряного века. В книжном шкафу, невероятным образом доставшемся мне по наследству, стояли подшивки «Весов», «Аполлона», «Золотого руна». Оттолкнувшись от брюсовского «Огненного ангела», я прочел уйму зловещих книг писателей начала ХХ века, российских и западноевропейских футуристов, мистиков и декадентов. А что еще может интересовать нормального романтического юношу в восемнадцать лет? Секс, мистика, ужасы, рок-н-ролл, веселье, угар, приключения и клевые шмотки.
Познание через литературную и театральную сторону всей этой мистики, кардинально отличавшейся от постсовковых реалий, убогой коммунальной квартиры и ее темных переживаний.
Вообще весь мой книжный путь — это про обжорство и всеядность, читал я всегда по шесть книг за раз, и в списках соседствовали Семен Подъячев и Владимир Сорокин, Григорий Климов и Татьяна Толстая, Джонатан Литтелл и Еремей Парнов. Читаю исключительно для развлечения, будь то публицистика, техническая или эзотерическая литература, — для меня это все занятные приключения. С 2010 года начал фиксировать прочитанное, получается около 50–70 книг в год. Из последних больших книжных потрясений — романы-дневники-записные книжки. Это книга профессора РАН Романа Михайлова «Равинагар», а также «Плохая книга» Словесара. Продолжая попытки структурировать чтение, в один момент я понял, что необходимо следовать пути книжного самца и читать только собраниями сочинений. Буквально на днях кончил восьмой завершающий том Федора Гладкова, и теперь меня ждет трехтомник Гюисманса. Но параллельно наслаждаюсь антологией «Занавешенные картинки» и жду новинок от чародея Проханова, чего и вам советую.
 Внятный:
Внятный:
Книга всегда считалась источником знания. В основе моей деятельности лежит поиск скрытого, тайного знания. Вопросы мироздания, взаимодействие стихий, ангельский язык, поиск Грааля — вот источник моего вдохновения, основной импульс творчества. Основные ответы с момента вступления на путь я стараюсь находить путем духовных практик, но, как и многие, в своем поиске я всегда обращаюсь к книге.
За долгие годы я выучил главное правило — читай между строк. Большинство ответов именно: «Там! Где?!»
Вот список названий и авторов, которых так или иначе мне хочется упомянуть:
Очень банально, но все же Русская (я— русский!) классическая литература — перечитал всю школьную программу.
Пепперштейн, Ануфриев. «Миша, иди домой» — основной трактат алхимического преобразования.
Ветхий Завет, Новый Завет — no comments.
Владимир Сорокин — все, кроме «Голубого сала», его Миша Вербицкий ругал.
Ленин, «Государство и революция» — must have для каждого адепта.
Дэн Браун, «Код да Винчи» — чисто по приколу.
 Всеволод Красса (ΚΕΝΩΣΙΣ, ex-Kalendae):
Всеволод Красса (ΚΕΝΩΣΙΣ, ex-Kalendae):
В детстве меня сложно было застать за чтением какой-либо высокохудожественной литературы. Школьной программе я всегда предпочитал энциклопедии и справочники по естественнонаучной тематике. Особенно сильно меня привлекал «тип членистоногих», а больше всего древние ископаемые и современные паукообразные.
Эти удивительные создания воплощают в своем теле совершенные орудия и невероятные биотехнологии. Должно быть, они меня привлекали своей непохожестью на нас и поражали фантастическими способностями. Уже тогда я понимал, что окружающая «реальность» куда более weird, чем ее обычно себе представляют.
Наблюдая за пауками и читая о них, я пытался понять, как они думают, я стремился подружиться с ними, но процесс нашей медиации был крайне темным и мистичным. Эта глубина различий усиливалась пропорционально изучению новых сведений. И попытки подружиться, коммуницировать только сильнее отдаляли меня от понимания, чем приближали к нему. Так что скорее чтение воспитывало во мне не знание, а ученое незнание, погружающее в облако неведения, таинственный мрак.
Схожие впечатления я испытывал, когда читал произведения в жанре horror fiction от самых дешевых и детских историй типа «Ужастиков» Р. Л. Стайна до «грошовых ужасов» и Лавкрафта. Лавкрафт и по сей день остается одним из моих любимых писателей, считаю его непризнанным классиком феноменологической мысли.
Аналогичные чувства я испытывал от бесконечных историй от своей бабушки про столкновение с нечистой силой. Она была из беспоповской старообрядческой семьи, родилась и провела свою юность в деревне, поэтому сельские легенды стали неотъемлемой частью ее быта. Ее истории и познания в народной демонологии воспаляли мой детский ум, причем за все это время я узнал очень много нюансов о столкновении людей с хтоническими силами, но практически ничего не слышал ни про Бога, ни про что-либо сакральное, если это только не касалось каких-то утилитарных вещей, которые всегда сопровождались такой же приближенностью к земле. Божественные имена упоминались только во время постоянных, немногим отличавшихся одно от другого бормотаний, сменяющихся перекрещиванием двумя перстами, которые сопровождали меня в любых бытовых ситуациях: при походе в гости, прогулке по лесу, поездке в соседнюю деревню, при ушибах, болезнях, встречах и расставаниях, что в итоге создавало еще более мамлеевскую или пименокарповскую атмосферу.
Развитию интереса к природе способствовала бабушка по другой линии, убежденная сциентистка, атеистка и геолог по образованию. Исследование природы и увлечение литературой в жанрах ужасов и мистики очерчивали круг моих интересов в то время. Так в мою библиотеку, помимо естественнонаучных книг, стали попадать энциклопедии символов, справочники по околооккультной тематике и просто разнообразные страшные истории. Но сильнее всего впечатлившей меня в детстве книгой, которую я считал своим персональным гримуаром в возрасте лет тринадцати, некрономиконом, было 800-страничное «Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии» Мэнли Палмера Холла, издательство «Наука», 1992 год выпуска.
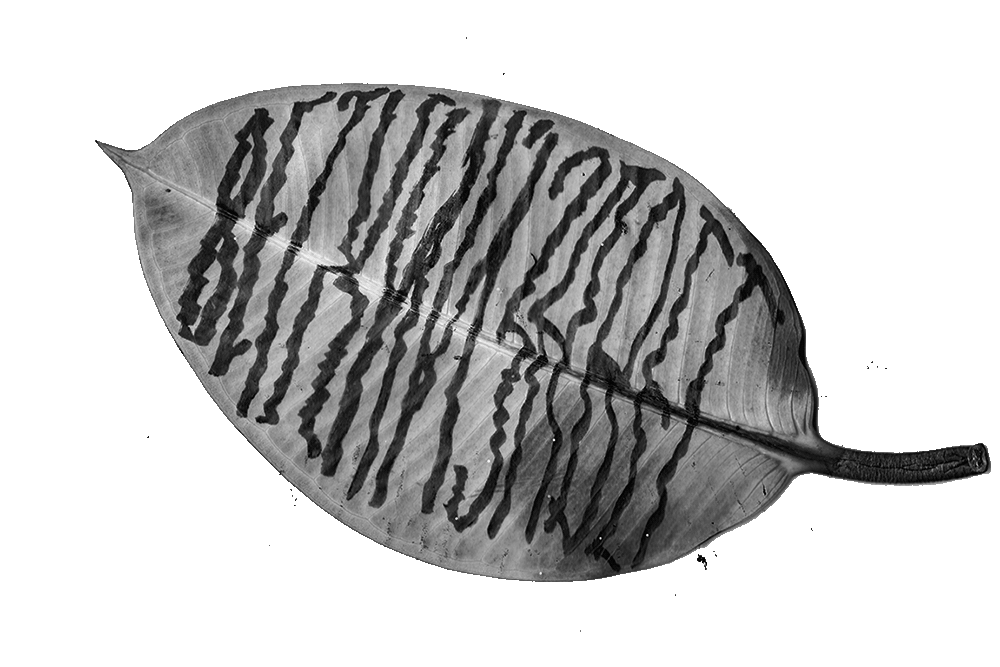 Стоит упомянуть, что я практически никогда не верил в магию, астрологию и эзотерические дисциплины, также как не верил и в онтологически существующего бога. Даже при размышлениях в рамках «божественных схем» бог не обладал для меня статусом существования. Как заметил современный греческий философ и богослов Христос Яннарас, «антиметафизический атеизм больше занимается Богом, чем метафизический теизм» (Х. Яннарас «Хайдеггер и Ареопагит, или Об отсутствии и непознаваемости Бога»).
Стоит упомянуть, что я практически никогда не верил в магию, астрологию и эзотерические дисциплины, также как не верил и в онтологически существующего бога. Даже при размышлениях в рамках «божественных схем» бог не обладал для меня статусом существования. Как заметил современный греческий философ и богослов Христос Яннарас, «антиметафизический атеизм больше занимается Богом, чем метафизический теизм» (Х. Яннарас «Хайдеггер и Ареопагит, или Об отсутствии и непознаваемости Бога»).
Последней гранью между той версией материализма и онтологии, которую я исповедую сейчас и зонирую между манифестом темной онтологии Л. Брайанта и спекулятивным оккультизмом Юджина Такера, была для меня кенотическая теология Мертвого Бога Томаса Альтицера. Альтицер утверждал, что «радикальный христианин рассматривает духовную пустоту нашего времени как историческое осуществление самоуничтожения Бога... Таким образом, радикальная вера объявляет наше современное положение продолжением Тела Христа, продвижением в полноту истории самоопустошения Бога. Никакое уклонение от автономности человеческого существования невозможно для христианина. Для христианина запрещено как стремление к первозданной невинности, так и ностальгическая тоска по чистому невоплощенному Духу. Именно христианская жизнь в кенотическом Слове подталкивает его принять и утверждать мир, в котором Бог мертв, как осуществление в истории самоуничтожения Бога в Христе» (Томас Альтицер «Смерть Бога. Евангелие христианского атеизма»). В этом Альтицер удивительно пересекается с Жижеком, который утверждал, что «Дух — это кость». Магические схемы, оккультная и мистическая философия в моем случае имеют несколько другое назначение — я читаю этих авторов «профаннным», «неодухотворенным», «светским» и «материалистическим» способом, выворачивая прочитанное наизнанку, через такое «неправильное чтение» выделяя из оккультных текстов подлинно научную и реалистическую методологию. Как писал Ю. Такер, «Тогда как традиционная оккультная философия оказывается тайным знанием о явленном мире, современная оккультная философия — это явленное знание о сокрытости мира». Под современной оккультной философией Такер здесь подразумевает свои собственные исследования и труды близких ему мыслителей.
И в раннем возрасте, и позже, специальная литература казалась мне более сконцентрированной и захватывающей, чем художественная, которая увлекала меня реже. Исключением стали «Божественная комедия» Данте Алигьери, «Фауст» И.В. Гете, английские готицисты и в целом жанры weird, horror и sci-fi. Такую тенденцию можно объяснить словами Владимира Сорокина о том, что задачей художественной литературы является скорее не отражение объективной реальности, а созидание альтернативных миров и изображение «невозможного». По моему наблюдению, писатели со схожими взглядами зачастую предсказывали события будущего и приближались к наиболее ярким описаниям подлинной реальности вместо сухого изложения ее схем. В качестве наглядного примера можно вспомнить хотя бы изначально никому не известного деревенского поэта, писателя и пророка Красной революции, предрекшего ее во всей сектантской, лубочной красе в романе «Пламень», — Пимена Карпова.
Было бы неправильно не упомянуть, что, помимо «традиционной» литературы, я исследую разные жанры манги и комиксов — киберпанк, мистику и хоррор. Всем, кто не знаком с мангой, я рекомендую: Uzumaki (Дзюндзи Ито), Berserk (Кэнтаро Миура), Blame! (Цитому Нихэй), Akira (Кацухиро Отомо), Ghost in The Shell (Масамунэ Сиро), Kiseijuu (Хитоси Ивааки), а также комиксы и графические романы: The Sandman и Death: The Time of Your Life (Нил Гейман), Transmetropolitan (Уоррен Эллис), The Invisibles (Грант Моррисон).
На первом курсе университета меня сильно увлекала античная философия, в особенности логические диалоги Платона, философская система Аристотеля и скептическая мысль Секста Эмпирика. Одновременно с этим меня интересовали логические и метафизические практики буддизма Махаяны, индийская философская школа санкхья и кашмирский шиваизм. Такой синтез может поначалу показаться странным, но аналогичные примеры из прошлого существовали в виде греко-буддизма, распространенного в Греко-Бактрийском и Индо-Греческом царствах с IV века до н. э. по V век н. э. Далее, в процессе освоения курса истории философии, я столкнулся с византийской религиозной философией, а конкретно — с каппадокийцами и корпусом сочинений псевдо-Дионисия Ареопагита. Обычно, чтобы избежать споров о его происхождении, я использую в разговоре наименование «Корпус Ареопагитикум». Буквально после прочтения небольшого «Послания к Дорофею Дьякону» я смог обозначить для себя наиболее интересную мне тему и логико-гносеологический метод. Это была апофатика. Да и исторический контекст движения иудео-христианизированной античной культуры и ее культурных кодов мне, как человеку восточно-европейского склада ума, был ближе контекста восточного. Я постепенно стал погружаться в изучение апофатики, исследуя эту тему на протяжении всего периода обучения в бакалавриате. Со временем мой интерес к истории апофатики вышел за рамки одной лишь византийской традиции, и тогда я перешел к трудам таких авторов, как Николай из Кузы, Майстер Экхарт, Иоганн Тайлер, Анджела из Фолинью, Иоанн Креста, Жорж Батай, критическому аспекту философии Канта, критическому, антифилософскому Декарту (с его образом «демона»), деконструкции Деррида, трактату неизвестного монаха «Облако Неведения» и другим.
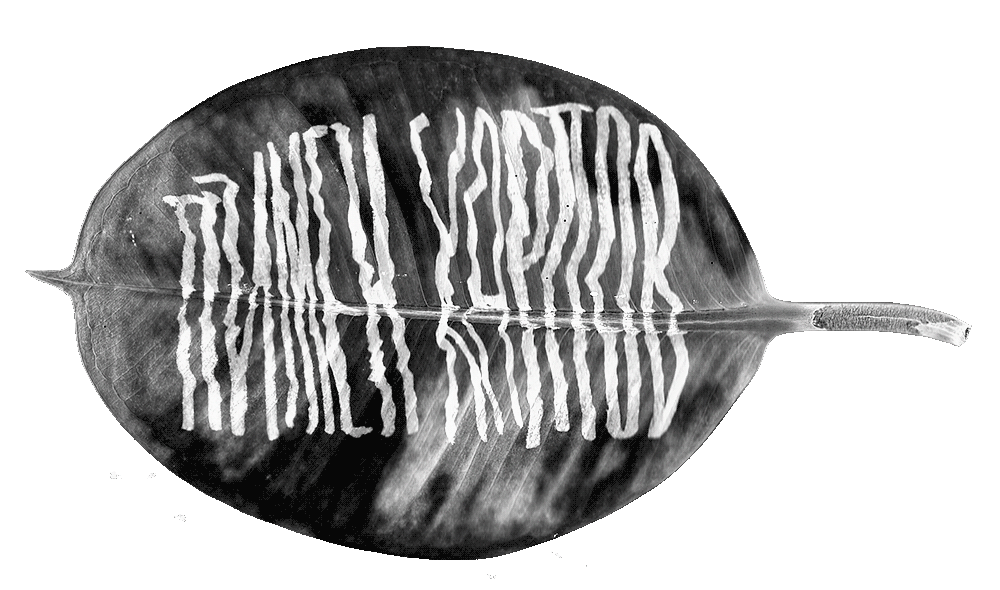 Находясь в поисках истоков религиозной апофатики, я уже понимал, что в античности, как минимум до «Корпуса Ареопагитикум», который соединяет в себе языческую и христианскую традиции апофатики, было не менее двух методологий. В результате я перешел к изучению писаний античных гностиков, которые, по мнению А. Хосроева, являются источником христианского апофатического богословия. Гностическая теология заняла мой ум во время обучения в магистратуре, в основном сифианские тексты. Параллельно мне стал симпатичен другой впоследствии важный для меня мыслитель — Артур Шопенгауэр. Его шеститомное собрание сочинений я прочел на одном дыхании. Сквозь призму идей Шопенгауэра и некоторых концепций Шеллинга (периодов «Идей к философии природы...» и «Философских исследований о сущности человеческой свободы...») постепенно начал возвращаться интерес к изучению естественных наук, подводя меня ближе к идеям климатологического мистицизма и оккультного материализма. Резкий поворот в сторону материализма может показаться нелогичным и странным, но такой переход произошел плавно, так как эти процессы были имплицитны. Жорж Батай в своей работе «Базовый материализм и гностицизм» отметил, что гностики отказались от античной философской традиции монизма, соотносящей все с идеей Блага. Оптика гностиков в целом куда более материалистична, чем античная традиция философии. Этот разрыв особенно явно выражается на уровне концепции материи в учении гностиков, которая, по словам Батая, «как активный принцип, обладает собственным вечным и автономным бытием, которое есть бытие теней и зла» (Ж. Батай «Базовый материализм и гностицизм»). В этом отношении концепция материи гностиков представляется революционной и актуальной в свете современной философии, сближаясь с новым, неинертным, темным видением материи как outside, но в отличии от предшественников, современные авторы не наделяют ее этическим измерением и негативной оценочной коннотацией. Гностическая теология преодолевает запрет на отрицание самой сущности «Бога», выступая предшественником батаевского криптотеологического и мистического проекта «Атеология». Такую смену представлений хорошо подчеркивают слова Е. Родина «...тайна Иисуса заключается в том, что есть человек, Бытие, Абрасакс, но не Бог. Христианская апофатическая формула гласит: „Бог не есть”, ее можно переформулировать так: „Бога нет”. Тогда становится понятен сам гносис как самопознание (а не богопознание!), ведь для гностического „спасения” достаточно „познать себя” и понять, что „Бога нет”» (Е. Родин «Валентинианское объяснение — ключ к тайне Иисуса»).
Находясь в поисках истоков религиозной апофатики, я уже понимал, что в античности, как минимум до «Корпуса Ареопагитикум», который соединяет в себе языческую и христианскую традиции апофатики, было не менее двух методологий. В результате я перешел к изучению писаний античных гностиков, которые, по мнению А. Хосроева, являются источником христианского апофатического богословия. Гностическая теология заняла мой ум во время обучения в магистратуре, в основном сифианские тексты. Параллельно мне стал симпатичен другой впоследствии важный для меня мыслитель — Артур Шопенгауэр. Его шеститомное собрание сочинений я прочел на одном дыхании. Сквозь призму идей Шопенгауэра и некоторых концепций Шеллинга (периодов «Идей к философии природы...» и «Философских исследований о сущности человеческой свободы...») постепенно начал возвращаться интерес к изучению естественных наук, подводя меня ближе к идеям климатологического мистицизма и оккультного материализма. Резкий поворот в сторону материализма может показаться нелогичным и странным, но такой переход произошел плавно, так как эти процессы были имплицитны. Жорж Батай в своей работе «Базовый материализм и гностицизм» отметил, что гностики отказались от античной философской традиции монизма, соотносящей все с идеей Блага. Оптика гностиков в целом куда более материалистична, чем античная традиция философии. Этот разрыв особенно явно выражается на уровне концепции материи в учении гностиков, которая, по словам Батая, «как активный принцип, обладает собственным вечным и автономным бытием, которое есть бытие теней и зла» (Ж. Батай «Базовый материализм и гностицизм»). В этом отношении концепция материи гностиков представляется революционной и актуальной в свете современной философии, сближаясь с новым, неинертным, темным видением материи как outside, но в отличии от предшественников, современные авторы не наделяют ее этическим измерением и негативной оценочной коннотацией. Гностическая теология преодолевает запрет на отрицание самой сущности «Бога», выступая предшественником батаевского криптотеологического и мистического проекта «Атеология». Такую смену представлений хорошо подчеркивают слова Е. Родина «...тайна Иисуса заключается в том, что есть человек, Бытие, Абрасакс, но не Бог. Христианская апофатическая формула гласит: „Бог не есть”, ее можно переформулировать так: „Бога нет”. Тогда становится понятен сам гносис как самопознание (а не богопознание!), ведь для гностического „спасения” достаточно „познать себя” и понять, что „Бога нет”» (Е. Родин «Валентинианское объяснение — ключ к тайне Иисуса»).
Данную оккультно-материалистическую интерпретацию гностицизма можно описать еще несколькими цитатами из NHC: «Не подобает [думать] о нем как о богах или о чем-то [подобном]. Ибо он больше бога, [ведь нет никого] выше него, нет никого, кто был бы господином над ним» (Апокриф Иоанна)
«Иисус сказал: Если те, которые ведут вас, говорят вам: Смотрите, царствие в небе! — тогда птицы небесные опередят вас. Если они говорят вам, что оно — в море, тогда рыбы опередят вас. Но царствие внутри вас и вне вас» (Евангелие от Фомы. 2)
«Ученики его сказали ему: В какой день царствие приходит? (Иисус сказал): Оно не приходит, когда ожидают. Не скажут: Вот, здесь! — или: Вот, там! — Но царствие Отца распространяется по земле, и люди не видят его» (Евангелие от Фомы. 117)
В саббатианской и современной «Клипотической Каббале», которые также периодически оказываются в сфере моих интересов, метафизика материи занимает особое место. В результате разнообразных поисков я увлекся общей историей материи и материализма, но уже в ракурсе истории западноевропейской философии, постепенно принимая его критическую оптику и отбрасывая идеализм, спиритуализм и обскурантизм. К подобной смене угла обзора меня отчасти подтолкнуло ознакомление с книгой нашего соотечественника, философа Александра Ветушинского «Во имя материи».
Сейчас в центре моего внимания находятся мыслители, так или иначе связанные с течениями спекулятивного реализма и объектно-ориентированных онтологий, нового материализма и акселерационизма. В особенности любопытны концепции Юджина Такера всех трех периодов его творчества: киберпоэзия и медиатеоретика; исследование биомедиа и новой биофилософии; изучение особого рода философского пессимизма, нигилизма и оккультных наук.
Через занятие музыкой я, образно говоря, исследую вышеупомянутые темы. Мои произведения — это «непроявленные псалмы», «другое благовестие» из «другой», «черной» библии, которая существует по своей не-необходимости (контингентности). Возможно, музыка является даже более совершенным инструментом для изложения идей, чем философия, или, если сказать иначе, становится альтернативным способом постановки онтологической проблематики. Одна-единственная пьеса может на уровне чувственного восприятия изменить больше, чем гора философских трактатов, будучи более доступной к интуитивному пониманию. Я верю, что музыка существует за гранью одних лишь отношений «человек-мир». Музыка оплетает все своими вибрирующими пустотообразными щупальцами бессознательного, приходя извне, гипнотизируя и нашептывая свою Волю/Желание в субстанциональном виде. Как говорил Тимоти Мортон, сегодня, через звуковые гиперобъекты, «нечеловеческие (nonhumans) сущности входят в необратимый и решительный контакт с людьми в рамках дискурсов рационализма, эмпиризма и науки» (Т. Мортон «На вершине дымящегося озера смерти: Wolves in the Throne Room»). Если Шопенгауэр играл на флейте, и одному Йог-Сототу известно, что за ужасающие, вторящие стонам больной вселенной звуки он извлекал из своего инструмента, уединившись в отдаленной комнате на темном, поросшем пылью чердаке, словно лавкрафтовский Эрих Цанн, то я извлекаю рев какофонических, резонансных и безразличных к «человеческому» звуковых пульсаций небесных сфер и их посланий из гитары и электронных инструментов, выступая одержимым и невольным медиумом между outside-ом (темной изнанкой мира) и миром-для-нас, каждый раз погружаясь в божественный мрак незнания, который можно считать иным (не)Богом, гимны которому я воспеваю.
Разные формы творчества и тематику проектов, в которых я участвую, можно обобщить некой парадигмой, в рамках которой методом обзора с разных «вершин» исследуется одна и та же тема и улавливается единая концепция. Мой первый проект Kalendae был вдохновлен идеями так называемой темной экологии. Электронный проект Styrioth рассказывает о мире, в котором за один день исчезли все люди, осталась только природа и артефакты человеческой культуры, продолжающие жить собственной жизнью. PÅRÅÅU проявляется как темные манифестации бесчеловечного космоса, невыразимого древнего ужаса, пересекающегося в «outside»-пространстве с кибер/ксено-готическим будущим. Это некий не/человеческий импульс, предшествовавший первому нечленораздельному выкрику в начале мира. ΚΕΝΩΣΙΣ исследует таинственные глубины метафизики чужеродности и спекулятивного оккультизма, мамлеевский мистицизм сепарации Я, трансгрессивные состояния самооткровения космического тела, уже покрывшегося трупными звездами вселенной.
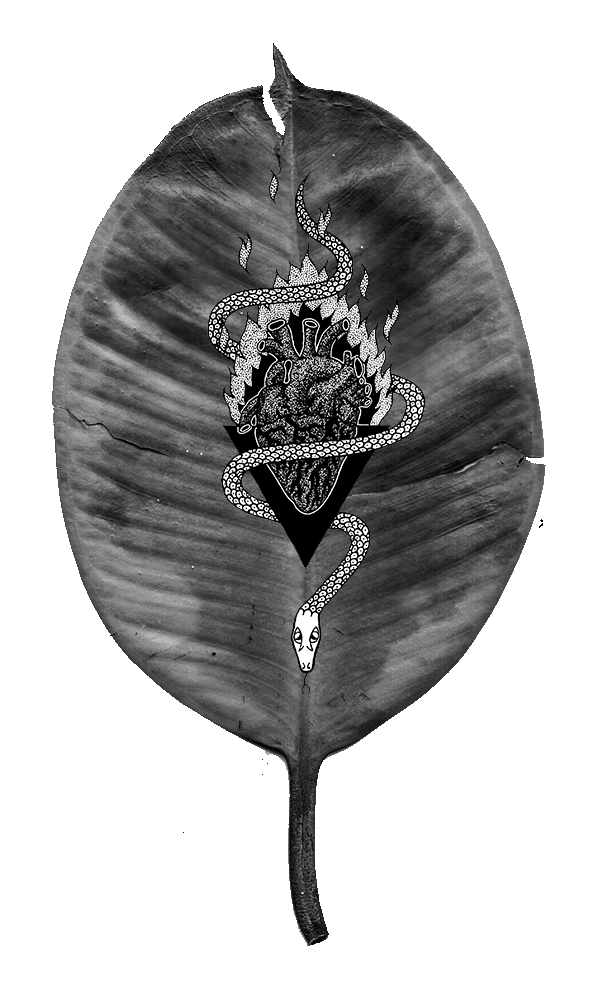
Помимо вышеупомянутых материалов, рекомендую ознакомиться с книгами издательства Hyle Press, выпускающего литературу по современной философии, а также с темно-каббалистическим трактатом Мэтью Уайтмана «The Serpent Siddur of the Nachash El Acher».
В данный момент я читаю работы Юджина Такера, связанные с биологической тематикой, «Интернет животных» Александра Пшеры, «Демократию объектов» Леви Брайанта, «Геомедиа» Скотта Маккуайера, «Стать экологичным» Тимоти Мортона и книги по молекулярной биологии, генетике и биоинформатике.
Зачастую читаю одновременно несколько книг и статей. Каждая книга требует особого подхода и осмысления, иногда перерывов. Ну и освежать/закреплять полученные знания тоже необходимо. Как говорил один из моих учителей, «Читать — значит перечитывать».
Ad Finem Amen!
 Леший (Sidekut Slave, «Неделя доброты», Virgin Pimp):
Леший (Sidekut Slave, «Неделя доброты», Virgin Pimp):
Книги из самого раннего детства, которые хорошо помню, — издание Милна, Линдгрен и Киплинг в зеленом переплете, конечно же. «Волшебник Изумрудного города», ну и Катаев с Гайдаром. В меру детской любознательности изучал то, до чего мог дотянуться на полках нескольких стоявших дома книжных шкафов, и довольно скоро начал дотягиваться до полок со словарями и энциклопедиями. Помню двенадцать томов советской «Детской энциклопедии», книги по мировой истории и этнографии, увесистые талмуды о морском деле, холодном и огнестрельном оружии, дикой природе, истории религии. Тематически — до смешного типичный набор пацана, начинающего забивать на футбол во дворе.
Потом, естественно, читал фэнтези и научную фантастику пока из ушей не полезло, какие-то книги о вульгарной мистике и паранормальном (все это — подростковая тяга к сладости знания о трансцендентном). Таскал у матушки сборники ее любимых русских символистов, к которым впоследствии крепко вернулся, ну и, помимо символистов, читал отдельные вещи из литературы европейского модернизма. Школьную программу освоил примерно на две трети — казавшиеся неинтересными вещи просто игнорировал, в чем до сих пор не каюсь. Зачем мне Горький и Радищев? Это же отрава.
В старшей школе я увлекся шумовой музыкой и обратил внимание на авангард десятых-двадцатых годов прошлого века. Дада, сюрреализм, футуризм здорово срезонировали с моим юным сердцем и навсегда очаровали. В принципе эта эпоха стала стартовой точкой, из которой я двинулся в своих штудиях — не только на поле литературного авангарда — одновременно вперед и назад во времени. Мне всегда нравилась идея о самодостаточности русской культуры, так что я стремился искать интересные вещи в ее границах: ОБЭРИУ, будетляне, эмиграция, Случевский, наконец.
На собственных делах это отражается просто — как и у любого другого подначитанного говнаря. Каждый второй деятель контркультурного искусства считает своим долгом декларировать «вдохновленность» собственного творчества наследием того или иного писателя — в меру собственного вкуса. Ницше, Бодлер, Лавкрафт, де Сад, Лотреамон, Мисима, Батай — общие места в библиотеках маргинальных музыкантов. Тексты песен насыщаются и перенасыщаются цитатами и реминисценциями, в отдельных (лучших) случаях артисты в манифестах или интервью обосновывают свое место в культуре, также ссылаясь на имена из прошлого. Хорошо получается только тогда, когда автору удается выйти за пределы грубой апроприации по принципу «лишь бы умно звучало» и либо оформить более-менее изящный интертекст, либо создать своего рода иллюстрацию к чужому произведению. К последнему можно вспомнить Лютомысла, Garrotte, (естественно) Peste Noire. Сам я «не ослеплен Музою моею», но не избегаю возможности подобным образом проиллюстрировать строки Бурлюка-старшего, Джона Хартфилда, Шарля Бодлера или Франсиса Пикабиа — иногда в виде служения, иногда в виде вызова. Интертекста в моей писанине тоже очень много — грешен.
Другой механизм влияния связан с тем, что, потребляя чужой текст и анализируя его, разбираясь в том, из чего он состоит и как создан, ты сам учишься работе со словом. Однако этот тезис я не готов здесь развернуть.
Сейчас параллельно читаю «Великое в малом» Нилуса, «Благоволительниц» Литтелла и «Оккультизм, колдовство и моды в культуре» Элиаде — выбираю в зависимости от настроения перед сном или же когда просто бывает скучно.
«Великое в малом» (с приложением в виде «Протоколов») — книга, которую интересно читать как через призму событий двадцатого века, так и пытаясь что-то разглядеть в будущем. Полагаю, нам не суждено дожить до того времени, когда она перестанет быть злободневной.
«Благоволительницы» провели примерно год в целлофане на полке, пока недавно не всплыли в разговоре с одним другом. Уже могу сказать, что вряд ли буду поражен до глубины души, впрочем, я большинство романов воспринимаю одномерно — в качестве простого источника удовольствия, удовольствия от чтения. Здесь Литтелл справляется на отлично.
Элиаде я на трезвую голову не читаю, так что не могу связно прокомментировать. Нравятся как его работы о мифах и символах, так и художественная проза, а самое близкое сердцу — несколько статей двадцатых-тридцатых годов, посвященных православию и румынской Железной Гвардии.
Из впечатливших меня в этом году книг могу вспомнить, наверное, только «Книгу скорбных песнопений» Нарекаци — de profundis clamavi великой силы и красоты. В отличие от многих знакомых, за новейшими изданиями «НЛО», «Гилеи» и прочих не слежу, непрочитанного в моем шкафу более чем достаточно.
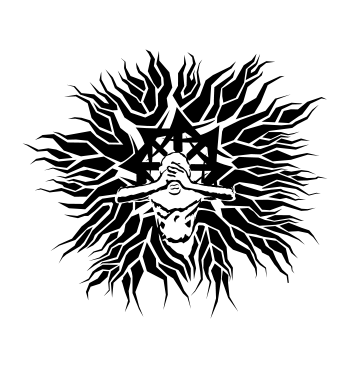 hnikarr (καχαγγέλιον):
hnikarr (καχαγγέλιον):
Должен отметить, что я до сих пор не уверен, что втянулся в чтение в принципе. Если говорить о детстве, и если верить родным, то читать я научился в два года, разбирая с мамой или бабушкой вывески и витрины по буквам, проходя мимо них или проезжая на автобусе (писать — руками — толком не научился и спустя три десятка лет). Годами позже это переросло в увлечение сакральными знаниями, сокрытыми в этикетках шампуней, гелей для душа и обертках туалетной бумаги.
Между вывесками и сотовыми телефонами было, конечно, прочитано много всего — достаточно для того, чтобы основательно испортить жизнь, но недостаточно для того, чтобы загубить ее совсем. Из совсем детского я помню только сборник стихов «Послушный зайчонок», импринтировавшийся неортодоксальной для Страны Советов версткой и немного даже босхианской визуалочкой (этого всего я, разумеется, еще не понимал, но, видимо, классовое чутье было уже тогда). Он, кстати, выпускается до сих пор: отчаявшись вспомнить название, нашел в поисковике издание 2017 года ровно в том же оформлении 1988 года от Александра Райхштейна, того самого, который придумал визуальный образ Поросенка Петра, — удивительно. Учитывая то, что больше никакой детской литературы я не помню, эту книгу можно считать первой формативной вехой. Хотя скорее ее визуальную, в каком-то смысле слегонца психоделичную сторону.
Помню, была небольшая библиотека классики приключенческой литературы, и я ее даже читал, потому что Надо Было — я вообще много чего читал, потому что так было Надо. Или мне это объясняли прямо, или я до этого доходил сам, но ничего почти из этого не отложилось. Надо понимать, что все эти айвенго-робинзоны-гулливеры, а также практически вся досоветская отечественная и мировая литература есть литература прежде всего дворянская, и, опять-таки, ввиду врожденного классового чутья я не мог в достаточной степени соотнести себя с протагонистами. Гораздо интереснее были читаемые украдкой «взрослые» книги: всякий трэш, бульварное чтиво, объединяемое в серии «Черная кошка», «Я — вор в законе», и подобный чад кутежа девяностых годов — это как-то больше соотносилось с современной картиной мира и вызывало тот или иной отклик. Если так посудить, читал я много (это плохо), но поверхностно и бессистемно — а вот это немного сокращает нанесенный ущерб.
В этом буйстве коричневых красок, впрочем, тоже можно выделить ряд ярких моментов, формативных вех.
Во-первых, это второе издание двенадцатитомной Детской энциклопедии (с, как сейчас сказали бы, DLC — тринадцатым томом «Познание продолжается»), к сожалению, утерянной. Шикарнейшее издание, на хорошей бумаге, с качественными и яркими иллюстрациями на вклейках. Я помню даже запах этих томов, в доступной форме излагающих выжимку суммы знаний, категорированную по нескольким направлениям. Сейчас, когда она по моей невнимательности давно выкинута, я жалею, что основное внимание уделял только разделам «Земля», «Мир небесных тел» и «Вещество и энергия». Как того требовал Владимир Ильич Ленин в эпиграфе к каждому тому, я не обогатил свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество, — не стать мне теперь коммунистом. Впрочем, апокалиптично изображенная эволюция ядер в цепочках радиоактивного распада урана и плутония на закрашенной черным вклейке врезалась в память, похоже, навсегда. Как и ужас в глазах нарисованного гуся, который стал внезапно тонуть в резервуаре с водой, потому что туда всыпали растворителя.
Во-вторых, следует отметить журнал «Трамвай», великое и ужасное творение девяностых, посредством которого авторы отгружали в неокрепшие умы рожденных перестройкой детей все подряд, отобранное по принципу непроходимости былого цензурного заслона. Самые первые номера были, конечно, термоядерными по напору странности: месиво из попыток привить вкус ко всяческому символизму, какой-то подчеркнутой чертовщины и введения в крестьянскую религиозность, попыток своеобразного актуального, но завуалированного комментария. Сейчас я думаю, что журнал авторы местами делали скорее для себя, чем для детей.
Потом журнал несколько уреспектабился, стал больше писать о динозаврах (о, эти коллекционные обложки). Кончилась эта фантасмагория, говорят, очень по-русски. Распространялся журнал по подписке, и вроде как редакция решила в духе девяностых крутануть фонд подписанных средств, на которые должен был печататься очередной тираж, и закупила в Финляндии фуру масла, которое предполагалось продать, а уже на эти деньги напечатать тираж — со вкусным остатком средств. Может, не фуру, а вагон или даже состав, — думаю, это не сильно важно. Важно то, что по легенде возникли проблемы с таможней, и масло, пока эти проблемы решались, испортилось. Трамвай уехал и больше никогда не возвращался.
На память о себе «Трамвай» оставил, в первую очередь, зарисовку Даниила Хармса «Связь», которую в целях данной беседы можно назвать третьей формативной вехой. Видимо, именно «Связь» заложила тот фундамент мирочувствования, который сегодня требует во мне больших нарративов, целокупных сюжетов, объективной истины и схождения звезд в кульминациях и отторгает открытые финалы, валидацию личного опыта, гносеологический плюрализм и прочий дегенеративный постмодернизм. Еще почему-то вспышками в памяти остались стихотворение Заболоцкого «Некрасивая девочка» и Гумилева «Я верил, я думал». Кажется, там только два последних четверостишия были из него.
В-третьих, возвращаясь к вопросам соотносимости с протагонистами художественной литературы и литтрэша девяностых, стоит вспомнить серию «Черный котенок», детско-юношескую приключенческо-детективную подсерию вышеупомянутой «Черной кошки». Помимо литературных алмазов, самих за себя говорящих названиями уровня «Мой папа — киллер» и сюжетами, в которых намешивали видеоигры с вызывающим сердечный приступ двадцать пятым кадром, битву разведок и наркоторговлю, был еще элемент ритуала, связанный с тем, что книги эти заказывались почтой. Их надо было ждать, они приходили ни разу не открывавшимися после выхода из типографии и запрессованными в картонную коробку: слова «анбоксинг» тогда еще, к счастью, никто не знал, но это был именно он. В оправдание себе сегодняшнему, презирающему физические носители и весь этот шорох страниц и хруст неразработанной обложки, могу сказать только то, что тогда нефизических носителей попросту не было, так что не считается!
По линии, связанной с кризисом, стоит выделить знакомство в рамках школьной программы с шолоховской «Поднятой целиной». Она запомнилась просоленной потом тельняшкой протагониста, спрятанной под рубахой на сиськах одной из его пассий, и довольно внезапным для меня убийством этого протагониста. Неожиданным и шокирующим был внезапный и какой-то очень будничный конец персонажа, раскрытию внутреннего мира которого столько внимания уделяло произведение. При этом книга-то на этом не кончается, там еще есть события, но они уже воспринимались через призму некоторого оглушения пониманием того, что живет человек, думает, планирует, а потом — jeb! Koniec. Nikt nie płacza, nikt nie wspomina.
Подоспевшее же где-то в это же время поверхностное знакомство с классической фантастикой — Стругацкие, Брэдбери, Хайнлайн, еще что-то — очень живо (или наоборот — мертво) донесло, что, даже если кто и заплачет и вспомнит, все равно это не имеет никакого значения и смысла. Человек ничтожен даже перед плодами своего труда, не то что перед силами природы и законами и масштабами Вселенной («Далекая Радуга» Стругацких, «Калейдоскоп» Брэдбери).
В этих красках пришло и закрепилось выворачивающее наизнанку осознание того, что не только я умру, обессмыслив весь свой опыт существования, но и вся Земля рано или поздно погибнет, а потом и вся Вселенная. Не оставив никаких возможностей для реализации фантазий инобытия верующих и надежд на какое-либо посмертное существование (сама формулировка глупая до ужаса: если после смерти есть существование, то это и смертью называть глупо же); а самое главное — обессмыслив вообще всю созидательную или разрушительную деятельность всех возможных разумных и не очень форм жизни в этой Вселенной.
Отдельно стоит отметить некоторые виновные удовольствия, скрасившие в свое время мое безотрадное по понятным уже причинам существование.
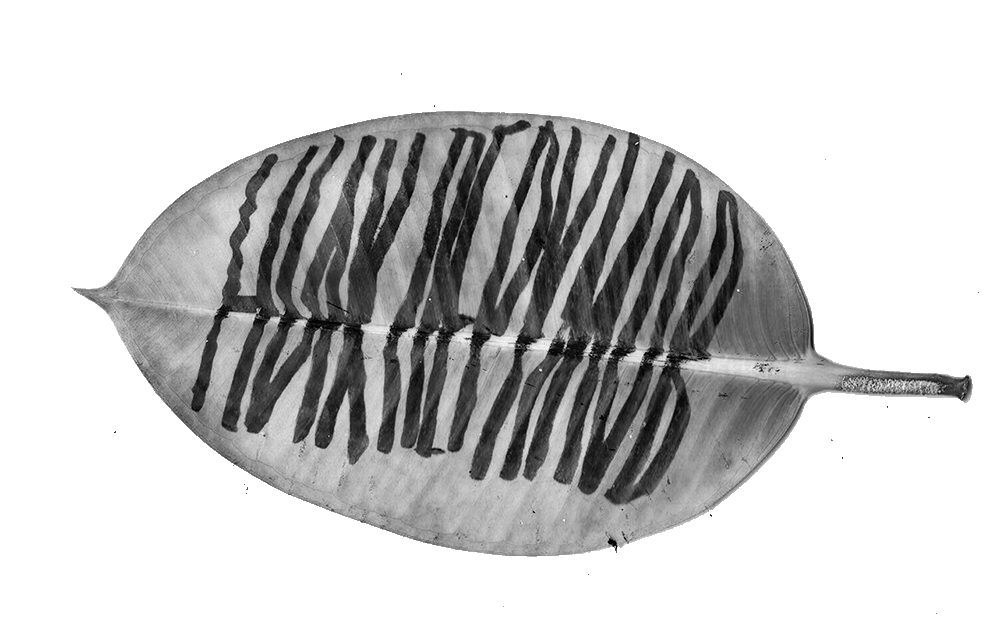 Ник Перумов — сколько в этом звуке слилось. Я читал, скажем так, среднего Перумова, когда он уже решил выйти на самостоятельное авторство, покинув вселенную Толкина, но еще не осознал себя Русским Писателем. Меня всегда приводил в восторг (я перечитывал — ощущение сохраняется) ужасный, графоманский и бедный язык повествования этого периода, по занятному стечению обстоятельств становящийся достоинством серии. Нелитературность слога создает ощущение летописного характера текста, будто бы это все не придумано активным сочинительским усилием, а просто записано, будучи узретым в очередных видениях, вызванных манкированием правилами техники безопасности при мытье чашек Петри ацетоном. Перумов, помимо того, что Русский Патриот и Человек, Уважающий Путина, еще и американский микробиолог (по крайней мере, был им). В последующих книгах появился Язык, стало ощутимым вот это сочинительское усилие, пошли самоповторы, а также более невозможно стало читать произведения, глядя сквозь совсем уж испортившуюся и ставшую поэтому непрозрачной личность автора.
Ник Перумов — сколько в этом звуке слилось. Я читал, скажем так, среднего Перумова, когда он уже решил выйти на самостоятельное авторство, покинув вселенную Толкина, но еще не осознал себя Русским Писателем. Меня всегда приводил в восторг (я перечитывал — ощущение сохраняется) ужасный, графоманский и бедный язык повествования этого периода, по занятному стечению обстоятельств становящийся достоинством серии. Нелитературность слога создает ощущение летописного характера текста, будто бы это все не придумано активным сочинительским усилием, а просто записано, будучи узретым в очередных видениях, вызванных манкированием правилами техники безопасности при мытье чашек Петри ацетоном. Перумов, помимо того, что Русский Патриот и Человек, Уважающий Путина, еще и американский микробиолог (по крайней мере, был им). В последующих книгах появился Язык, стало ощутимым вот это сочинительское усилие, пошли самоповторы, а также более невозможно стало читать произведения, глядя сквозь совсем уж испортившуюся и ставшую поэтому непрозрачной личность автора.
Перумов шел, конечно, в обойме другой русской фэнтэзи-фантастики (Лукьяненко, Камша, Еськов), но никакого значительного впечатления они на меня не произвели, разве что Головачев (запомнившийся меньше всего) стал таким автореферентным мемом в узком кругу людей, демонстрирующим беспомощность Русской Боевой Фантастики. Который уже, впрочем, в неравной схватке с годами-гадами развалился.
Тут стоит упомянуть и Пелевина Виктора Олеговича, хотя и не могу сказать, что я уж очень глубоко погрузился в его творчество, читал не всё, и с хронологическими пропусками. Подробно описывать, пожалуй, нет смысла; самое красочное и поучительное воспоминание связано, пожалуй, скорее с контекстом и фанбазой. Я не помню, в каком классе я тогда учился, но как-то так получалось, что по линии тусовки вокруг школьного ЧГК довольно много общался с более старшими учениками и кое-что у них перехватывал. В том числе Пелевина, тогда все зачитывались «Generation „П”», и очень модно, и важно было понимать роман и делать соответствующие жизненные выводы, не давать над собой власти анально-оральной-вытесняющей вау-факторной системе. Потом, разумеется, все российскими обывалами стали, только один парень, самый старший, уехал в Австралию. Но Россия его и там достала в виде незакрытого так по-родному халатными рабочими люка на дороге, в который он однажды ночью передним колесом мотоцикла и угодил без шансов на выживание.
Поскольку предполагается, что этот текст будет иметь отчасти программный характер, нужно упомянуть еще один паралитературный момент, который я использовал и использую в качестве паллиативного средства обфускации болезненно очевидной сути вещей, — компьютерные игры. Я настаиваю на том, что их (не все, разумеется, но те, которые можно охарактеризовать тэгом story rich) следует рассматривать именно как паралитературное, а не паракинематографическое явление — как по масштабности разворачивающихся в хороших играх событий, так и по необходимости определенных мысленных усилий для врастания в шкуру управляемого персонажа, для получения максимума эффекта от развертывающейся в игре истории. Так же, как и при чтении художественных книг, хорошо бы все визуализировать, мысленно отыгрывать, погружаться в происходящее; иначе зачем читать худлит вовсе?
Так и получается, что на сей день по работе и другим надобностям мне приходится постоянно много читать, отчего вырабатывается некоторое отвращение к писаному тексту, поэтому в свободное время я читаю очень мало и свои литературные потребности реализую в основном посредством цифровых виртуальных пространств. Но все равно не обходится и на работе без эффекта википедии: когда нужно прояснить какой-то возникший вопрос (в какой бы области он ни возник — от бурения до тонкостей торгового права) все равно через некоторое время ловишь себя на перечитывании сценариев тепловой смерти Вселенной, Большого Разрыва или туннелирования истинного вакуума.
Все же за последние год-полтора я прочитал два художественных произведения, которые не то чтобы поразили, но не прошли совсем по линии этикетки на бутылке йогурта: это «Библиотекарь» Михаила Елизарова и «Тайные виды на гору Фудзи» Пелевина.
«Библиотекарь» запомнился тем, что автору удалось во мне всколыхнуть и освежить эту вышеописанную эмоцию тягостной безысходности, зайдя со стороны дементивного безумия тайных эсхатологических обществ на осколках Союза. Впечатление было дополнено тем, что я, пусть и по рассказам кореша, имел возможность узреть процесс формирования подобных обществ — вернее, дуального общества Двух Тетрадей, связанного с записью на прием в областную стоматологию по ОМС и с самоустранением государства от всякого регулирования этого процесса. Крайне ограниченное предложение талонов, несоразмерное спросу, а также потребность избегания войны всех против всех в драке за эти талоны привели к возникновению Мифа и вытекающих из него правоотношений. Когда наблюдаешь такое спонтанное разыгрывание жизнью произведений искусства, то всегда захватывает дух, понимаю эмоции Невзорова*Признан властями РФ иноагентом., ведущего дневники нарождения посмертного культа Юлии Началовой.
В «Тайных видах» забавный момент в том, что в кои-то веки персонаж, который более всего походит на альтер эго автора, оказывается не протагонистом, а второстепенным персонажем в весьма незавидном положении (хотел написать, что и в далековатом от Просветления, но это на самом деле как посмотреть). Еще произведение запомнилось тем, что шершавый язык протухших мемов, которым написана «женская» половина книги, начинает уже откровенно бесить и вызывать отвращение.
К своим особым привычкам чтения могу отнести разве что некоторую запойность: я редко могу успокоиться, не дочитав начатое до конца, из-за чего возникают проблемы с усвоением слишком быстро проглоченной информации. Впрочем, если я читаю худлит, то не ради самой информации, а ради моментальных ощущений, возникающих при пропускании этой информации через себя, пусть она и не задержится. Несмотря на то, что, в отличие от вызывающей их информации, эти ощущения в памяти как раз остаются, — мне этого не требуется. Как не требуется, например, запоминать свежий воздух. Ему нужно просто пройти по кругу кровообращения и сделать свое дело тогда, когда это нужно. Впрочем, и контекст свежего воздуха тоже имеет свойство задерживаться в памяти до определенной степени.
После такого долгого вступления уже нужно и отметить, как эта тяжкая и бессмысленная умственная ноша отражается на творчестве. Во многом, думаю, понятно как: καχαγγέλιον по-гречески означает «дурная весть», и, думаю, понятно, о чем она (если непонятно — можно переслушать). Отражение получается двухступенчатым — читательский багаж вкупе с разными внелитературными обстоятельствами создает проблему снижающих качество существования депрессивных, ангедонических состояний, а творчество, в свою очередь, выступает одним из хорошо известных способов хотя бы частично такие состояния купировать, вывалив их на голову незадачливому потребителю.
Тут можно заметить, что я сказал практически только о художественной литературе и не затронул никакого социально-философского нон-фикшна, которым порой любят козырнуть относящие себя к black metal-сообществу. Действительно, я ничего этого не читаю, отчасти потому, что изрыгать шизофазичные последовательности нефальсифицируемых высказываний я при большом желании могу и сам, поэтому попадать под влияние былых попыток давно мертвых людей установить свою семантическую власть особого смысла не вижу. Но и не вижу, однако, греха в том, чтобы почитать порой о жизни и деяниях того или иного буревестника, там бывают забавные вещи. С другой стороны, могу, умею (кажется) и практикую выдергивание цитат из работ классиков — намеренно без ознакомления с собственно работами — для последующей ресемантизации их в новом контексте лирики для того или иного трека, такое в некотором роде хулиганство, ложная отсылка для умников. На этом, пожалуй, стоит умолкнуть, а то я слишком сильно раскрываю свои цеховые секреты.