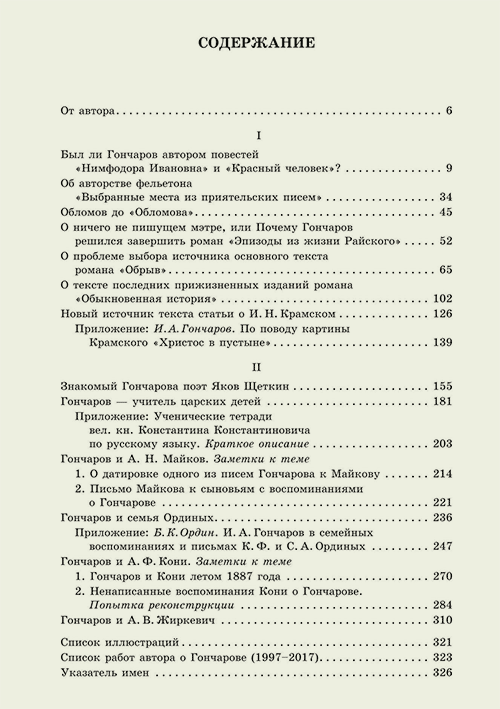«Гончаров плохо писал, но хорошо вычеркивал»
Интервью с Алексеем Балакиным, специалистом по творчеству автора «Обломова»
Расскажите, пожалуйста, вкратце о вашей новой книге. В нее вошли довольно специальные тексты, поэтому дальше хотелось бы поговорить с вами о Гончарове и его творчестве в целом.
 Я выпустил книгу материалов для биографии Гончарова, для летописи его жизни и творчества, ну и вообще для тех, кому просто интересна личность этого писателя. Меня больше всего интересуют вопросы текстологии и вопросы литературного окружения автора «Обломова». Я нашел в архивах некоторое количество связанных с ним писем, мемуаров и других текстов, поэтому в основном книгу составляют комментированные архивные находки и обсуждение текстологических проблем. Например, меня интересуют атрибуционные проблемы: давным-давно авторству Гончарова была приписана повесть «Нимфодора Ивановна», позднее — повесть «Красный человек». Я пытаюсь показать, что это все-таки не он написал, там от Гончарова совсем ничего нет. Не менее интересны текстологические проблемы, связанные с «Обрывом» и с «Обыкновенной историей», а также проблема авторизации его последних собраний сочинений. Кроме того, я опубликовал неизвестную редакцию статьи Гончарова о Крамском. Довольно любопытная история: в архиве издателя Миролюбова я нашел копию этой статьи, текст которой серьезно отличается от сохранившейся черновой рукописи, причем ни один из вариантов не выходил при жизни Гончарова. Я пытаюсь понять, насколько авторизован этот текст и кто вообще мог его править. Мне кажется, что все-таки эта копия была сделана с какого-то другого текста, исправленного самим Гончаровым, а не поздними редакторами. А вторая часть книги — это в основном Гончаров и его современники.
Я выпустил книгу материалов для биографии Гончарова, для летописи его жизни и творчества, ну и вообще для тех, кому просто интересна личность этого писателя. Меня больше всего интересуют вопросы текстологии и вопросы литературного окружения автора «Обломова». Я нашел в архивах некоторое количество связанных с ним писем, мемуаров и других текстов, поэтому в основном книгу составляют комментированные архивные находки и обсуждение текстологических проблем. Например, меня интересуют атрибуционные проблемы: давным-давно авторству Гончарова была приписана повесть «Нимфодора Ивановна», позднее — повесть «Красный человек». Я пытаюсь показать, что это все-таки не он написал, там от Гончарова совсем ничего нет. Не менее интересны текстологические проблемы, связанные с «Обрывом» и с «Обыкновенной историей», а также проблема авторизации его последних собраний сочинений. Кроме того, я опубликовал неизвестную редакцию статьи Гончарова о Крамском. Довольно любопытная история: в архиве издателя Миролюбова я нашел копию этой статьи, текст которой серьезно отличается от сохранившейся черновой рукописи, причем ни один из вариантов не выходил при жизни Гончарова. Я пытаюсь понять, насколько авторизован этот текст и кто вообще мог его править. Мне кажется, что все-таки эта копия была сделана с какого-то другого текста, исправленного самим Гончаровым, а не поздними редакторами. А вторая часть книги — это в основном Гончаров и его современники.
А как вы начали заниматься творчеством Гончарова?
Это длинная и довольно поучительная история. В университете и потом в аспирантуре я ни в коей мере не предполагал, что буду хоть как-то связан с Гончаровым. Еще студентом я занимался в семинаре Бориса Лаврентьевича Бессонова по биографике (в нем участвовали люди, так или иначе связанные с редакцией словаря «Русские писатели»), поскольку мой диплом был посвящен неизвестным поэтам и писателям 1820–1830-х годов. Одним из моих персонажей был поэт Яков Александрович Щеткин, посещавший дом Майковых, где был своим человеком Гончаров. В тот же семинар ходила Анна Глебовна Гродецкая, сотрудник гончаровской группы, и она знала, что я занимался письмами Майковых, чтобы найти там многочисленные упоминания о Щеткине. Поэтому я был более-менее в курсе, что происходило в этом доме, и в какой-то момент мне дали задание, которое я, к стыду своему, так до сих пор и не выполнил: написать для словаря статью про Альберта Викентьевича Старчевского.
Здесь надо отвлечься и упомянуть вот о чем. Еще учась в университете, я работал в издательстве «Северо-Запад», и в том числе редактировал книгу стихов Андрея Белого, которую подготовил Александр Васильевич Лавров. Издание предполагалось для «Литпамятников», но этот проект не состоялся, и Лавров отдал книгу нам: хотя у нас она тоже не вышла, я успел с ней немножко поработать. Так вот, у Белого упоминалось слово «пепиньерки», и Лавров в примечаниях объяснял, о чем идет речь, а мне показалось, что он не очень правильно их определяет. Мы с ним немного поспорили на эту тему, и каждый остался при своем мнении. И вот начинаю я работать над Старчевским (это была осень 1996 года), захожу в рукописный отдел Пушкинского Дома, листаю картотеку, и вдруг за Старчевским вижу карточку с таким автором и названием: «Старый блаженный. Пепиньерка. 1842 год». Я вспоминаю Лаврова и думаю: теперь-то я точно узнаю, кто такая пепиньерка. Я взял рукопись, начал читать и сразу понял, что этот текст явно вышел из майковского дома, все приметы об этом говорят. А под конец мне начало казаться, что автор — Иван Гончаров, но я же в здравом уме человек и понимаю, что этого не может быть. Пошел в гончаровскую группу к Анне Глебовне Гродецкой, попросил посмотреть: мол, нашел интересный текст, явно вышедший из майковского дома, называется «Пепиньерка». Тут они чуть не подпрыгнули: оказывается, это известная только по названию гончаровская повесть, упомянутая им в одном из писем, и ее искали много лет, но совсем не в тех архивных дебрях, где она лежала.
Как же она туда попала?
Когда умер Гончаров, часть его архива досталась дочери Александра Васильевича Никитенко, Софье Александровне, которая по сути была его секретарем. Она, в свою очередь, умерла бездетной и передала эти бумаги вместе с документами отца своим дальним родственникам. После революции они решили эмигрировать, захотели продать этот массив и сделали опись рукописей. В фонде в том числе были раздел «Сочинения Гончарова» и, среди прочих, рукопись «Пепиньерки». Когда архив Никитенко поступил в Пушкинский Дом, почему-то именно эта рукопись откололась от других гончаровских сочинений, бывших у Никитенко, и ее никто не мог найти. А поскольку автор на карточке и в описи не значился, только случай привел к тому, что я ее нашел. Естественно, если бы я не знал ничего про майковский кружок, если бы не поспорил с Александром Васильевичем, то никогда бы не нашел эту повесть. Это была микросенсация — неизвестный гончаровский текст.
Его быстро опубликовали?
К тому времени уже был готов первый том академического собрания Гончарова, повесть быстро туда вставили, и почти одновременно с этим в журнале «Русская литература» вышла наша совместная с Гродецкой публикация.

И с тех пор вы изучаете наследие Гончарова?
Вскоре из гончаровской группы ушел один сотрудник, и меня позвали туда, сначала на временную ставку, потом на постоянную. Я подумал, что в Пушкинский отдел мне не попасть — это было крайне сложно, как и сейчас, — поэтому от такого предложения невозможно было отказаться.
В массовом сознании Гончаров существует как автор романной трилогии (первый роман был опубликован, когда ему исполнилось уже 35 лет) и, пожалуй, «Фрегата „Паллада”». А с чего он начинал?
Гончаров — один из тех авторов, которые поздно созревают. Собственно, о раннем Гончарове нам практически ничего не известно, первое его сохранившееся письмо относится к 1842 году, когда ему уже исполнилось тридцать лет. При том известно, что Гончаров писал много писем: скажем, когда учился в Москве, он писал домой, но ничего не сохранилось. Однажды он случайно обмолвился о своем литературном дебюте, переводе из Эжена Сю, сделанном в 1832 году. От этой даты отсчитывают начало литературной деятельности Гончарова, но, по сути, она началась только спустя пятнадцать лет — хотя нам известно, что Гончаров сначала писал для узкого круга, посетителей дома Майковых, там выходил рукописный журнал «Подснежник», в котором были опубликованы его стихи.
Если не ошибаюсь, эти стихи он потом приписал Адуеву-младшему, герою «Обыкновенной истории»?
Да. Еще были две повести — «Лихая болесть» и «Счастливая ошибка» — это, можно сказать, проба пера. Они сейчас интересны, наверное, только людям, которые всерьез увлечены Гончаровым. «Лихая болесть» близка к психологическому очерку, такой юмористически-сатирический рассказ; «Счастливая ошибка» — светская повесть, тоже весьма в духе тех лет. Уже после «Обыкновенной истории» вышел очерк «Иван Савич Поджабрин», который сам писатель датировал 1842 годом, вполне зрелое произведение. Я считаю, что это прекрасная вещь, один из лучших текстов Гончарова. Были подобные попытки уже позднее, когда он в восьмидесятые годы продолжил работать в той же манере (очерки «Слуги старого века», «Май месяц в Петербурге»), они, конечно, слабее, чем «Поджабрин».
Широко распространена точка зрения, что бурное развитие романа XIX века тесно связано с подъемом буржуазии, но если понимать ее буквально, то, на мой взгляд, именно Гончарова можно с полным основанием назвать создателем русского буржуазного романа.
Не удивительно, ведь Гончаров сам вышел из купцов, его отец достаточно крупный купец. С другой стороны, Министерство финансов, где служил писатель, было гнездом зарождающегося капитализма. Очевидно, там, в среде крупных и средних чиновников, и созревала идея «нашествия капитализма». Это люди, которые создавали свои конторы, предприятия. Какие-то из них процветали, какие-то разорялись. В частности, среди близких знакомых Гончарова был Михаил Александрович Языков, организовавший контору по доставке различных вещей, она некоторое время успешно работала.
Гончаров объективен в изображении героев, но, когда он описывает русскую деревню, поместье, он любуется ею, пусть Обломовка — царство мертвого сна. Неоднократно отмечалось, что в «Обрыве» лучшие страницы посвящены «старому миру» и его представителям: Татьяне Марковне Бережковой, Марфиньке.
Более того, «Обрыв» сначала печатался отрывками, в 1860–1861-х годах, и фрагмент, опубликованный под названием «Бабушка», ничуть не уступает по силе «Сну Обломова». Позднее Гончаров очень быстро доделывал «Обрыв», пересматривал эти главы и, честно говоря, многое испортил. Он их сократил, убрал оттуда много мелких обаятельных деталей, и то, что мы читаем сейчас, конечно, производит впечатление, но это тот случай, когда надо читать именно первый вариант.
В действительности такая идиллия Гончарова совершенно не привлекала, а то, что он так это описывал, — вероятно, следствие детских воспоминаний, которые оттенены тем, что в достаточно юном возрасте он был оторван от дома и помещен в Московское коммерческое училище.
Какой из своих романов сам Гончаров больше всего любил?
Гончаров больше всего любил «Фрегат „Паллада”», он говорил, что «из всех моих книг эта не принесла мне никаких огорчений, а принесла только радость», потому что он ее писал фактически как отчет о путешествии, представил ее Константину Николаевичу, морскому министру, а отрывки из этого произведения сразу стали включаться в хрестоматии. Гончаров говорил, когда переиздавал книгу в 1879 году, что из всех родов сочинений путешествия держатся, пожалуй, дольше всего, и «Фрегат „Паллада”» не исключение.
А как же его трепетное отношение к «Обрыву»?
Это удивительный случай, потому что на «Обрыв» не было почти ни одной положительной рецензии. Конечно, были небольшие исключения: когда «Обрыв» печатался по частям, в газетах мелькали более-менее положительные отзывы, но, когда он вышел целиком, никто не сказал о нем ни одного хорошего слова, и Гончаров был очень огорчен. Видимо, роман получился очень личный, что-то такое было вложено в него, что его это сильно задевало. Кстати, весьма интересны черновики «Обрыва» и не вошедшие в окончательный вариант главы. Мы с коллегами шутим, что Гончаров плохо писал, но хорошо вычеркивал.
Можно ли назвать его романистом-новатором?
Думаю, да. Язык и стиль его романов, конечно, новаторские. Мне кажется, что новая русская литература, как она сейчас выглядит, началась в 1847 году с публикации двух романов: «Кто виноват?» и «Обыкновенная история». Оттуда можно вести отсчет современного языка и тех литературных форм, которыми романисты мыслят и по сей день. Гончаровский стиль как воздух — он неуловимый, его очень сложно описать. Вроде читаешь, и так гладко написано — непонятно, что в этом такого, текст как вода. Понятно, что, когда пьешь лимонад, можно сказать: вот вкус лимона, вот вкус апельсина — но очень трудно объяснить, чем одна вода отличается от другой.
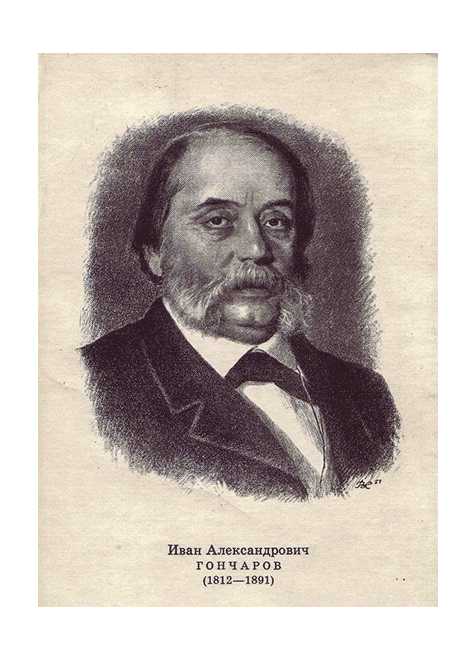
Гончарову удалось то, что удавалось немногим русским писателям: он создал Обломова, универсальный литературный тип вроде Дон Кихота или Гамлета.
Универсальный бренд, я бы сказал. У нас даже была идея сделать обломовскую энциклопедию, но не такую, как онегинская, потому что она представляет собой по сути тот же комментарий, только иначе упорядоченный. Мы хотели дать более широкий контекст, литературный и исторический фон, попытаться учесть большое количество всяких феноменов, в их числе рестораны, фирмы, спектакль «Облом off» Михаила Угарова, пиво «Обломов», кабачковая икра, тот же Вася Обломов и так далее. Обломовых на самом деле очень много, просто мы не всегда о них помним.
А как вы думаете, почему именно Обломов так популярен в России?
Тут можно назвать множество факторов, и ни один не будет определяющим. Во-первых, само слово легко произнести и легко запомнить — Об-ло-мов. Во-вторых, мы любим лениться, а оно предполагает лень. Лениться, полежать на диване. Пожалуй, все мы воспринимаем мечту Обломова как собственную, затаенную и неосуществимую. Каждый в душе хочет быть Обломовым. Даже тот, кто встает в восемь, в девять садится за письменный стол и в семь встает из-за него, все равно в душе иногда говорит: «А не поступить ли мне как Обломов?» Еще один важный момент, отвечающий на вопрос, почему «Обломов» и «Обыкновенная история» более сильные романы, более гончаровские, чем «Обрыв»: в них Гончаров не позволяет себе давать нравственные оценки, там нет ни злодеев, ни праведников. Белинский совершенно гениально сказал, что он живописует людей как есть, чтобы читатель мог сам составить свое впечатление. Спор о том, кто лучше, Штольц или Обломов, совершенно бессмысленный: они как два ростка, появившиеся на одной и той же почве.
Однако именно нравственные оценки усиленно искали в них критики на протяжении многих десятилетий.
Гончаровские тексты как пушкинские: они настолько объемны, что туда можно вместить почти любой смысл (или попытаться его оттуда достать). В общем, это проблема уже не истории литературы, даже не филологии, а того, что сейчас за рубежом называется literary criticism: извлекать из текста смыслы, и даже такие, которые автор туда и не вкладывал. А «Обломов» неоднозначен и поэтому для такого подхода чрезвычайно удобен, такое с ним регулярно проделывают. Недаром этот роман очень популярен в Германии. Несколько лет назад Вера Бишицки, замечательный переводчик, издала новый немецкий перевод «Обломова». У нее было интервью в «Штерне», выступление по национальному немецкому радио, тираж тут же разошелся, а я подумал: «Вот перевели бы сейчас заново „Оливера Твиста”, кто-нибудь вообще заметил бы это?».
Мне кажется, что важная черта произведений Гончарова — очень осязательная описательность, если можно так выразиться: весь этот быт, описание мелькающих локтей Пшеницыной, запах перемолотого кофе с ванилью. Такая литература обращается не только к уму и сердцу, но и непосредственно к органам чувств.
Да, причем, в отличие от Гоголя, у него это совершенно не педалируется, там нет никаких гигантских перечислений. Гончаров не пытается описать каждый предмет, лежащий на столе, но его отбор материала таков, что позволяет увидеть все будто бы собственными глазами. Текст у него чрезвычайно многомерный и многоплановый, он позволяет увидеть предмет не только как картинку, а словно обходишь его со всех сторон, причем так обстоит дело не только с вещами, но и с любым явлением, душевным движением. При этом нет никаких оценок: писатель так увидел, так подошел, так посмотрел.
На рецепции «Обломова» существенно сказалась знаменитая статья Добролюбова. Вы говорите, что этот текст предполагает множество толкований, но тем не менее многие годы господствовало именно такое прочтение: «обломовщина», крепостническая Россия и т. п.
Статья Добролюбова прекрасна, однако она всегда интерпретируется очень упрощенно. Конечно, вектор задал Ленин: у него довольно много высказываний про Обломова, которые легко ложатся на то, о чем пишет Добролюбов. Но для Добролюбова практически любая статья — повод поговорить об общественном, для него любой роман — предлог для разговора о том, что его самого тревожит. При этом он отдает должное мастерству Гончарова. Я совсем недавно перечитывал эту статью; она прекрасно написана, совершенно замечательно. Видно, что автору статьи роман нравится, но о самом произведении Добролюбов пишет очень мало, он проецирует Обломова на современную ему действительность. Разумеется, реальные обломовы, которые живут рядом с Добролюбовым, ему отвратительны, и он об этом прямо сообщает. Нужно помнить, когда он работал над этим текстом — 1859 год. Разумеется, он дышал воздухом реформ, и было непонятно, как жить дальше. Недавно закончилась Крымская война, Россия не знала, какой путь выбрать, потому что старые идеологические схемы полностью развалились и перестали работать. Почему Чернышевский пользовался такой популярностью? Потому что он показал, какие люди должны прийти на место тех, которые, грубо говоря, проиграли Крымскую войну и составляли, на первый взгляд, прекрасно организованную бюрократическую систему, ее костяк. А теперь понадобились какие-то другие люди, которые будут жить по каким-то другим правилам, думать не так и жить не так, как прежде. И, безусловно, Добролюбов прекрасно понимал, что Обломову среди них не место, — отсюда и его отношение к этому герою.
Вы упоминали о сложном характере Гончарова, а как вообще его воспринимали современники?
Гончаров был человеком чрезвычайно закрытым, мемуаров о нем очень мало, сборник воспоминаний современников о Гончарове — самая тонкая книжка во всей русской мемуарной литературе. Правда, я нашел кое-что и опубликовал в своей новой книге, но погоды это все равно не делает. Изначально он был человеком одиноким, жены и семьи не имел, предпочитал общаться с высшими и средними чиновниками, особенно в старости. Среди его корреспондентов были женщины, он любил им писать, но все они дружно сожгли его письма, о чем он попросил в статье «Нарушение воли». Хотя писем осталось довольно много, но процентное соотношение того, что дошло и не дошло, совершенно колоссальное. По сути, нет ни одного мемуара за авторством его близких друзей. Даже Анатолий Кони, довольно тесно общавшийся с писателем, написал свой текст о Гончарове скорее как литературный критик, а не близкий приятель. В своей книжке я пытаюсь показать, почему так вышло. Лучшие мемуары о Гончарове сочинены в формате «Моя случайная встреча с Гончаровым».
Много такого?
Большая часть. Они написаны людьми, которые плохо знали Гончарова, видели два-три раза в жизни и оставили воспоминания типа «он взял меня под ручку, мы гуляли по Невскому проспекту, и он начал раскрывать свою душу». Еще есть очень краткие дневниковые записи. Осталось некоторое количество мемуаров его родственников, написанных по просьбе М. Ф. Суперанского, одного из первых биографов Гончарова, и некоторые из них даже не вошли в первое издание книги «Гончаров в воспоминаниях современников», поскольку они крайне негативные. Например, сборник открывается так называемыми мемуарами Потанина, которые представляют собой «случай так называемого вранья», это теперь доказано, но вранье там такое красивое, что без него никак не обойтись. Нельзя же не процитировать Потанина, который пишет о его семье, о том, как Гончарова встречали в Симбирске. Хотя он не видел этого вообще, описано все так интересно и подробно, что все знают: вранье — и все равно цитируют.
Значимость творчества Гончарова сомнений не вызывает, а можно ли сказать, что он на кого-то из последующих авторов повлиял стилистически? Последователей того же Гоголя, например, можно перечислять и перечислять.
Думаю, что нет, по указанной выше причине: Гончаров слишком прозрачен, и очень трудно понять, откуда проистекает его стилистическая прозрачность. «Обыкновенная история» совершенно идеальный роман, выстроенный и вычерченный, его очень удобно разбирать, но уже «Обрыв» гораздо более сырой текст. Рыхлая конструкция и персонажи, сюжетные линии уходят в никуда — не исключено, что при более тщательной обработке автор многие из них бы просто выкинул.
_____________________________________________