Глянец для научной коммуникации
Егор Быковский о том, как сделать ученого кумиром для зумеров, а научпоп — бестселлером
В последние десятилетия научно-популярные книги, издания, подкасты и видеоблоги пользуются неизменным интересом читателей, зрителей и слушателей: сегодня, как и в советские времена, образованная публика хочет знать, где пролегает передовой край науки, чем занимаются ученые и даже что они собой представляют как члены профессиональной корпорации. Но сами ученые далеко не всегда могут и хотят рассказывать широкой аудитории о своей работе. Как правило, эта задача ложится на плечи научных журналистов, которые — если они хорошо справляются со своей задачей — и становятся в глазах общественности истинными проводниками научного знания в массы. Специально для «Горького» сотрудники Центра междисциплинарных исследований МФТИ поговорили об этом с Егором Быковским, российским журналистом, медиаменеджером, многолетним главным редактором научно-популярных порталов «Чердак» и «Вокруг света», а ныне — директором Центра научной коммуникации МФТИ.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
— Егор Владимирович, вас по справедливости можно назвать пионером и ветераном научной популяризации в России: кажется, что вы знаете об этом предмете все и даже немножко больше. Поэтому именно вас особенно хочется расспросить о том, как менялся медийный образ ученого от позднего СССР до наших дней.
— С удовольствием расскажу, ведь мне и самому этот вопрос очень интересен. Я рос в семье, что называется, интеллигентной и сызмальства читал кучу научно-популярных журналов. Научных не читал, а вот на научно-популярные журналы мы были подписаны на все. У нас дома были и «Знание — сила», и «Наука и жизнь». «Знание — сила» я любил больше всего. Еще я выписывал всякие журналы вроде «Юного техника» и «Юного натуралиста» и смотрел научно-популярные фильмы. И потом, пересматривая их уже в более или менее зрелом возрасте, я сообразил, что образ ученого за время существования Советского Союза менялся очень сильно. Я сейчас попробую буквально в паре слов сформулировать свои соображения.
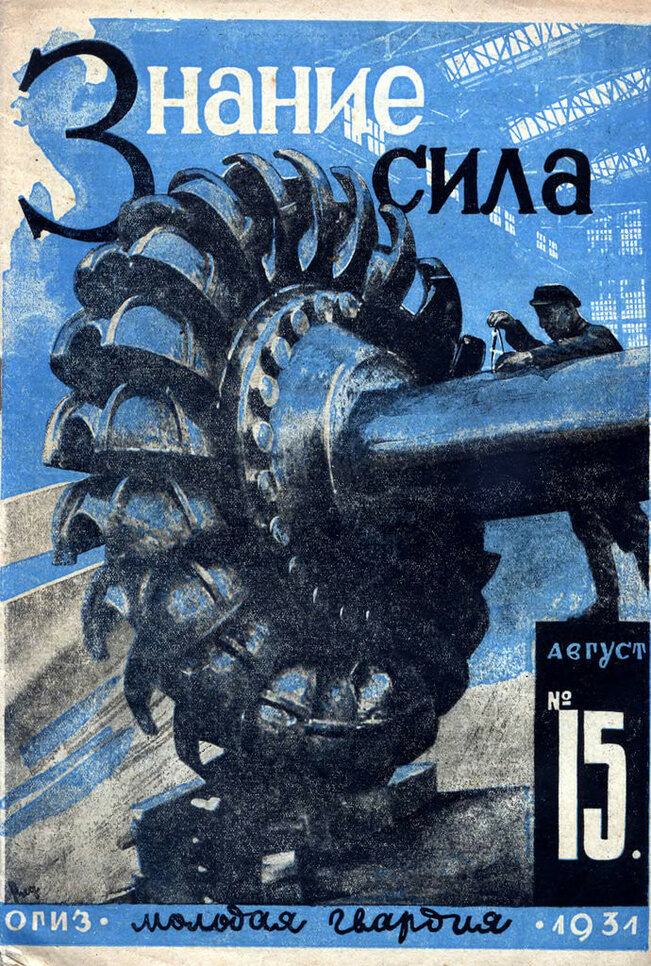
Сначала, как, наверное, не только в Советском Союзе, но и повсюду, преобладал образ ученого-чудака, каким его можно увидеть, например, в фильмах 1920-х годов. В них научная деятельность главного героя мотивируется его мечтами о межпланетных перелетах, а сам он похож на сумасшедшего профессора. А дальше эта модель начала сильно меняться, и в 1930–1940-х годах появился образ, который потом продержался очень долго: ученый-старец, эдакий волшебник. Часто этот реальный образ списывался с натуры, с реальных людей: герои действительно похожи на Вернадского, Мичурина или Циолковского. Если вы помните старые советские фильмы, там все эти академики как с одного человека писаны.
Потом — видимо, со смертью Сталина и началом оттепели — опять все поменялось, причем еще радикальнее. Ведь если «мудрый старец» был ближе к своему предшественнику, «сумасшедшему профессору», то следующий тип — это фигура ученого-мученика, как в знаменитом фильме «9 дней одного года». Достаточно популярным становится и образ ученого-государственника: его можно увидеть, например, в фильме 1974 года «Открытая книга». То есть образ ученого, по мере того как Советский Союз проходил все степени взросления, от младенчества до старости, очень сильно менялся, причем менялся от почти комического до вполне серьезного, почти возвышенного, обретая черты настоящей ролевой модели.
И в этом смысле характерно, что в фильме 1990 года «Человек из черной „Волги“» на первый план выходит фигура ученого-подлеца: эта фигура, кстати, еще заявит о себе в перестроечных фильмах, даже скорее в позднеперестроечных. А в 1990-е годы ученый как тип героя вообще выпал из медийного поля. Что мне лично было очень грустно — ведь это время пришлось на очень активный период в моей жизни, с 22 до 32 лет. Я занимался тогда научной и отчасти технологической журналистикой, а вначале еще и немножко наукой. Но в том, чтобы заниматься наукой, тогда совсем не было никакого смысла. Не столько потому, что на это в 1990-е годы не было денег — а их действительно не было, — сколько потому, что образ ученого был совершенно непривлекательным. Ученые производили впечатление каких-то серых заморышей. Прежние советские образы рассыпались, новый не был создан.
Можно спросить себя: те ученые, которые не уехали, как уехали сотни и сотни, почему они остались? Ну кто-то из них очень любил родину, а кто-то, и таких большинство, были учеными не очень крепкими и хорошими, скажем прямо. В качестве ролевой модели они не годились, но сами при этом следовали ролевой модели поведения ученого, которая была принята в Советском Союзе при государственном распределении средств по госзаданию. То есть ни медиа, ни публика им не были нужны вообще — они к этому привыкли. И вот получилось так, что в 1990-е годы ученых в медиаполе не было, а сами они и не хотели туда попасть.

— А что же было дальше — после этого провала?
— В конце 1990-х я переключился с политической журналистики на материалы об интернете, технологиях, постепенно — и о науке, которые публиковались в журнале «Итоги», куда меня пригласил мой старинный приятель Сережа Пархоменко*. Сережа был одновременно и владельцем двух издательств, «Иностранки» и «КоЛибри». И вот в какой-то момент, в 2003 или 2004 году, я пришел к нему и говорю: «Давай мы с тобой издадим какую-нибудь популярную книжку!» И это сейчас звучит совершенно нормально. В Москве тысячи людей, которые пишут популярные книги и издают их, или переводят, или читают. А вот четверть века назад было так: заходишь в книжный магазин, хочешь купить что-нибудь про науку — и что ты можешь купить? Учебник. Всё. Никакой научно-популярной литературы не было в принципе. В это сейчас трудно поверить, но ее вообще не существовало. Издательства ее не выпускали, это было неинтересно, но и времена были победнее, не было ни спроса, ни предложения.
Я тогда как раз был главным редактором журнала с несколько безумным названием «Что нового в науке и технике». Несмотря на название, он издавался по лицензии американского журнала Popular Science с миллионными тиражами. И журнал мой был достаточно успешен тогда, в 2004 году. И вот я нашел изданную в Америке книжку «В дальнем левом углу лаборатории». Ее написал известный американский научный журналист. Там были приведены случаи всяких странных исследований, примерно таких, как у номинантов на Шнобелевскую премию сейчас. Она была очень смешная, я прочитал ее с удовольствием, решил заплатить за перевод и опубликовать у себя. И я сказал Пархоменко: «Вот смотри, книжка-то уже переведена, фактически за мои деньги. Давай ты вложишь еще немножечко как издатель, и мы напечатаем хотя бы 3000 экземпляров». Он сказал: «Давай не будем печатать 3000, все равно это никто не купит, научпоп у нас в стране не работает». Они напечатали, по-моему, 2000 экземпляров, тут же продали, тут же допечатали еще две, еще и еще. Это была одна из первых научно-популярных книг в России, хорошо продавшихся. И с тех пор имя им миллиард, и я очень доволен, что дальше этим занимался не я, а специальные хорошо обученные и подготовленные люди вроде сотрудников фондов «Династия»* и «Эволюция». Есть масса хороших издательств, которые этим занимаются. И очень хорошо.
Образ ученого тем временем тоже сильно изменился. В 1990-х он вообще отсутствовал как таковой. Потом, в 2000-х годах, стал возвращаться в немножко карикатурном виде. Сначала пытались реанимировать его в той форме, в какой он сложился в советское время. Но эта попытка быстро провалилась, потому что, как я думаю, полностью сломалась и совершенно перестроилась система финансирования в науке, которая сейчас не имеет ничего общего с тем, что было при Советском Союзе. Деньги, конечно, и тогда были деньгами, но теперь очень много места в системе финансирования занимает грантовая система, а для того, чтобы победить в грантовой конкуренции, нужно быть «в кавычках» — entre guillemets, как говорят французы, — медийным человеком. Уметь себя подать и продать. Да, наверное, есть еще какие-то корифеи, которым за 70 и которые не любят журналистов по разным причинам. Среди них есть люди, которые просто не воспринимают журналистов и считают, что им не надо ничего рассказывать, потому что они ничего не понимают и вообще публика — дура. Таких осталось очень мало. Среди хороших ученых таких вообще-то и было мало. А есть люди, которые не любят журналистов из-за собственного негативного опыта. Такие, например, как мой старый добрый знакомый — академик Говорун. И вот он ни с кем из журналистов не беседует, кроме меня, потому что я познакомился с ним не как журналист. Таких тоже меньшинство.
Большинство ученых, хороших ученых, — это люди в возрасте между 40 и 50 годами, они совершенно нормальные успешные люди, которые на досуге катаются на лыжах и пишут детские книги, как, например, Алексей Кавокин, мой коллега по Физтеху. При этом он отличный физик и математик. Вот, например, на днях на Физтехе я устраивал в концертном зале показ двух фильмов, снятых про физтехов творческим объединением «Яблоня». Оба фильма очень хорошие: один называется «Влюбленные в математику», и он посвящен Александру Гасникову, Александру Безносикову и Дарине Двинских, а второй фильм — «Виктория», про известного биолога Викторию Шипунову. И конечно, они там совершенно не выглядят ни как обитатели башни из слоновой кости, ни как ученые-чудики, ни как умудренные старцы, ни как ученые-герои. Все эти ролевые модели сейчас не работают. Нынешний образ ученого — это человек очень умный, хорошо зарабатывающий, который, по известному выражению, «придумал себе любимое дело и оттого ни секунды в жизни больше не работает». Это очень понятная, очень хорошо работающая ролевая модель, как мы можем судить по фокус-группам, в которых я сам принимал участие или которые заказывал в последние годы. Вот, наверное, как изменился образ ученого.

Вместе с этим образом очень сильно менялись и научно-популярные журналы. Про это у меня даже есть пара отдельных лекций, которые я читал как введение в профессию для научных журналистов и научных коммуникаторов. По научным журналам все очень хорошо видно. Сравним, например, журнал 1950-х годов, потом 1990-х — и современный. Это памятники абсолютно разных цивилизаций. Если на всем протяжении этого периода книги оставались более или менее неизменными, то научно-популярные журналы изменились совершенно кардинальным образом.
— Вы упомянули о том, что эту замечательную генеалогию, или преемственность, разных образов ученого, которую вы нарисовали, очень легко проследить по научно-популярным журналам. А если мы посмотрим на новые медиа, на интернет, YouTube, Telegram и т. д., в какой мере образ ученого в них отличается от нарисованного вами?
— Я бы ответил так. Много лет я занимаюсь не только научной журналистикой, но еще и издательским делом, то есть руковожу всякими СМИ, и поэтому нам необходимо проводить исследования и понимать, сколько людей нас читает, каких и на какую аудиторию в принципе может рассчитывать научпоп. Так вот, эта аудитория, к сожалению, со времен Советского Союза почти не менялась. Некоторые не очень добросовестные лекторы говорят, что, дескать, при СССР в обществе «Знание» было 100 тысяч лекторов — их даже на самом деле было больше, чем 100 тысяч; что «Наука и жизнь» выходила почти миллионным тиражом и т. д. Это все правда, но если сложить все тиражи всех больших научно-популярных изданий времен Советского Союза — «Наука и жизнь», «Химия и жизнь», «Знание — сила», — то мы все равно получаем около 15 миллионов человек. Это 10 процентов тогдашнего населения. Сейчас у нас население поменьше, и мы все равно имеем потенциальную аудиторию около 10 миллионов человек. Больше она не становится.
Судя по моим данным, данным моих знакомых, которые работают в других СМИ, попытки существенно, серьезно расширить отделы науки в очень больших изданиях не приводят к тому, чтобы сообразно вложенным средствам увеличивалась их аудитория. Например, в условной «Газете.ру» есть хороший отдел науки, в котором работает пара человек, и туда бессмысленно нанимать еще десять. Потому что половина аудитории «Газеты.ру» не перетечет в этот отдел. К сожалению. Хотя «Газета.ру» рассчитана на образованную аудиторию. А в изданиях типа «Лайфа» и вообще к науке не очень обращались. Таким образом, те 10 процентов нашего населения, которые наукой интересуются, интересуются ею примерно одинаково. И образ ученого у них в голове примерно одинаковый, хотя в каждую эпоху свой. Но это не значит, что в аудитории, которая рассчитана на потребление научпопа или научно-информационных журналов, сосуществует множество разных образов и кому-то заходит старец, кому-то — ученый-герой, а кому-то — современный и успешный человек. Я думаю, что все читатели примерно ориентированы на образ, условно говоря, Гасникова, если вы его себе представляете: в 40 лет ректор Иннополиса, играет в волейбол, плавает примерно как я, а я был кандидатом в мастера спорта, очень симпатичный, явно хорошо зарабатывающий умник с живыми глазами. Вот примерно так ученый сейчас выглядит почти во всех публикациях.
Есть, конечно, СМИ, которые рассчитаны на, условно говоря, телевизионную аудиторию. Как у нас говорят, они работают как телек. Такие СМИ хотят покрывать аудиторию в 20–30 миллионов человек. И вот в их отделах науки ученый иногда выглядит немножко странно. То как чудик, то как «ученый в горохе моченый» с взъерошенными волосами. Там считается, что это лучше заходит тем массам населения, которые вообще-то научпоп не читают, а их интерес можно пробудить разве что случайно с помощью каких-то таких приемов. И вот такой цеплялкой оказываются куски старых образов. Ну а в изданиях вроде РИА, ТАСС, Газета.ру и уж тем более в таких, как Naked Science, в которых постоянно функционирует хороший отдел науки, — там ученые современные, нормальные, обычные, как мы с вами.
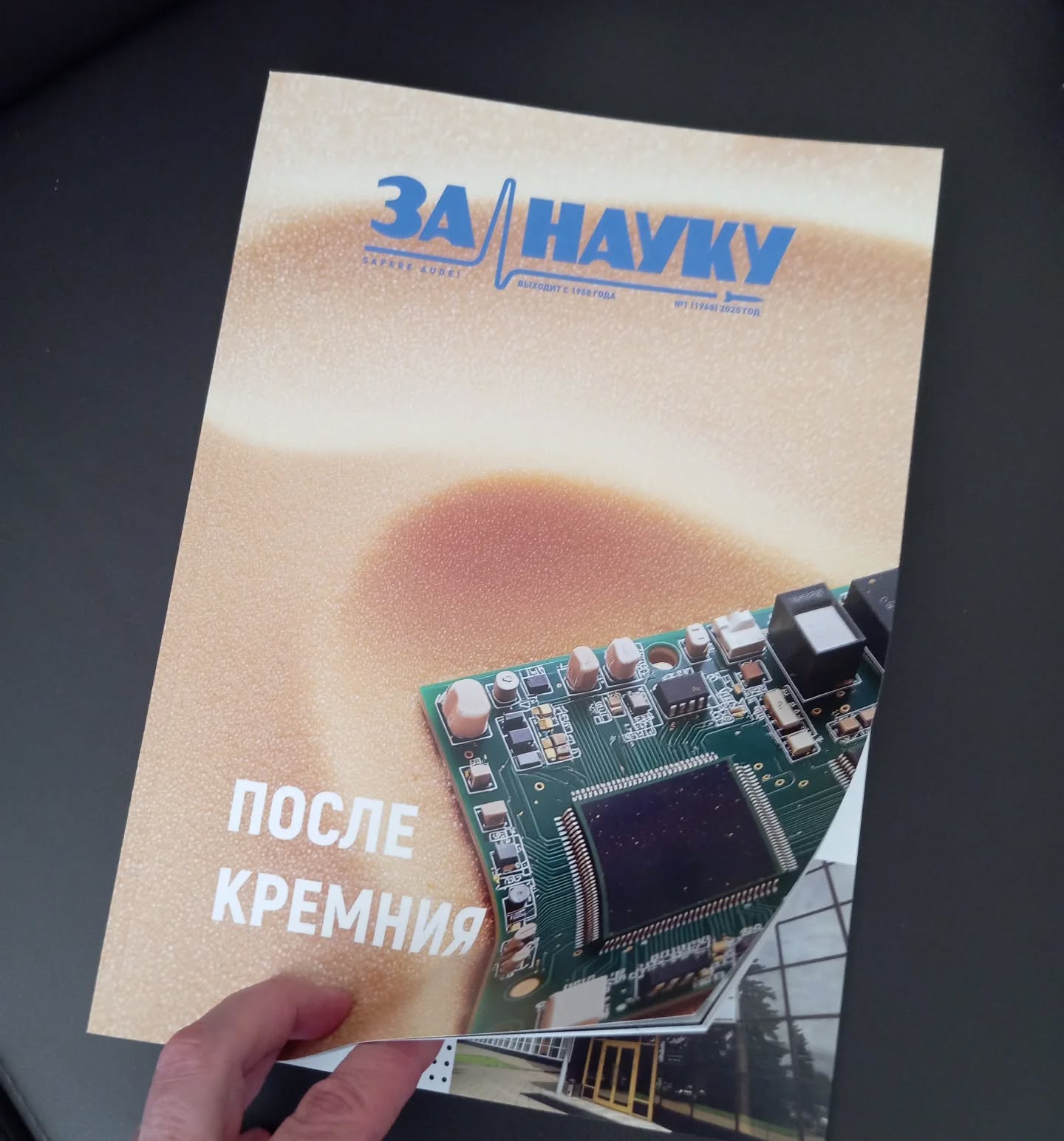
— Вот мы говорим об образе ученого вообще, но понятно, что для нас парадигмальной моделью выступает или математик, или естественник. А каков в коллективных представлениях образ ученого-гуманитария — отличается ли он от физиков и математиков? И в каком отношении все эти образы находятся к стереотипу «человека культуры»: художника, режиссера, актера?
— Мне кажется, что образов на самом деле два, хотя я тут могу ошибаться, потому что специально не занимался исследованием этого вопроса. Вам должно быть виднее, потому что вы сейчас делаете метаисследование, опрашиваете разных ученых. Но мне кажется, что их два. Один из них — это образ ученого вообще, который больше всего похож на образ ученого-естественника. Есть еще фигура математика, несколько анекдотичная благодаря Перельману и некоторым другим представителям математического мира: я с ними много общался и скажу вам по секрету, что это похоже на правду — они бывают забавными ребятами. Как бы то ни было, есть образ ученого вообще — и это, скорее всего, физик или биолог.
И образ ученого для публики, которая мотивированно читает научпоп, — это образ человека, который в своей деятельности пользуется научным методом, а метод этот, как кажется, более или менее един для всех отраслей науки. Можно сказать, что философской основой современного научного метода является критерий фальсифицируемости Поппера. И в этом смысле, по критерию методологии, социолог слишком сильно от физика не отличается: таково мое личное впечатление.
А дальше идет резкий обрыв, и разного рода филологи, исследователи творчества Пушкина и им подобные в общественном сознании примыкают как раз к людям творческих профессий: режиссерам, актерам и прочим. Это все творческая братия, и филолог — это как бы уже и не ученый в общественном сознании. Вот так мне представляется.
— Получается, линия разделения проходит между Arts and Humanities и Science.
— Да, это верно.
— Вам мы тоже хотели бы адресовать вопрос, который задаем всем нашим респондентам. Исторически большое влияние на коллективные представления оказывала модель — или, быть может, вернее назвать ее идеологемой — универсального человека. Отчасти она присутствовала в советской культурной политике и идеологии в форме идеи всесторонне развитой личности. Сохранилась ли в наши дни в какой-то форме идея о том, что ученый должен воплощать вот такого «ренессансного» универсального человека? То есть что он должен быть не просто успешным человеком с многосторонними интересами — и в волейбол играть, и спектакли ставить, и дискретной математикой заниматься на досуге как хобби, — но что он должен как бы реализовать в себе весь потенциал человеческой природы и служить своего рода антропологическим идеалом.
— Да, есть такая идея. Она, конечно, ложная. Но из умов ее никак невозможно выкинуть. Как публика, так и журналисты совершенно искренне считают, что любой физик может прокомментировать любую физическую статью. Чего любой физик сделать абсолютно, категорически не в состоянии: каждый из них работает в своей узкой области и часто не имеет никакого понятия о том, что происходит в соседних.
На самом деле действительно универсальные люди — это хорошие научные журналисты. Как ни смешно, это правда. Хороший научный журналист, несколько лет проработавший, например, в ТАСС, все равно будет специализироваться в нескольких областях, пусть и широких. Допустим, он отвечает за физику, химию, астрофизику. Но в них он будет знать многое, у него будет гораздо более широкий кругозор, чем у любого эксперта, которого он опрашивает по узкой теме. Вот он-то как раз, с точки зрения публики, и есть такой пусть несколько карикатурный, но настоящий ученый с широким кругозором. И мне неоднократно приходилось исполнять роль ученого, особенно в 2000-х годах, когда ученых не хватало, и ездить читать какие-то очень популярные лекции. Я, правда, всегда предупреждал людей, что я не биолог, например, хотя я написал сотню статей по биологии и могу отличить, скажем, митохондрии от чего-нибудь еще, но в принципе я не биолог — я просто многое знаю про эту область.
Публика считает, что ученый — это человек с очень широким кругозором. Я, например, как научный журналист знаю, что это не так, потому что, если человек будет разбрасываться, он будет журналистом-популяризатором, а в своей области — посредственным ученым. Ученый по необходимости должен быть очень узкоспециализированным. К сожалению или к счастью, это сложно объяснить, а может быть, и не нужно объяснять широкой аудитории. Потому что для обычного человека хороший ученый — это кто? Большой умник. Большой умник должен разбираться во всем. Возьмем для примера известного физтеховского ученого — Максима Никитина. Он прекрасно разбирается в терастических наносистемах, опубликовал за последние годы несколько статей в Science, что достаточно свидетельствует о его уровне квалификации, он прорывной исследователь в своей области. Но совершенно бессмысленно спрашивать его, скажем, о клеточной биологии. Он про нее ничего не знает. Зачем мне посвящать в это публику? Я, скорее всего, только вызову у нее этим раздражение. Пусть ученый будет умником.
— Да, это очень интересное замечание, что универсальные люди — это теперь научные журналисты.
— Это хорошие научные журналисты. Есть еще плохие научные журналисты, которые гораздо хуже самых плохих на свете ученых. Они — чистый вред.
— Получается, что наука становится эдакой ноуменальной областью, «вещью в себе» для публики, которая в существо ее проникнуть не может, а может только видеть тот экран, который ей показывает научная журналистика.
— Конечно. Для этого и существует научная коммуникация. Она — совершенно необходимый интерфейс. То есть в науке нужны даже два интерфейса. Это похоже на такие устройства, в которые ты втыкаешь вилку, в нее переходник, в него еще один и так далее: таким же образом над наукой надстраивается научная коммуникация, а еще дальше идет научная журналистика и т. д. И если уж говорить о личном примере, то я когда-то был просто журналистом, потом, довольно давно, стал журналистом научным, а сейчас перешел еще ближе к науке — стал научным коммуникатором и поставляю пищу для научных журналистов. Потому что с учеными часто бывает так: когда с ними напрямую общаются научные журналисты, у них могут возникнуть недопонимания, проблемы контакта. И в идеальном случае должны быть, кажется, два интерфейса. Ученый — научный коммуникатор — научный журналист, а дальше публика. Случаи, когда ученый может говорить непосредственно на публику, исчезающе редки. Но они есть, и прямо-таки блестящие.
— Позвольте прагматический вопрос. Где готовить такого человека, которого вы называете «хорошим научным журналистом»? Существует ли, или может ли быть придумана такая образовательная структура или программа, где бы готовили таких людей? Или это какое-то редкое дарование, которое уже никак институционально вырастить невозможно?
— На ваш вопрос я могу ответить компетентно, поскольку я очень долгое время был фактически серийным нанимателем: постоянно нанимал людей в разные редакции и нанял их за свою жизнь довольно много. Но среди тех людей, которых я нанимал в качестве журналистов за последнюю четверть века — а их было человек 40 или больше, — было только два или три выпускника журфака, да и то случайно. Я тут боюсь всегда кого-нибудь обидеть, но для меня вообще не очень понятно, что такое журфаковское образование.
— Мы не имеем в виду журфак.
— Да, я просто всегда люблю заходить издалека в своих ответах. Почему я начал с журфака? Потому что научный журналист — это не просто человек, умеющий писать. Вообще писать, говорить, креативить умеют многие из нас: достаточно посмотреть на КВН. Там полно успешных команд, которые состоят из физиков, и они умеют не только говорить смешно, но и писать тоже. Есть множество писателей, которые получили физфаковское или похожее образование. Коротко говоря, успешный журналист, в отличие от писателя, — это человек, который очень хорошо знает свою область и умеет рассказать о ней популярно. Это умение, конечно, нуждается в огранке, но оно не такое уж редкое.
Вот у меня здесь перед глазами стоит шкаф, набитый изданием «За науку» за последние 70 лет. Большая часть материалов в нем написана самими физтехами. И сейчас время от времени появляется автор, который думает: «Почему бы мне не написать релиз по моей статье? Дай-ка я это и сделаю!» Он приходит к нам и говорит, что хочет написать релиз, например, по клеточной терапии сердца. Мы ему объясняем, чем научно-популярная статья отличается от научной. Точнее, научно-информационная: я все-таки предпочитаю делить литературу на научную, научно-информационную, научно-популярную и, наконец, совсем популярную, без всякой примеси науки. Они пробуют, у некоторых получается хорошо, а некоторые задерживаются в этой профессии на какое-то время. Потом уходят обратно в науку, потом возвращаются.
Моя предыдущая редакция называлась «Чердак науки»: фактически это была «ТАСС-наука». Мы выпускали портал «Чердак». В нем из десяти журналистов восемь были так или иначе учеными: они или совмещали научную работу с журналистикой, или на некоторое время «пришли посидеть». Миша Петров, например, химик. Он полтора года проработал в нашей редакции, а потом вернулся в науку, как только появилось финансирование на его проточные батареи. И сейчас заведует лабораторией, делает свои проточные батареи, прекрасно себя чувствует. Кому-то наука не пошла: ведь не все молодые и перспективные ученые немедленно становятся профессорами. Такие люди приходят в научную журналистику и обычно рассказывают о наиболее близкой им области, так что от науки далеко не уходят. Потом они могут вернуться в науку, могут не вернуться.

Попытаюсь сформулировать краткий ответ на ваш вопрос. Не нужно никого специально учить научной журналистике, потому что научная журналистика — это просто знание соответствующей области, кругозор и умение составлять слова в предложения, для которого не нужно никакого особого образования. Если у человека есть к этому склонность, то на специальных курсах это умение можно развить за пару месяцев. Не надо этому учиться пять лет — это точно. Если у человека есть желание расширять кругозор в своей области, он будет его расширять и так. Если же он хочет только капать в пробирки и работать по узкой теме, я из него не смогу сделать научного журналиста.
— В свое время, в 1990-х — начале 2000-х, покойный Вячеслав Глазычев в одном из тогдашних проектов «Русского журнала» создал площадку, на которой могли найти себя и классический филолог Брагинская, и физик Семихатов, и другие ученые действительно высокого класса. Глазычев считал, что научный журналист — это такой необходимый посредник между миром ученых и аудиторией. Скажите, пожалуйста, при том изменении научного ландшафта, который вы так здорово описали, как изменилась роль такого научного журналиста? Существует ли потребность в этом посредничестве при том, что все чаще мы встречаемся с такими фигурами, как те же Семихатов или Гасников, которые в плане самопрезентации вполне самодостаточны?
— Является ли научный журналист необходимым посредником? В данный момент в меньшей степени, чем раньше. Хотя бы потому, что просто сменились технологии донесения информации до конечного потребителя. Раньше все равно был необходим какой-то интерфейс, как бы он там ни назывался: журнал, газета, книга, а для них нужны издатель, журналист. Если тогда никто — ни ученый, ни политик, ни кто угодно другой — не мог обращаться к народу напрямую, ему обязательно требовался какой-то печатный интерфейс, то сейчас ученый в принципе может обращаться к публике напрямую. У нас полно примеров, я подписан на сотню каналов, которые ведут мои коллеги без всяких посредников: они пишут о своей работе — и некоторые из них набирают много подписчиков.
Но далеко не все, конечно, потому что для этого нужно желание, для этого часто необходимо умение, каждому делу надо учиться. Обычно ученые все-таки склонны учиться тому, чтобы делать хорошо свою работу, а не работу журналиста. Однако у некоторых получается выступать и в роли популяризатора, у кого-то есть природное дарование. Если бы великий лингвист Андрей Зализняк, допустим, вел свой блог, то наверняка у него был бы миллион читателей. Ему вообще никакие интерфейсы для того, чтобы говорить с любым читателем, были не нужны. Будучи очень сильным ученым, он мог говорить с любым человеком, любого уровня образования.
Но научный журналист все-таки, конечно, нужен для того, чтобы растолковать, чем ученый занимается. У некоторых ученых очень сложные области. Они сами часто не готовы их растолковать на обычном языке. И они радуются, когда к ним приходит научный журналист, некоторое время с ними сидит, слушает их разговоры в лаборатории, а потом пишет про то, чем они занимаются, на понятном языке. Я неоднократно был свидетелем того, как ученый говорит: «Господи, как хорошо, что такой-то журналист написал про нашу работу! Теперь можно показывать его статью членам наших семей, они поймут, чем мы занимаемся». Поэтому я считаю, что научный журналист нужен, но научный журналист — это или хороший ученый с широким кругозором, который умеет писать, или несостоявшийся ученый, который уже не хочет состояться и который тоже умеет писать или рассказывать. Но я считаю, что интерфейс нужен в любом случае: иногда, в тяжелом случае, даже двойной, включающий в себя коммуникатора и журналиста. Тогда все получается очень хорошо.
Алексей Семихатов, которого вы упомянули, как раз очень удачный пример. Он, собственно, наукой как таковой уже очень давно не занимается, хотя и числится в ФИАНе. В настоящее время, последние лет 20, он скорее коммуникатор и журналист. Я с ним познакомился как раз лет 20 назад, когда работал в журнале «Вокруг света», и я его нанимал, когда наша редакция устраивала большой фестиваль «150 лет вокруг света», на который мы пригласили очень видных ученых, и британских, и американских, и он работал переводчиком с парой нобелевских лауреатов, которые к нам приехали. Именно тогда он заинтересовался популяризацией и с тех пор большую часть своего времени посвящает тому, чтобы рассказывать несведущим людям о физике и вообще о естественных науках. У него есть два очень успешных видеоблога: на одном 200 тысяч подписчиков, на другом, который он ведет вместе с астрономом Владимиром Сурдиным, — 600 тысяч. Очень много времени он посвящал телевидению, а несколько лет был директором по науке Политехнического музея. В общем, он идеальный коммуникатор, потому что был неплохим ученым, который сформировал в себе очень широкий кругозор при помощи специальных упражнений. И он умеет и писать, и говорить на понятном языке, хотя это умение также подверглось огранке.
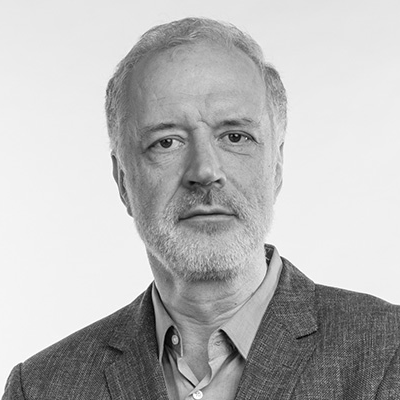
— Когда слушаешь вас и думаешь над теми процессами, которые происходят в современности, появляется совершенно, быть может, неправильное впечатление, будто в области популяризации возникает сегодня своего рода новый глянец. Вот этот ученый, востребованный, в возрасте между 40 и 50 годами, спортивный, харизматичный, хорошо зарабатывающий, который создает стендапы на аудиторию размером со стадион и так далее, — это же такой эталон глянцевый, очень привлекательный. Оправдано ли мое впечатление?
— Здесь уместно вспомнить старый тезис Паркинсона. Издатель считает, что его конкуренты — другие издатели. На самом же деле он конкурирует с поставщиками парусных шлюпок, теннисных ракеток, игральных карт и так далее. Если бы Паркинсон писал сейчас, он бы добавил к этому перечню производителей компьютерных игр. В последние десятилетия у человека развлечений столько, что мотивировать его оторваться от одного из развлечений можно, лишь предложив ему другое, более заманчивое.
Вот вам несколько наглядных примеров. Возьмем страницу из одного очень хорошего журнала. Что мы здесь видим? Перед нами очень хорошо написанная научно-популярная статья под заголовком «Наука и спорт. Играть мышцами». При этом она оформлена так, что совершенно неизвестно, о чем идет речь: неясно, что изображено на иллюстрациях, о чем говорится в заголовке. А значит, читателя не цепляет, ему неинтересно. Или вот. Тоже отличная статья из «Науки и жизни» — я намеренно беру только хорошее — под названием «Оптогенетика: самые светлые мысли». Про что эта статья? Что за мышь и почему служит ей иллюстрацией? И наконец, третья статья. Она называется «Отравление длиной в жизнь». И снова вопрос: что здесь происходит, кто здесь кого отравил? И хотя это все очень хорошие, крепкие статьи, современный человек, увидев разворот вот такого журнала, покупать его не будет. В этом проблема «Науки и жизни» и других подобных прекрасных журналов.
Я в свое время, четверть века назад, целый год пробыл начальником отделения электронных публикаций Фонда Сороса*, пока он еще был разрешен в России. У меня было не так много денег, но это был 1999 год, когда все научно-популярные журналы просто дышали на ладан, и мы тогда нашли 10 тысяч долларов на то, чтобы дать их «Науке и жизни». Эти два года были самыми тяжелыми за историю ее существования, а дальше она сумела вырулить. Но они, надо сказать, этот урок плохо восприняли и по-прежнему печатаются в том формате, который я вам продемонстрировал. Ни один нормальный человек 25–30 лет такое читать не будет, если он не сверхмотивирован или сам не ученый. Такой формат годится теперь только для научных журналов, а научпоп так делать больше нельзя, потому что он прогорит. Мы просто выкинем в трубу деньги, которую потратили на то, чтобы приохотить молодежь к науке. Это безобразие.
А вот другой подход. Перед вами статья про масс-статистику — между прочим, очень серьезная и хорошая. Но она сделана, видите, совсем по-другому. Абсолютно. И может быть, какому-нибудь моему коллеге 70 лет, который всю жизнь проработал в «Науке и жизни», это не понравится, он скажет: «Что это за ерунда, что это за цвета? Это рассчитано на человека с клиповым мышлением — сердечки какие-то, ерунда всякая». Но тем не менее именно такая верстка современных журналов работает — это и есть глянец. Эти обложки — это, конечно, глянец. И все три я придумал сам для журнала, который продавался тиражом до 100 тысяч экземпляров. Десять лет назад люди приходили и платили за него по 200 рублей. Мы их ловили на обложку, а дальше они уже читали серьезный журнал, в котором работал десяток научных экспертов, в котором было абсолютно корректное содержимое, но напечатанное вот так вот. Поэтому я за глянец, конечно. Только этот глянец должен быть хорошим. Глянец — это просто визуальная приманка, способ подачи, а не контент. Контент должен быть идеальным всегда. Но без упаковки — при нынешнем-то количестве разнообразных развлечений! — без хорошей упаковки мы сегодня ничего хорошего не продадим.
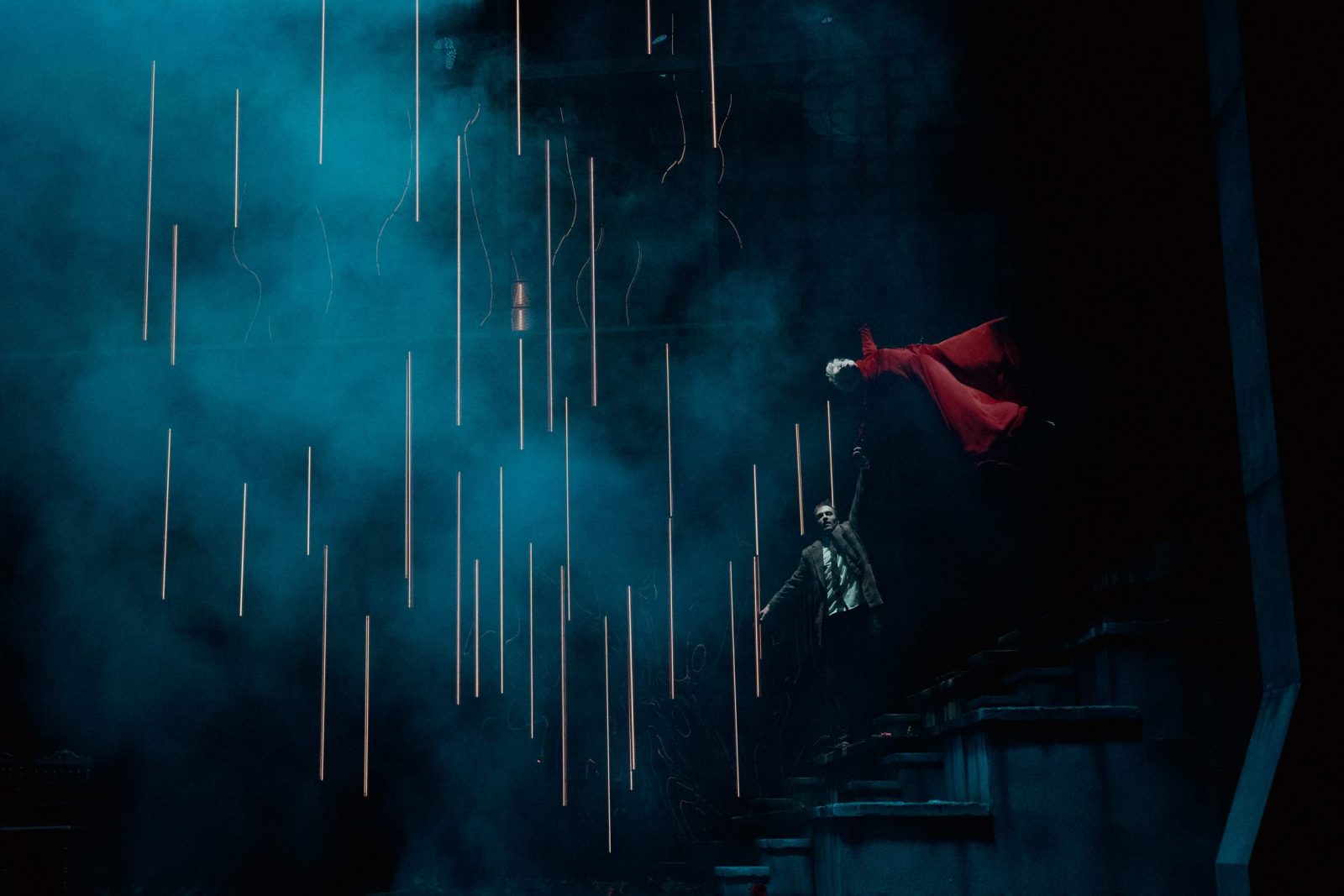
— И последний вопрос. В последние годы в условиях прогрессирующей медиатизации наметилось своего рода встречное движение, когда совершенно, казалось бы, далекие от науки сферы в культуре и искусстве впитывают, жадно поглощают научный язык, научные нарративы, научные темы, создавая совершенно особый «трансмедийный» образ ученого. Вот, например, буквально на днях не кто-нибудь, а Театр Вахтангова отмечает столетие квантовой механики произведшим фурор спектаклем «Солнце Ландау», и перед этим спектаклем Семихатов читает цикл лекций, посвященный квантовой механике. Эти лекции открываются настоящим шлягерным слоганом: «Заткнись или вычисляй». Как бы вы прокомментировали это симбиоз, это взаимное опыление?
— Последние лет 10–15 государство наше проявляет очень большой интерес к популяризации науки. По понятным причинам, в которые мы сейчас не будем погружаться, — но мне кажется, что они очевидны. И это я только приветствую. Государственный интерес выражается не только во внимании как таковом, но и в большом количестве денег, которые в тех или иных формах вливаются в эту сферу. Некоторые инвестиции делаются разумно, другие нет, но в любом случае на рынок попадает масса денег, влитых в популяризацию науки.
А что такое популяризация? Это множество креативных людей, которые так или иначе доносят научное знание, в той или иной степени пережеванное, до аудитории. Кто эти люди? Это журналисты, театральные режиссеры, клипмейкеры, блогеры — кто угодно. И именно поэтому язык науки оказался ими востребованным. Сейчас деньги в этой области есть, завтра их не будет, и, возможно, фокус популяризации переключится на экономику или на что-нибудь еще. Так что, думаю, этот живописный барочный синтез объясняется весьма прозаично: спецификой распределения финансовых потоков.
Беседовали: Юлия Иванова, Александр Михайловский, Елена Пенская, Павел Соколов. Центр междисциплинарных исследований МФТИ