Гибель титанов: почему во Франции больше нет Фуко и Делезов
Интервью с социологом Александром Бикбовым
Мы более-менее представляем себе интеллектуальную жизнь Франции последних десятилетий прошлого века. Потом «зубры» вроде Фуко и Делеза повымирали, а их место в культуре заняли «новые философы» вроде Глюксмана, которых все ненавидят. А что происходит во французской интеллектуальной жизни сейчас? Вы сам во Франции занимаетесь прикладной социологией, не теоретической?
Исследовательской. Сегодня во Франции нет теоретической социологии как таковой — и это большой плюс текущей французской ситуации. Вместе с социологом Шарлем Сулье мы смотрели базу кандидатских диссертаций за последние тридцать лет, и оказалось, что во Франции доля работ с чисто теоретической заявкой — по заглавию или по аннотации — составляет всего один-два процента. Это означает, что социология и социальные науки в целом работают прежде всего как машина по расколдовыванию социального мира, а не по изобретению теорий. И это довольно радикально отличается от российской ситуации, где теория зачастую — это такой райский сад, в котором можно укрыться от невзгод институциональной жизни.
При этом недавние властители дум из старшего поколения были не дураки напридумывать теорий.
В большинстве случаев их теория (или то, что мы считываем как теорию) — это продукт нетривиальной встречи между все еще очень схоластическим образованием начиная со средней школы и исключительно острой политизацией, которая приходится на конец 1950-х и по нарастающей идет до начала 1970-х, а потом по нисходящей — до конца 1970-х годов. Человек, который не прошел схожей политической социализации, вероятнее всего, будет читать Фуко или Делеза как чисто теоретических авторов. Но как они в тот момент, когда писали, так и те, кто сегодня являются их наиболее горячими и последовательными адептами, используют теорию в большей степени для эпистемологического решения политических задач. В 1960-е годы теория понималась как контркультура, выступающая против властных иерархий, против старого порядка, дух которого все еще витал в институциях. Поэтому для когорты этих авторов совершенно нехарактерно использование теории как убежища, она была для них скорее оружием.
Почему на смену Деррида, Делезу и Фуко не пришел никто равновеликий?
Я недавно задавал себе этот вопрос после нескольких месяцев глубокого погружения в жизнь институции, где я сейчас работаю, участия в научных дискуссиях, знакомства с практикой исследований…
А к какой институции вы там приписаны?
Это Высшая школа социальных наук, которую создавал Люсьен Февр и в которой работали Бродель, Ле Гофф, Барт, Бурдье. Можно сказать, что эта институция нетипична: не университет со строгой бюрократической иерархией, а междисциплинарный центр, исследовательский в самом естественном определении этого слова. Например, его модель предусматривает такую особенность: если в университетах новых сотрудников принимают на основе решения дисциплинарных комиссий по социологии, этнографии, правоведению и т. д., то в этом заведении за новых членов голосует общее собрание, ассамблея всех сотрудников, вне зависимости от их дисциплины. Это поддерживает междисциплинарный исследовательский дух институции на базовом уровне. Правда, сейчас вокруг этих принципов, действовавших десятилетиями, развернулась настоящая баталия. Как и в России, во Франции идет институциональная нормализация, Министерство образования навязывает единые стандарты и, в частности, требует стандартизировать процедуру голосования. Пока этот реформаторский напор удается коллегиально отбить или смягчить, сохраняя уникальность заведения. Что касается смены поколений и вопроса равновеликости — очевидно, что сегодня хорошая статья в научном журнале, социологическом, историческом и т. д., интеллектуально не уступает установочной работе, исследовательскому манифесту 1960-х годов. И таких хороших статей масса: текущие исследования впечатляют обыденностью качества методологической и интерпретативной работы.
Для них высокий интеллектуальный уровень стал просто нормой?
Верно. Такая профессионализация происходит и в России, просто мы чаще всего склонны этого не замечать. Тут был бы очень кстати интеллектуал, который прибыл бы на машине времени из 1960-х, прочел несколько десятков сегодняшних текстов свежим взглядом и сказал бы нам, круто это или нет. Но даже не ожидая такого судейства из прошлого и оценивая ситуацию непредвзято, я бы сказал, что сегодня есть очень серьезные исследовательские разработки, которые не получают статус культовых просто потому, что это превратилось в норму профессии. Сами интеллектуальные новации из манифестов 1960-х сегодня уже часть методологической нормы: история с точки зрения доминируемых и возвращение голоса безгласным, социология не функций, а неравенств и структур вне телеологии, стохастическая лингвистика произвольных знаков и смысловых оппозиций и некоторые другие, не менее важные.
Но ведь всегда есть те, кто на голову выше остальных.
Есть, но своим «возвышением» они обязаны в основном не тому, что делают работу, скажем, в три раза тщательнее или каждый раз добираются до каких-то уникальных источников, как Ле Руа Ладюри в «Монтайю». Такая ситуация — исключение. Куда чаще авторы выигрывают за счет того, что наследуют из 1960-х умение методологически переформулировать текущие политические вопросы. Это позволяет нам, не разбираясь детально в предмете, тем не менее увидеть в нем что-то релевантное собственному исследовательскому или социальному опыту. И это как раз та политическая компонента, которую профессионализация ощутимо потеснила из сегодняшних социальных наук. Многие исследователи, разделяющие методологические позиции 1960-х и политизированные слева, к примеру, могут участвовать в активистских группах или ассоциациях помощи беженцам, но в профессии следуют жесткому дисциплинарному стандарту. Это предполагает очень взвешенное, процедурно строгое и исчерпывающее описание своего объекта. И происходит это совсем не (или не только) из опасения внешнего контроля со стороны коллег. Это просто давно и хорошо усвоенная интеллектуальная дисциплина. В результате описание объекта становится столь нюансированным, что он полностью теряет прозрачность для тех, кто им не занимается. Нормализация строгой методологии во многом и затрудняет появление новых Фуко с Делезами.
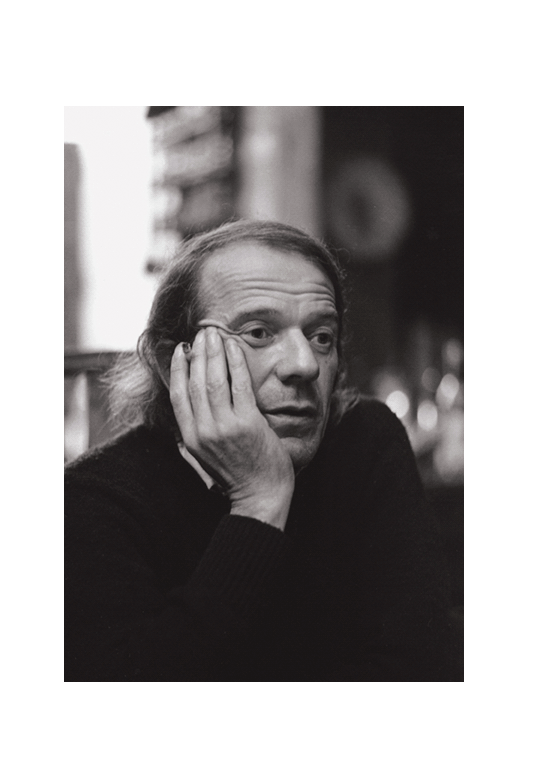
Жиль Делез, 1987
Фото: Courtesy © Raymond Depardon/Magnum Photos
Кажется, это похоже отчасти на происходящее в современной физике, где узкоспециализированные ученые перестают друг друга понимать.
Это, кстати, очень правильная аналогия. То есть социальные дисциплины во Франции действительно приобрели формальные черты нормальной науки — и в такой ситуации наиболее заметными фигурами остаются недостаточно «нормализованные». Такие социальные мыслители, как, например, Пьер Розанваллон (один из по-прежнему активных представителей предыдущего поколения), или более ориентированные на теорию авторы типа Бруно Латура (хотя Латур относится к другому поколению, зато его основные оппоненты как раз из 1960-х) — в достаточной степени дилетанты, чтобы продолжать говорить об общих вещах, не уходя с головой в ту или иную специализацию.
Как же тогда протекает борьба за интеллектуальный престиж, в которой книжная мода играла раньше значительную роль?
Признание в нормальных академических дисциплинах в большей мере связано с публикацией статей, а не книг. Исследователи пишут статьи, в которых ссылаются на другие статьи, книги же остаются параллельной реальностью. На них тоже ссылаются, но как на источник интересных моделей или интеллектуального вдохновения. Сегодня редко кто-то пишет книжку в ответ на книжку.
То есть уже нет книжных новинок, которые стыдно не читать, вроде «Слов и вещей»? Можно ли сейчас во Франции, например, не знать последних работ Латура (а заодно и всех остальных его работ)?
Можно. Латур сегодня более релевантен для архитекторов, экологов и этнографов, то есть для исследователей, которые занимаются несовременными обществами либо несоциальными структурами. Недавно я проводил в Германии воркшоп с участием докторантов из разных стран и дисциплин и попросил их отреагировать на несколько имен, чтобы понять, какой интеллектуальный багаж для нас общий. Это может прозвучать неожиданно, но такими общими фигурами оказались Вебер и Фуко — их читают и культурологи, и философы, и социологи.
А Бурдье?
Бурдье тоже. А Латура не читают даже социологи, с которыми тот непрерывно полемизирует.
Есть ощущение, что Деррида, еще недавно вездесущий, сегодня уже никому не нужен. С Делезом еще носятся люди из определенных сфер — например, связанные с современным искусством, а по-настоящему живыми остаются идеи Фуко и Бурдье, как будто больше ничего особо и не нужно. Впрочем, Батаем и Жираром тоже интересуются по-прежнему, но не сказать, что очень широко.
Сегодня они скорее оказываются на том же полюсе специфического признания, что Латур и Делез: Жирар в меньшей степени, а Батай — точно. Он весьма специальный автор, и тематически, и стилистически, и те, кто ссылается на него, вероятнее всего, занимаются теорией искусства или историей литературы. Что касается работы с социальным — важной фигурой, например, остается упомянутый мною Розанваллон.
Розанваллон в России практически неизвестен, очень мало его работ переводилось.
Одна из ключевых для Розанваллона тем — демократия и анализ ее граничных условий.
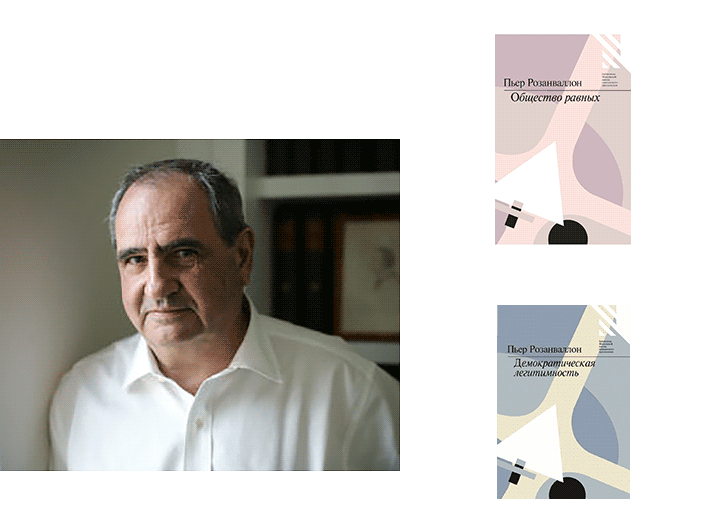
Пьер Розанваллон
Фото: ceiep.org
Насколько я понимаю, если на русском языке выпустить книжку под названием «Демократия», то ее можно сразу выбрасывать в помойку, никто ее и в руки не возьмет, вне зависимости от того, что там внутри написано. Впрочем, если ту же самую книжку озаглавить, скажем, «Диктатура» или «Тоталитаризм», то все с ней будет в порядке.
Верно, но дело вот еще в чем. 1990-е в России прошли под знаком нормативного транзита к демократии, а Розанваллон тогда анализировал уже кризис демократии и то, как гражданская критика встраивается в демократические институты. С конца 1980-х и на протяжении двух десятилетий такие вопросы были для нас попросту нерелеванты. Теперь они еще менее релевантны: официозные толкования сводят демократию к идейной ширме, за которой ведется циничная игра интересов, а валидная интеллектуальная критика отмечает синхронизацию демократии с ритмами международного капитализма в их самых неприятных проявлениях. Поэтому для нас гораздо важнее Фуко, более критический и пессимистичный аналитик правительности (gouvernementalité), в отличие от Розанваллона, для которого все еще крайне значима республиканская инфраструктура демократии.
А кто пришел на смену поколению 1960-х? Есть ли вообще сейчас во Франции мода на какие-нибудь теории, авторов и т. п., как было раньше?
Это я тоже недавно обсуждал с коллегами, чьи работы ценю и которые интересны мне как интеллектуальные собеседники. Дело в том, что они совершенно не стремятся стать законодателями мод в каком-либо из интеллектуальных секторов или дисциплинарных направлений. У поколения философов, которое вышло из Высшей нормальной школы 1950-х годов — Бурдье, Фуко, вплоть до Розанваллона, — были амбиции, которые они переносили из философии в новые дисциплины. Они продолжали состязаться между собой, хотя изменилась сама арена этого состязания. С философской агоры они шагнули на почву социальных наук, при этом сохранив состязательные навыки. Ведь для философа очень важно, к какому крупному автору он тяготеет, какое место тот занимает во всеобщей иерархии, насколько блестяще препарирован «твой» классик. Тогда как социологи, историки, этнографы следующего поколения получили совсем иное, проектное образование и сформировались как специалисты в своих дисциплинах — в отличие от философов, переместившихся в другое поле. И перед исследователями, прошедшими такую подготовку, стоит совсем иная задача: расколдовывание мира. Рациональное конструирование объекта по строгим правилам для них более важная ставка, чем чисто интеллектуальное состязание за первенство.
Неужели никому не хочется обойти коллег и, грубо говоря, стать самым классным?
Один мой коллега, Сильван Лоран, сделал впечатляющее исследование об элитах Брюсселя: каким образом они принимают решения, какие взгляды и верования разделяют еврочиновники, какова их управленческая рациональность. Он «самый классный» в том смысле, что расколдовал фрагмент реальности, который скрыт от нас непроницаемым занавесом политических и административных привилегий. При этом он не создает всеобщей теории элит: у него даже не возникает мысли, что такое в принципе допустимо, если эту теорию нельзя обосновать эмпирически. Обобщения, которые он предлагает, отсылают к исследовательскому материалу. Он не разделяет тех философских амбиций, которые мы находим у старшего поколения выпускников Высшей нормальной школы. Другая моя коллега, Жюльет Ренн, напротив, как раз выпускница упомянутой школы. Она делает потрясающе интересные исследования о пересечении гендерных и профессиональных иерархий. Но ее исследовательской этике также чужда роль главного теоретика или интеллектуального светоча. Все это вовсе не исключает состязательности и мотивации для создания установочных текстов. Напротив. Просто амбиции занять главное место в игре во многом перестали быть ее частью.
А почему эти амбиции исчезли?
Прежние философские влечения, которые поощрялись схоластическими заведениями, были всерьез поколеблены как раз тем поколением, которое вышло из этих институций в 1950-е и принялось жестко их критиковать. Тот же Бурдье выступал против схоластизма академического мышления, а Фуко — против власти, заключенной в дискурсах истины.
Но речь же не о том, что на смену им пришла армия добросовестных ученых-середнячков?
В том-то и дело, что уровень работ отнюдь не «середнячковый», каждая из них читается как самостоятельное произведение. Но часто они не выходят за рамки узкой темы, тогда как интеллектуалы поколения 1960-х обращались к общему, политически релевантному горизонту. А часть этого общего за них додумывала читающая публика. На ум здесь приходит феноменальный успех семиотики, начавшийся еще до 1968-го, когда методологически новаторскую критику языка и знака публика прочитывала как критику культурных авторитетов и иерархий.
Выходит, ничего титанического не осталось (Фуко и Делез, по-моему, были настоящими титанами). Теперь интеллектуалы во Франции — это такие земные люди, которые занимаются земными делами?
Они занимаются наукой профессионально, в очень насыщенном (или даже перегруженном) контексте, созданном до них. Кроме того, нужно отметить еще одну особенность прежней, схоластической модели. Она связана с тем, как интеллектуальная дисциплина встраивается в телесную. Представители старшего поколения были большими аскетами в смысле организации рабочего процесса. Фуко, например, работал не меньше восьми часов в день в библиотеках и над своими рукописями. Когда он преподавал в Коллеж де Франс, то заранее писал полные тексты лекций, хотя, конечно, далеко не всегда произносил их от начала и до конца. Это была непрерывная работа по самоконструированию. Как рассказывал мне его спутник Даниэль Дефер, Фуко считал, что у интеллектуального труда должен быть такой же ритм, что и на заводе.

Александр Бикбов
Фото: Инде
Невероятная самодисциплина — на память приходит Балибар, который про крошечную «Этику» Спинозы написал четыре здоровенных тома.
Несомненно, это проявление схоластической аскезы, в которую люди погружались еще в подготовительных классах, на этой промежуточной ступени между средней школой и Высшей нормальной. Такой аскетический опыт сопровождался драматическими эпизодами: Фуко пытался покончить жизнь самоубийством во время учебы в подготовительном классе, Деррида писал протяжные письма о том, как он мучился и страдал в эти годы, — интимная история интеллектуальной Франции 1930–1960-х изобилует подобными примерами. Очевидно, это не только от того, что там были сырые стены и тараканы бегали по углам. Заведения поддерживали постоянный прессинг знания, которому ты должен соответствовать, должен быть соразмерен. Субъективность, сформированная таким образом, закреплялась через жесткую систему экзаменов и конкурсов. Те, кто с блеском восходил на последние ступени этой системы, были уже готовыми машинами по производству смыслов. Как и прежде, эти заведения сегодня — место беспрестанной интеллектуальной тренировки и эмпистемологических перегрузок. Но, полагаю, после 1968-го модель была скорректирована и гуманизирована. А результат той жесткой дисциплины и самодисциплины, которая сохраняется на протяжении всей жизни, очень хорошо виден в бесперебойности интеллектуальной работы и регулярности публикаций старшего поколения.
Но теперь новых «Слов и вещей» ждать уже неоткуда.
Сейчас наступило время сборников — и это тоже важный симптом, поскольку раньше сборники редко становились предметом всеобщего внимания. Это было особенно заметно на волне публикаций к сорокалетнему, а в прошлом году — к пятидесятилетнему юбилею 1968-го года. Вышло несколько очень детальных монографий, посвященных этому опыту, но всем запомнились именно сборники, где соединяются свидетельства от первого лица и тонкая аналитика отдельных событийных срезов. В целом они дают очень разноплановую и достаточно полную картину событий. При этом в каждом отдельном тексте прослеживается та же установка на академическую специализацию, на точное описание объекта. И здесь есть очевидная параллель с вашим главным вопросом: теперь социальный мир нам проясняют не монографии «титанических» одиночек, а коллективные сборники отлично подготовленных специалистов.
Вспомнил, как пытался когда-то прочитать большую историко-социологическую работу Робера Кастеля про наемный труд, очень впечатляюще сделанную и отчасти напоминающую книги Фуко, только невыносимо скучную из-за узости темы.
Кастель — автор старой школы, и это его исследование абсолютно краеугольное. Но, в отличие от Фуко, он сделал его по строгим исследовательским канонам, а это, если угодно, методологическая диктатура: объект должен быть непротиворечиво и исчерпывающе сконструирован. Если вы, как нынешнее поколение французских исследователей, учитесь делать это, начиная с первых курсов университета, одновременно усваивая те самые методологические установки французских интеллектуалов второй половины XX века (скажем, изучать не историю королевских династий, а историю структур, описывать не намерения индивидов, а усвоенные биографические предрасположенности и т. д.), то в конечном счете вы оказываетесь обладателем очень точных и очень тонких инструментов. Но с их помощью довольно трудно высечь гигантские фигуры из камня, которые будут поражать взгляд издалека.
На таких ветках титаны не растут.
Иная задача: теперь работа ориентирована одновременно на компактность, тонкость и строгость — что было совершенно не так для поколения, которое сформировалось в амальгаме высокой схоластики и пламенных политических баталий.
Причем очевидно, что с современным миром происходит что-то не то, но теперь почти не видно тех, кто готов возвысить голос и сказать что-то веское по этому поводу, — хотя, казалось бы, все к этому подталкивает.
Во французском интеллектуальном контексте критического анализа хватает — вопрос в стиле критики. Она должна быть хорошо обоснованной и документированной. Понимаете, более молодому поколению свойственна своего рода этическая скромность. В 1970–1980-е годы для интеллектуала было допустимо (прежде всего внутренне) иметь роскошную квартиру в центре города, престижное потребление — и возвышать голос против господства, при этом палец о палец не ударив на практике. А для людей, прошедших школу академической строгости и усвоивших императив «если не исследовал, не делай обобщений», этому есть этическая параллель: если ты называешь себя левым критиком, то должен заниматься чем-то практическим. Участвовать в активистских ассоциациях, органах профессионального самоуправления и публичных акциях, заниматься анализом текущих реформ и так далее. То есть сегодня во Франции нельзя быть ни «чистым» социальным теоретиком, ни теоретическим левым.