Это не футбол, это страшный суд
10 лучших голов в литературе
«Горький» продолжает публиковать цикл материалов о футболе, сегодня мы поговорим о лучших голах из книг — от Ярослава Гашека и Владимира Набокова до Салмана Рушди и Евгения Евтушенко.
Футбол родился в грязи и смехе — как если б был ренессансной уличной культурой. Именно русский футбол начался ровно век с четвертью назад, на ипподроме Семеновского плаца в Санкт-Петербурге: то была игра в «ножной мяч» между командами «Спорт» и петербургским кружком спортсменов, в основном состоящим из английских инженеров. Много раз процитированная заметка из «Петербургского листка» не сохранила нам на память ни одного забитого гола, а оставила только потешное: «Господа спортсмены в белых костюмах, бегая по грязи, то и дело шлепались со всего размаха в грязь и вскоре превратились в трубочистов. Все время в публике стоял несмолкаемый смех...».
Грязь с тех пор поросла травой, публика не смеется, а ревет — когда забивают гол. Что значит гол в футболе? Бросок камня из пращи; таран, въезжающий в городские ворота; дверь, распахнутая в вестерновский салун; выстрел тушинской батареи; побег; смерть; новая жизнь. В любом случае — это вершина сюжета и центр всякой рассказанной футбольной истории. Текст вибрирует, когда приближается сцена гола.
Мы начинаем наш репортаж — на траву ступают игроки, готовые забить свои литературные голы.
Идея гола
Первому голу предшествует, как и полагается, идея гола. Вадим Руднев — философ, семиотик, культуролог, автор «Метафизики футбола» (2001) — проводит мотивационную беседу перед матчем.
«В чем цель (goal — гол) игры в футбол? В том, что при помощи ног (субститутов половых органов) забить (затащить) круглый предмет в некое ограниченное пространство (по сравнению с футбольным полем в целом, ворота — это весьма ограниченное пространство), в сетку, в дыру. Стоит ли приводить примеры из «Толкования сновидений»?
Итак, игра в футбол воспроизводит половой акт, где нога играет роль фаллоса, мяч — спермы, а ворота — вульвы. Роль женщины, которая оплодотворятся этим попаданием в цель, играет, конечно, мать-сыра-земля (футбол на льду противоестественен — хоккей на траве, насколько я помню, существует. Хоккей — это замороженный, фригидный футбол, снежная королева, царевна-несмеяна: в сексуально репрессированном СССР футбол, особенно на международной сцене, не получался, а чемпионами мира по хоккею мы были чуть ли не больше десяти раз подряд. В хоккее сексуальность более утонченная: вместо круглого мяча — плоская шайба, ноги одеты в коньки-контрацептивы (плоская шайба не мяч-сперма, а контрацептивная таблетка) и даже фаллос искусственный (клюшка) — зато сколько голов забивают, сугубо советская мужская похвальба — сколько «палок» (клюшек) «впарил» за ночь.
Напрасный и застывший
На поле появляется Владимир Владимирович Набоков — известный спортсмен, питомец блестящего Тенишевского училища, известного своей футбольной школой, затем голкипер Кембриджского Тринити Колледжа и вратарь в одной из русских команд Берлина. В своих текстах он взял бесчисленное количество мячей, но два раза сам загнал мяч в ворота. Почти два раза.
Особое отношение Набокова к вратарству известно: «Я был помешан на голкиперстве. В России и в латинских странах доблестное искусство вратаря искони окружено ореолом особого романтизма. …Как предмет трепетного поклонения он соперничает с матадором и воздушным асом. …Он одинокий орел, он человек-загадка, он последний защитник» («Память, говори», 1951–1954). О вратарях и особом их положении в игре вообще-то пишут часто – скажем, Салман Рушди, искушенный болельщик, оценивал голкиперство так: «каждый раз, выходя на поле, они знают, что покинут его либо героями, либо осмеянными шутами».
Самое интересное, что в большинстве эпизодов вратарства Набоков предпочитает своего голкипера сделать и героем, и осмеянным шутом одновременно — всякий раз снижая величие его победительной позы. Пока набоковский вратарь защищает последний рубеж, девушка, которая его интересует, уходит с другим.
Три раза Набоков использует фабулу, которую можно грубо описать позднейшим и куда как более простым текстом: «Я был батальонный разведчик, а он писаришка штабной. Я был за Россию ответчик, а он спал с моею женой» (Алексей Охрименко).
Так происходит в Football (26 февраля 1920, Кембридж).
«…Увидя мой удар, уверенно-умелый,
спросила ты, следя вращающийся мяч:
знаком ли он тебе — вон тот, в фуфайке белой,
худой, лохматый, как скрипач.
Твой спутник отвечал, что, кажется, я родом
из дикой той страны, где каплет кровь на снег,
и, трубку пососав, заметил мимоходом,
что я — приятный человек.
И дальше вы пошли. Туманясь, удалился
твой голос солнечный. Я видел, как твой друг
последовал, дымя, потом остановился
и трубкой стукнул о каблук».
В «Подвиге» (1930–1932) Мартын Эдельвейс «несколько раз он ловил, согнувшись вдвое, пушечное ядро, несколько раз взлетал, отражая его кулаком, и сохранил девственность своих ворот до конца игры», и только тогда увидел, что подвиги его были напрасны: Она ушла раньше и не стала смотреть его последний решающий бросок.
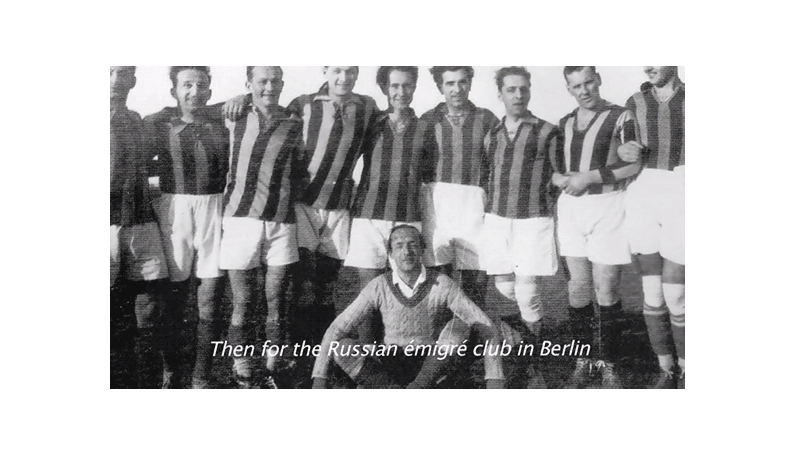 И наконец в «Университетской Поэме» (1927) лирический герой даже не играет сам — он смотрит матч, сидит на футболе. И почти одновременно с переживанием гола переживает романтическое разочарование. Как если бы, неся за плечами изгнание, потеряв «свое» место игры, Набоков не мог отделаться от убеждения, что всякий успех должен быть оплачен поражением.
И наконец в «Университетской Поэме» (1927) лирический герой даже не играет сам — он смотрит матч, сидит на футболе. И почти одновременно с переживанием гола переживает романтическое разочарование. Как если бы, неся за плечами изгнание, потеряв «свое» место игры, Набоков не мог отделаться от убеждения, что всякий успех должен быть оплачен поражением.
Вот он — первый набоковский гол:
«Но вот однажды, помню живо,
в начале марта, в день дождливый,
мы на футбольном были с ней
соревнованьи. Понемногу
росла толпа, — отдавит ногу,
пихнет в плечо, — и все тесней
многоголовое кишенье.
С самим собою в соглашенье
я молчаливое вошел:
как только грянет первый гол,
я трону руку Виолеты.
Меж тем, в короткие портки,
в фуфайки пестрые одеты,
уж побежали игроки.
Обычный зритель: из-под кепки
губа брезгливая и крепкий
дымок Виргинии. Но вдруг
разжал он губы, трубку вынул,
еще минута — рот разинул,
еще — и воет. Сотни рук
взвились, победу понукая:
игрок искусный, мяч толкая,
вдоль поля ласточкой стрельнул, —
навстречу двое, — он вильнул,
прорвался, — чистая работа, —
и на бегу издалека
дубленый мяч кладет в ворота
ударом меткого носка.
И тихо протянул я руку,
доверясь внутреннему стуку,
мне повторяющему: тронь...
Я тронул. Я собрался даже
пригнуться, зашептать... Она же
непотеплевшую ладонь
освободила молчаливо,
и прозвучал ее шутливый,
всегдашний голос, легкий смех:
„Вон тот играет хуже всех — все время падает, бедняга...”»
А второй — могучий, ослепительный почти-гол, удар, застывший во времени — родом из «Дара» (1938). Годунов-Чердынцев разговаривает с Зиной, это первый их серьезный разговор. Они говорят о живописце Романове, о его картине «Футболист». Перед нами одно из самых сильных описаний изображения в литературе, и одно из самых сильных описаний футбольного удара. Но — гол не забит. До него осталась секунда. И эта секунда никогда не минет. Годунов-Чердынцев будет счастлив с Зиной Мерц всю свою жизнь.
«Вы знаете его „Футболиста”? Вот как раз журнал с репродукцией. Потное, бледное, напряженно-оскаленное лицо игрока во весь рост, собирающегося на полном бегу со страшной силой шутовать по голу. Растрепанные рыжие волосы, пятно грязи на виске, натянутые мускулы голой шеи. Мятая, промокшая фиолетовая фуфайка, местами обтягивая стан, низко находит на забрызганные трусики, и на ней видна идущая по некой удивительной диагонали мощная складка. Он забирает мяч сбоку, подняв одну руку, пятерня широко распялена — соучастница общего напряжения и порыва. Но главное, конечно, ноги: блестящая белая ляжка, огромное израненное колено, толстые, темные буцы, распухшие от грязи, бесформенные, а все-таки отмеченные какой-то необыкновенно точной и изящной силой; чулок сполз на яростной кривой икре, нога ступней влипла в жирную землю, другая собирается ударить — и как ударить! — по черному, ужасному мячу, и все это на темно-сером фоне, насыщенном дождем и снегом. Глядящий на эту картину уже слышал свист кожаного снаряда, уже видел отчаянный бросок вратаря».
Подлинный гол
Следующий игрок — Валентин Катаев. Гол, который он забивает, — и его, и не его. Скорее он подает.
Подлинная, жизненная история гола такова. На поле после игры встретились два гимназиста. Они в разных курточках (один в серой, другой в черной) — учатся в разных школах. Один из них только что забил гол. Второй старше, на поле не геройствовал, но уже имеет первые признанные литературные опыты. И несмотря на обстоятельства встречи — этот победный гол, — его немного пробивает на менторский тон. Позже они будут очень дружны. А потом старший мальчик станет успешным и богатым, а младший будет бедным, неуверенным в себе и великим. Он будет стоять на улице, а старший проедет мимо него на черной лакированной машине. Один из них напишет: «Читал „Белеет парус одинокий”. Катаев пишет лучше меня». А второй, когда отойдет от своей ладной советской легкости, будет признаваться, что своей «новой» прозой во многом обязан младшему другу. В последние годы они не будут разговаривать друг с другом. А потом младший умрет.
Эти мальчики — Валентин Катаев и Юрий Олеша. В мемуарной книге Катаева «Алмазный мой венец» (1979) Олеша забивает гол — и этот настоящий, реальный гол предваряет все его будущие литературные голы. Катаев этот мяч сохранил.
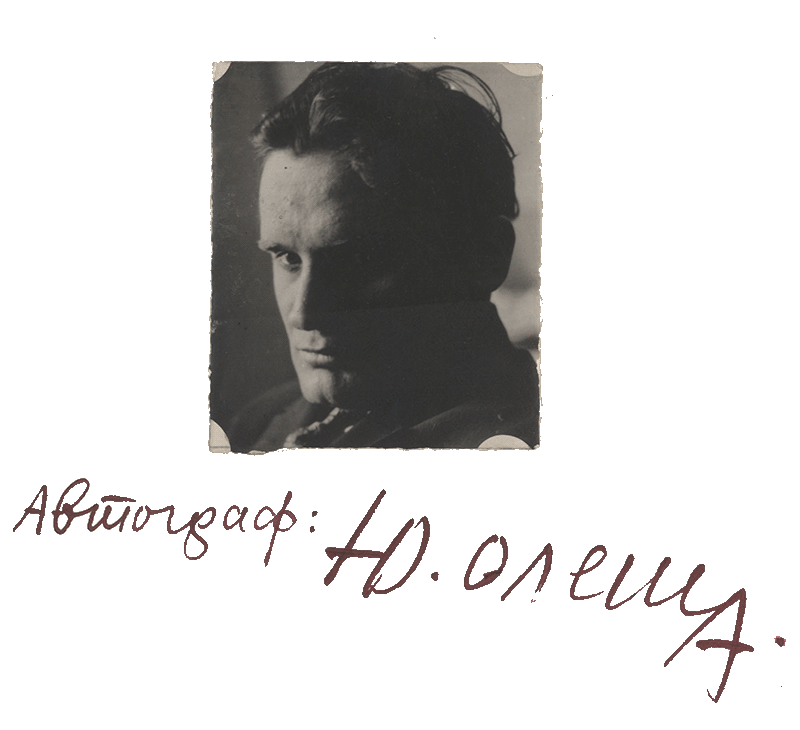
«…незаметно возникают изображения самого отдаленного прошлого, например, футбольная площадка, лишенная травяного покрова, где в клубах пыли центрфорвард подал мяч на край, умело подхваченный крайним левым. Крайний левый перекинул мяч с одной ноги на другую и ринулся вперед — маленький, коренастый, в серой форменной куртке Ришельевской гимназии, без пояса, нос башмаком, волосы, упавшие на лоб, брюки по колено в пыли, потный, вдохновенный, косо летящий, как яхта на крутом повороте. С поворота он бьет старым, плохо зашнурованным ботинком. Мяч влетает мимо падающего голкипера в ворота. Ворота — два столба с верхней перекладиной, без сетки. Продолжая по инерции мчаться вперед, маленький ришельевец победоносно смотрит на зрителей и кричит на всю площадку, хлопая в ладоши самому себе:
— Браво, я!
(Вроде Пушкина, закончившего „Бориса Годунова”. Ай да Пушкин, ай да сукин сын!)»
Гол надежды
Стадион гудит. Мы встречаем Олешу-писателя и его литературный гол. Наш игрок много писал о футболе — в Одессе это была игра его поколения: «Мои взрослые не понимали, что это, собственно, такое, этот футбол, на который я уходил каждую субботу и каждое воскресенье. Играют в мяч… Ногами? Как это — ногами? Где это происходит? На поле Спортинг-клуба, отвечал я. Где? На поле Спортинг-клуба. Что это? Ничего не понимаю, говорил отец, какое поле? Спортинг-клуба, отвечал я со всей твердостью новой культуры».
Одесская футбольная школа была знаменита: в противовес орехово-зуевской, где играть начинали фабричные рабочие, наученные английскими инженерами, — южные же школы были площадкой изначального футбольного равенства: занесенной портовой вольницей игрой увлеклись и гимназисты, и дети рыбаков, и дети судовладельцев. С немалым романтическим чувством Олеша пишет о своих футбольных упражнениях: «Мы возвращались уже среди сумерек. Цветы уже все казались белыми... Наши ноги в футбольных бутсах ступали по ним. Мы просто не видели их. Это теперь, вдруг оглянувшись, я увидел целый плащ цветов — белый, упавший в траву рыцарский плащ».
Но решающую сцену своего романа «Зависть» (1927) он переносит на футбольный матч не из сентиментальных соображений. На матче собираются все герои романа. На трибунах поместились завистник Кавалеров, взыскующий красоты и личного успеха, и новый человек, коллективный человек, красный и колбасный директор Андрей Бабичев. Валя Бабичева ждет матча в ложе, как Прекрасная Дама, — чтобы увенчать победителя турнира.
На поле, в воротах, стоит воспитанник Бабичева, юный и чистый реалист Володя Макаров. Появляется, казалось бы, проходной персонаж — футболист Гецкэ, индивидуалист и профессионал (в противовес прекрасному советскому любительству).
Складываются две пары. Гецкэ и Макаров как бы отыгрывают на поле противостояние Бабичева и Кавалерова. И — Макаров пропускает гол. Это единственный гол матча и романа. Возможно ли, чтобы Олеша позволил себе утешительный приз: разрешил нам всем на секунду подумать, что ведь победа индивидуалиста тоже возможна? Нет, Кавалеров, разумеется, проигрывает — он человек бессильный. Когда к нему на трибуну залетает мяч, он не способен дотронуться до него: ему кажется, что все над ним смеются. Мяч обратно в игру запускает Бабичев.
«Уже в середине игры зрителям стало ясно, что советская команда не уступает немцам. Они не вели правильной атаки — Гецкэ мешал этому. Он портил, разрушал их комбинации. Он играл только для себя, на свой риск, без помощи и не помогая. Получив мяч, он стягивал все движение игры к себе, сжимал его в клубок, распускал и скашивал, переводил из одного края в другой — по собственным, неясным для партнеров планам, надеясь только на себя, на свой бег и уменье обводить противника.
Отсюда зрители заключили, что вторая половина игры, когда Гецкэ выдохнется и когда наши получат поветренную сторону, окончится разгромом немцев. Лишь бы сейчас наши продержались, не пропустив в свои ворота ни одного мяча.
Но и на этот раз виртуоз Гецкэ добился своего. За десять минут до перерыва он вырвался к правому краю, пронес мяч туловищем, потом резко остановился, осекши погоню, которая, не ожидая остановки, выбежала вперед и вправо, повернул с мячом к центру и по чистому пространству, обведя только одного советского бека, погнал мяч прямо на ворота, часто взглядывая то под ноги, то на ворота, как бы соразмеряя и высчитывая скорость направления и срок удара.
Сплошное „о-о-о” воем катилось с трибун.
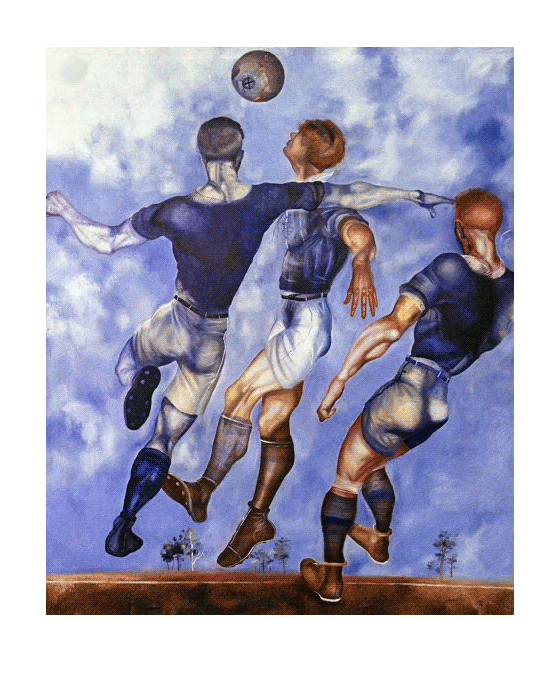
Юрий Пименов. Футболисты. 1926 год. Астраханская государственная картинная галерея им. П. М. Догадина
Фото: artinvestment.ru
Володя, раскорячась и расставив руки так, как если бы держал он невидимую бочку, приготовился хватать мяч. Гецкэ, не ударяя, подбежал к воротам. Володя упал ему под ноги. Мяч забился между ними двумя, как в бочке; потом свистки и топот зрителей покрыли финал сцены. От удара кого-то из двух мяч легко и неверно взлетел над головой Гецкэ, и тот вбил его в сетку толчком головы, похожим на поклон.
Таким образом, советская команда получила гол.
Стадион грохотал. Бинокли повернулись в сторону советских ворот. Гецкэ, глядя на свои мелькающие башмаки, кокетливо бежал к центру.
Товарищи поднимали Володю».
Товарищеский гол
Гашек! Мы встречаем неистового Гашека с его «Товарищеским матчем между „Тиллингеном” и „Гохштадтом”» («Руде право», 10.07.1921).
Ярослав Гашек был болельщиком. Как, собственно, и большая часть его соотечественников; в двадцатые годы прошлого века чешский футбол был феноменом, удивлением, национальным чудом — пражское дерби называли одним из мощнейших в Европе; команды-антагонисты «Спарта» и «Славия» соперничали друг с другом с неумолимым энтузиазмом.
В чем было их различие? В том-то и дело, что различия не было никакого. Позднее, после Второй мировой войны, начали писать, что «Спарта» — команда народная, в то время как «Славию» поддерживает интеллигенция. Но сначала-то обе команды появились в одном пражском районе Винограды; ни религиозных, ни национальных, ни социальных различий между командами и сообществами болельщиков не было. Это и было самым нестерпимым.
И Гашек, сидя в пражском кафе, пишет после одной из футбольных схваток свою юмореску (если только это можно назвать юмореской) — о товарищеском матче между командами двух маленьких баварских городков. Футболом балуются гохштадтцы и тиллингенцы, имеющие долгую (еще со средних веков) историю противостояния.
Гашек пользуется излюбленным своим приемом — доводит всякую идею до логического конца, до клинического абсурда и переворачивает основное понятие: если матч товарищеский, в живых не останется никого. «Гохштадтцы защищались отчаянно, и в общей свалке им удалось повесить капитана тиллингенцев на перекладине ворот гохштадтцев. Полуцентр тиллингенцев загрыз обоих беков Гохштадта и в свою очередь был убит форвардом противника».
Можно было бы сказать, что Гашек отыгрывает ослепительную свирепость той стихии, из которой футбол вырос и которую собой подменил, но, боюсь, он писал о будущем. В двадцать первом году Гашек только вернулся из России, которую от Киева до Иркутска прошел в Гражданской войне. Он знал, что нет более страшного врага, чем ближайший сосед. Он закончил свой текст: «Когда я после этого вспоминаю о матче „Славия” — „Спарта”, мне становится ясно, что футбол у нас еще пеленках».
«Форварды Гохштадта возбуждали всеобщее удивление; они гнались за мячом так же быстро, как их предки за убегавшими тиллингенцами. Мяч в ворота противника они забивали с такой же непреодолимой силой, как тараны их предков когда-то разбивали ворота города Тиллингена.
Сыгранность и спаянность всей команды гохштадцев, полубеков, полуцентра и крыльев преодолевала живую преграду тел, закрывавшую путь к неприятельским воротам. Однажды даже вышло так, что вместе с мячом они вбили в ворота противника своего собственного бека.
Удары их были чудовищны. Мяч, который они вбили в ворота враждебной команды, свалил голкипера, пробил сетку, оторвал ухо одному зрителю, убил собаку, игравшую недалеко за полем, и сбил с ног шедшего там прохожего».
Плохой хороший гол
Следующий наш игрок, Ахмед Салман Рушди, с отроческих лет болеет за «Тоттенхэм хотспёрс» (он же «Шпоры»), славный лондонский клуб, находящийся в оппозиции с великим «Арсеналом». Главный враг, как мы знаем, всегда на пользу команде. Легче формулируется легенда — «о чем играем», жарче страсти. Наличие врага укрупняет игру и расширяет поле победы: так, для болельщиков «Динамо» радость не только виктория своей команды, но и любой — в каком угодно матче — проигрыш «Спартака». То же самое со «Шпорами» и «Арсеналом» — Рушди описывает свое первое знакомство с гимном команды, которая украла его сердце: «Я даже не знал слов гимна „Шпор”, переделанного из американской Glory, Glory, Hallelujah («Слава, слава, аллилуйя»): „И давно лежит в могиле бедный старый «Арсенал», а «Шпоры» все идут вперед! Вперед! Вперед!”». О, а еще он сразу выучил кричалку; когда гол уже забит, нужно, прямо глядя на противоположную трибуну, петь противникам: «Что примолкли, что примолкли, вы примолкли-то чего?».

Фото: nashizdat.com
В этом году ровно тридцать лет, как Рушди живет со смертным приговором, заработанным за книгу «Сатанинские стихи». Он оскорбил чувства верующих: родился в индийской мусульманской семье — и позволил себе неловко пошутить. В 1988 году аятолла Хомейни призвал мусульман всего мира исполнить приговор. С тех пор Рушди светской жизнью, скажем так, не живет. В его эссе о любимой команде «Народная игра» (опубликовано в книге «Шаг за черту» (1999–2002)) видна лютая тоска по нормальности. Бесценно дождливое воскресенье, и бесценен плохой матч 1999 года между «Тоттенхэм хотспёрс» и «Лестером». Собственно, это главное, что в есть в эссе, — описание плохого, скучного, драгоценного матча.
«Если основные девяносто минут закончатся вничью, будет назначено полчаса дополнительного времени, а если и после этого счет будет равный, исход встречи решит пенальти. (Болельщики терпеть не могут этого слепого, убийственного произвола. Мы каждый раз надеемся, что до этого не дойдет.) …Начинается последняя минута основного времени. „Лестер”, явно уже настроившись на дополнительный тайм, на всякий случай убирает с поля буйного Робби Сэвиджа, который будет отлучен от игры, если заработает второе предупреждение, а играет он так, что только по случайности до сих пор не напросился на красную карточку. Вместо него выходит Тео Загоракис, капитан сборной Греции. Но перестроиться на игру в новом составе „Лестер” не успевает — тут-то и разражается катастрофа.
Молниеносная передача Фердинанда в центральной зоне дает Иверсену возможность перехватить инициативу, его стремительный проход по правому флангу застает защиту „Лестера” врасплох. Он прорывается в штрафную и бьет по воротам. Удар не особо выдающийся — хорошо направленный, но слабый. И тем не менее почему-то Кейли Келлеру не удается схватить мяч, он вяло отбивает его вправо, прямо на голову рвущемуся вперед Аллану Нильсену. Бум! Как сказал бы комментатор „Юнивижен”: „Гоооооооооооол!!!”
Через миг все закончено — „Тоттнэм” победил со счетом 1:0. „Что примолкли, что примолкли, вы примолкли-то чего?”» (Перевод с английского А. Глебовской)
Бессмысленный гол
Но вот на газоне появляется Лазарь Лагин («Старик Хоттабыч», 1940), один из самых причудливых и недооцененных игроков. О всяком популярном предмете всегда найдется пара-тройка расхожих суждений: о футболе часто говорят как об игре, которая на отстраненный взгляд кажется нелепой — «двадцать мужчин, бегающих за одним мячиком». И вот же появляется в лагинской книжке этот наблюдатель с мороза, просидевший все Новое время в бутылке, — старик Хоттабыч. Он делает доброе дело — на поле валятся двадцать два мяча. И смысла в происходящем больше нет, что печальным образом ставит под сомнение ценность одного из главных заклинаний шестидесятых годов — этого времени надежды: «Счастье для всех. И пусть никто не уйдет обиженным». Дальше неловкий волшебник начинает подыгрывать полюбившейся команде: поднимать или опускать штангу ворот и направлять мячи в свободные углы, чем совершенно обесценивает победу. Эта сказочная сцена романа антисказочна: она уничтожает ( или, по крайней мере, усложняет) всякую мечту о чуде. Трудно быть волшебником.
У Лагина футбол становится метафорой жизненного порядка, а Хоттабыч — неудачливым прогрессором.
«Шайбовцы, ловко обводя защиту, стремительно приближались к воротам „Зубила”. Бац! Второй гол за три минуты! Причем оба раза не по вине вратаря „Зубила”. Вратарь дрался как лев. Но что он мог поделать? В момент удара по воротам их верхняя планка сама по себе приподнялась ровно настолько, чтобы мяч пролетел, чуть задев кончики его пальцев. Кому сказать об этом? Кто поверит? Вратарю стало грустно и страшно, как маленькому мальчику, попавшему ночью в дремучий лес».
Откровенный гол
Мы ждали любовных метафор — и вот же они. На поле — Абрам Терц (Андрей Синявский). В его рассказе «Суд идет» (1956) Владимир Петрович Глoбов, городской прокурор, отправляется на футбол. Очень скоро Владимир Петрович сдаст своего арестованного сына-подростка, решив ему не помогать, возненавидит жену-красавицу, запьет и разобьет квартиру розовской шашкой (или это Виктор Розов разобьет мещанский гарнитур именной конногвардейской шашкой от Абрама Терца; пьеса Розова, из которой взялась запомнившаяся сцена, написана на год позже — в 1957) — но, в общем, останется живым и при месте. А это победа. Но пока он сидит на матче, и изо всех сил пытается помочь возлюбленному «Спартаку».
«„Спартак” наступал. Центр нападения — заслуженный мастер спорта Скарлыгин — пробивался к воротам противника. Счет был 0:0. У всех занялся дух.
Тысячи зрителей, в том числе прокурор Глoбов, впившись глазами в тело прославленного спортсмена, объединенным усилием толкали его вперед. Но тысячи других воль, что боролись на стороне „Динамо”, воздвигали на пути Скарлыгина бесчисленные преграды, желали ему споткнуться, упасть, сломать шею. И потому мяч, ринутый могучею ногою, не летел по прямой, как можно было от него ожидать, а метался растерянно, путаясь в бутсах и приводя в замешательство игроков.
Владимир Петрович изо всех сил старался помочь „Спартаку”. Напрягая мускулы, он видел, что оборона противника начинает слабеть. Удвоил натиск — она поддалась. И тогда, очертя голову, он ударил, и еще раз ударил, и еще, и еще...
Футбольный матч — в острейшие секунды игры — все равно что обладание женщиной. Ничего не замечаешь вокруг. Одна лишь цель, яростно влекущая: туда! Любой ценой. Пусть смерть, пускай что угодно. Только б прорваться, достичь. Только б заслать в ворота самой судьбою предназначенный гол. Ближе, ближе, скорее... И уже нельзя ждать, нельзя отложить до другого раза... — Ну, я прошу тебя, Марина, понимаешь, прошу!..
Центр нападения, Скарлыгин, подобрался к воротам „Динамо”. Вратарь Пономаренко, по-мальчишески юркий, пританцовывал от нетерпения, готовясь к прыжку. А сзади уже наседали запыхавшиеся защитники.
— Бей, Саша! Бей! — стонал стадион.
Пономаренко покатился кубарем, прижимая мяч к животу. Скарлыгин тоже упал, но сейчас же вскочил на ноги, подброшенный ревом толпы. Он уже не мог остановиться, потому что цель, ради которой ему пришлось столько выстрадать, была рядом, и тысячи людей требовали победы, и до конца игры оставалось полминуты. Скарлыгин нанес удар. И еще раз ударил, и еще...»
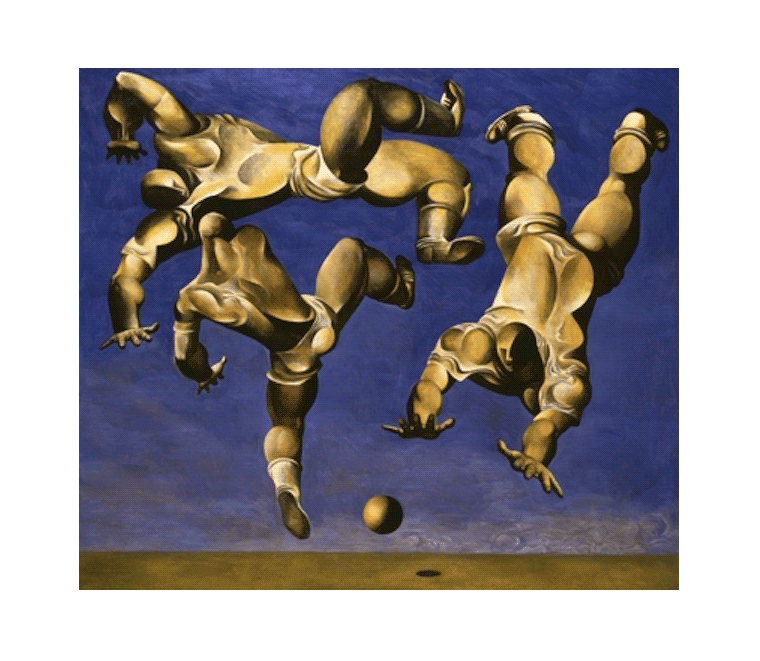
Михаил Брусиловский. Игра в мяч (Футбол). 1965 год
Фото: wikimedia.commons
Героико-задушевный гол и ответный удар
В самом конце второго тайма мы встречаем на поле Евгения Евтушенко, часто и много писавшего футболе. Для него, бывшего в знакомстве со всеми великими людьми своего поколения, важно было писать о футболистах как о личных друзьях. Позднее его творчество — это своего рода создание музеона.
«Двадцатым веком в пыль он не был перемолот,
и двадцать первый век нам не сотрет лица.
Вчера мне позвонил Алеша Парамонов:
„В Молдову все летим, включая и Стрельца”.
И это все не сон… Летим почти по-царски,
вдыхая аромат футбольных прежних трав,
и Эдик мне в плечо уткнулся по-пацански,
постанывая чуть от стольких старых травм».
И самый яркий гол у Евтушенко обнаружился в стихах поздних (2009), написанных с тяжелым, задушевным патриолюбием, которое так сильно звучало в свое время в Политехническом. Поэма посвящена знаменитому товарищескому матчу СССР — ФРГ, сыгранному на стадионе «Динамо» в августе 1955 года. В тот день советская сборная выиграла у немцев, бывших тогда чемпионами мира
«Простившие Родине все их обиды,
катили болеть за нее инвалиды, —
войною разрезанные пополам,
еще не сосланные на Валаам,
историей выброшенные в хлам —
и мрачно цедили: „У, фрицы! У, гниды!
За нами Москва! Проиграть — это срам!”
Еще все трибуны были негромки,
но Боря Татушин,
пробившись по кромке,
пас Паршину дал.
Тот от радости вмиг
мяч вбухнул в ворота,
сам бухнулся в них.
Так счет был открыт,
и в неистовом гвалте
прошло озаренье по тысячам лиц,
когда Колю Паршина поднял Фриц Вальтер,
реабилитировав имя Фриц.
Фриц дружбой —
не злостью за гол отплатил ему!
Он руку пожал с уваженьем ему,
и — инвалиды зааплодировали
бывшему пленному своему!»
Евгений Александрович знал свою способность наносить прямые эмоциональные удары.
Но мы можем ответить голом на гол.
В книге «Вокруг мяча», составленной из текстов журнала «Крокодил» (1987), была опубликована пародия Александра Иванова, ведущего давней телепередачи «Вокруг смеха» и известного поэта-юмориста (а популярность была у него особенная, зашкаливающая) на спортивные стихи Евтушенко. Рифмованный гротеск называется «Баллада о левом полузащитнике».
Так что срифмуем два этих гола, разминувшихся во времени.
«Устав от болтовни
и безыдейности,
заняться я хочу
полезной деятельностью.
В работу окунувшийся
по щиколотку,
я в левые иду
полузащитники.
Я получаю мяч. Бегу.
Мне некогда,
тем более
что пасовать мне некому,
а если бы и было —
накось выкуси! —
я сам хочу
финты красиво выполнить.
И вот уже
защита проворонила,
и я уже возник
перед воротами,
вопят трибуны —
мальчики и девочки,—
и мне вратарь
глазами знаки делает...
Я бью с размаху
в правый верхний угол.
Бросок! Вратарь
летит на землю пугалом,
но где уж там...
Удар неотразимый!
Как материт меня
вратарь-разиня!
Я оглушен
команды нашей криками,
и тренер
как-то очень странно кривится,
и голос информатора
противный:
«Счет 0:1».
Ликует... наш противник,
и по трибунам
ходят волны ропота.
Ах, черт возьми,
я бил в свои ворота!
И сам себе я
повторяю шепотом:
„А что потом,
а что потом,
а что потом?..”»