Если предаваться думскроллингу, то такому
Что читали авторы «Горького» в 2025 году. Часть 5
Собрание сочинений Дэвида Айка, три перевода «Винни-Пуха», лейтенантская проза, «Евгений Онегин» и манифест философа, который ушел жить в море: авторы «Горького» подводят читательские итоги года, и мы вместе с ними делаем 2025-му ручкой.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Роман Королёв
В этом году я защитил в РГГУ магистерскую диссертацию на тему «Концепция Земли как „планеты-тюрьмы“ в современном западном эзотеризме», поэтому в заметном количестве читал Дэвида Айка и обнаружил, что согласен с ним по заметно большему числу пунктов, чем мог бы предположить изначально (в том, что все мировые элиты являются просто злыми говорящими ящерицами, проецирующими в так называемый физический мир свою голограмму из астрала, так совершенно точно согласен).
Из нехудожественной литературы с огромным удовольствием прочел «Русскую демонологию» Аллы Никитиной о народных поверьях об огненном змее, баннике, водяном, лешем и черте, кладах, гаданиях и оживших покойниках. Книжка эта научно-популярная и иногда, вероятно, страдает излишним упрощением материала и его организацией с тем, чтобы произвести наибольшее впечатление на читателя, однако это никак не отменяет того, насколько же восхитительное богатство фантазии, сделавшее бы честь многим писателям хоррора, скрывается за пересказанными в ней историями о столкновениях со сверхъестественной силой.
Из более серьезной литературы специально остановлюсь на превосходной книге американского социолога, исследователя ультраправых движений Майкла Баркуна «Культура заговора. Апокалиптические видения в современной Америке». Баркун раскрыл мне глаза на то, как в конспирологической литературе была сконструирована концепция Нового мирового порядка и какое место в соответствующей мифологии занимает фигура Люцифера, который станет править Землей посредством новейших электронных технологий слежения или даже сам будет иметь вид суперкомпьютера, способного прогнозировать поведение всех людей на земле (а то, что подобный компьютер уже на нашем веку перехватит контроль над миром у всех владык земных, человек здравомыслящий едва ли станет подвергать сомнению).
Книжка антрополога Сьюзан Лепселтер: «Резонанс невидимых вещей. НЛО, поэтика и власть в американском необъяснимом» не настолько объемная по охвату, но очень лиричная и тонкая, поскольку сконцентирована не на конструкции больших конспирологических нарративов, но на конкретных людях с их историями, живущих в окрестностях легендарной «Зоны 51» либо собирающихся в организованный по образцу Анонимных алкоголиков кружок, чтобы делиться своими историями. Люди, печальные истории которых пересказывает Лепселтер, застряли в жизненных обстоятельствах, совсем не похожих на реализацию американской мечты, и транспортирующий их на инопланетный корабль луч пришельцев парадоксальным образом не только парализует их, но и приносит своего рода свободу.
Из литературы художественной хотел бы отметить «Танцы с медведями» Майкла Суэнвика: разудалую клюкву о постапокалиптической России, в которой местный Сурков ходит со вживленными хирургическим путем инсектоидными глазами, потомственная аристократия щеголяет фамилиями вроде Лукойловой-Газпром, а генетически модифицированные медведи охраняют князя Московии. Довольно впечатляющим выглядит тот факт, что написал эту книгу в 2005 году человек, воспринимающий российскую культуру, в отличие от того же Владимира Сорокина, взглядом иностранца — и, несмотря на всю демонстративную «клюквенность», в целом верно угадавший направление, в котором мы все движемся.
Еще с интересом прочитал дебютный роман «Где» молодого армянского прозаика Коли Степаняна, вышедший в свет в издательстве Individuum, — своего рода вариацию на тему джеклондоновской «Жажды жизни», написанную на материале войны в Нагорном Карабахе.
Самым же интересным и неожиданным в этом году было предложение ознакомиться с повестью «Тишина и старик» забытого киевского писателя Михаила Пантюхова (послужившего, согласно одной из версий, прототипом булгаковского Мастера), и с вышедшим из этого проектом читатель настоящих строк получит возможность ознакомиться уже совсем скоро.
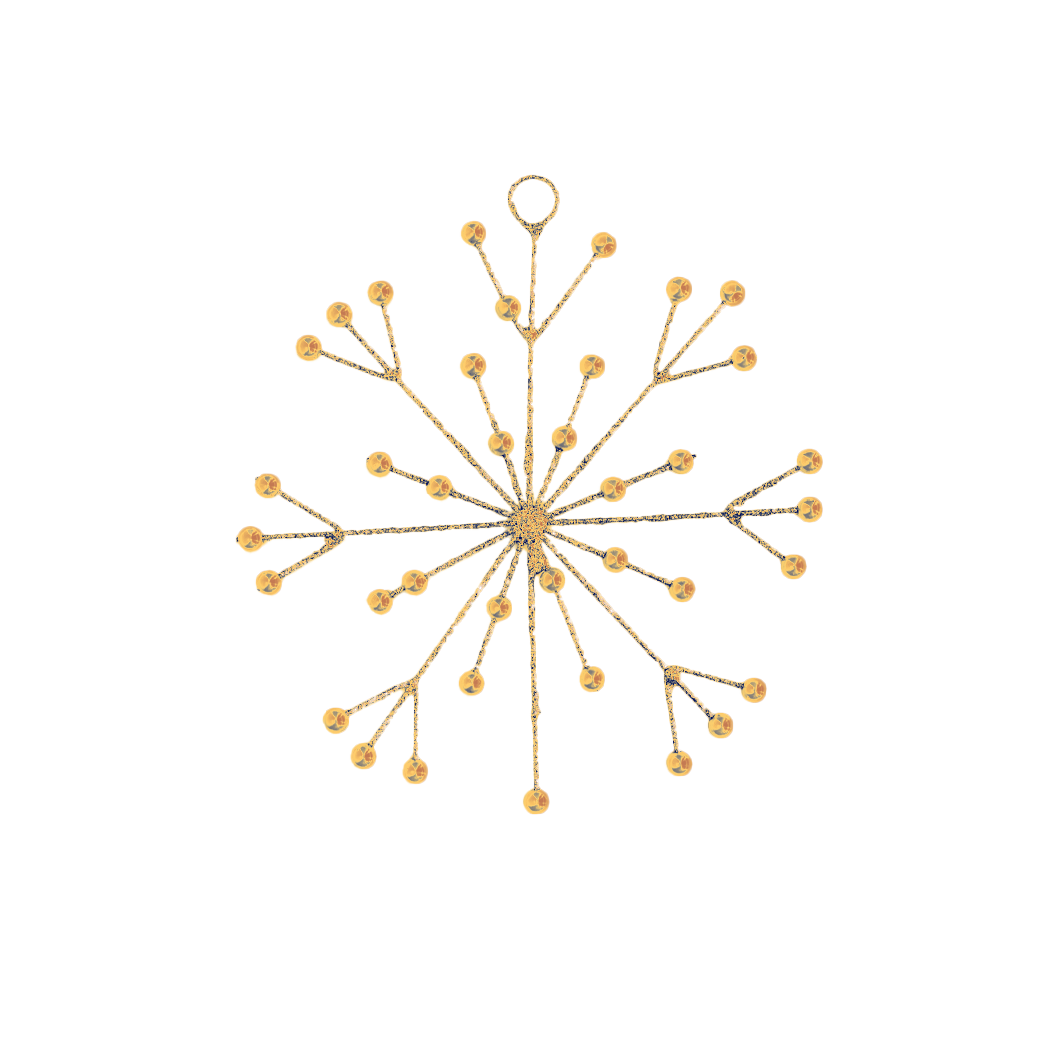
Дмитрий Жихаревич
В этом году я опять читал меньше, чем хотелось бы. Он начался с новых книг — «Средней продолжительности жизни» Максима Семеляка и «Краткой истории СССР» Шейлы Фицпатрик, а завершается перечитыванием классики — социологией религии Вебера и «Маленькими трагедиями» Пушкина. Как и подобает классике, это чтение, по-видимому, продолжится и в году наступающем, что позволяет отнестись к подведению итогов чуть менее серьезно, чем требует жанр, и не заниматься навязчивым подсчетом количества прочитанных книг (в шт.). Год заканчивается, чтение продолжается.
Главные впечатления уходящего книжного года таковы. Во-первых, я читал автобиографическую прозу: «Вчерашний мир» Цвейга и «Подстрочник» Лилианы Лунгиной. Это захватывающая литература, и не только потому, что каждая книга — свидетельство длинной и непростой жизни, хроника индивидуальной судьбы в вихре истории двадцатого века. Витиеватое письмо Цвейга и устный монолог Лунгиной полны неожиданными поворотами и встречами с историческими персонажами, почти как в сериале о молодом Индиане Джонсе, за которыми угадывается единство эпохи. С одной стороны, довоенной Европы, где свободно путешествуют идеи, люди и товары, а Цвейг поддерживает дружеские связи с Герцлем и Фрейдом, Ратенау и Хаусхофером, но в недрах которой уже зреют ядовитые зерна фашизма. С другой — единства российской истории, сохраняющегося в биографиях и социальных связях, которые идут «поверх» войн, революций и эмиграций и соединяют Москву, Берлин, Париж и Тель-Авив. В автобиографии Лунгиной мы тоже встречаемся с галереей лиц российской и советской культуры — Эренбургом и Ахматовой, Твардовским и Солженицыным, Войновичем и Самойловым. Есть и другие параллели: оба текста написаны «по памяти»: Цвейг писал свой роман в эмиграции, не имея доступа к собственному архиву, а «Подстрочник» является расшифровкой устных интервью Лунгиной, вошедших в одноименный фильм Олега Дормана. Оба автора — представители культурной элиты своей страны и эпохи и одновременно «большой» культуры, претендующей на универсальность; сохраняя связь со своим еврейским происхождением, они мыслят поверх границ и остаются космополитами в лучшем смысле этого слова, вопреки всему.
Два впечатляющих эпизода. Живший тогда в Англии Цвейг вспоминает чувство облегчения, испытанное в первые дни после Мюнхенского соглашения, сулившего мир; на короткое время оно оказалось сильнее скептического предположения, что речь идет в лучшем случае лишь об отсрочке войны. (К этому стоит добавить пронзительные описания переживаний автора в дни начала мировых войны — лето 1914 года в Бадене под Веной, сентябрь 1939 года в британском Бате, — повседневная жизнь не прерывается, но течет в тени надвигающихся событий; ощущение, вполне понятное тем, кто помнит февраль 2022 года.) У Лунгиной — описание прогона по улицам Москвы пленных немцев, которым жалостливые старушки предлагают хлеб, а дело происходит в 1944 году (!).
Во-вторых, я читал лейтенантскую прозу — «Момент истины» Богомолова, фрагменты из которого («Товарищ капитан… Бабушка приехала») можно цитировать наизусть, отчасти благодаря одноименному фильму (2001 года), а также «В окопах Сталинграда» и военные рассказы Виктора Некрасова. Потомок дворянского рода и советский офицер с боевыми наградами, писатель и инженер, лауреат Сталинской премии и диссидент, киевлянин и парижанин, а также близкий друг семьи Лунгиных, Некрасов прожил яркую жизнь, в которой уместился весь «короткий двадцатый век» российской истории, неразрывно связанной с историей европейской. В романе есть эпизод, иллюстрирующий эту связь, пусть и с мрачной стороны. Попав в Сталинград после отступления с Дона, главный герой — молодой военный инженер Керженцев — оказываются в гостях у девушки Люси, которая играет на рояле «Кампанеллу» Листа; на том же рояле стоит бюст Бетховена, а на стене висит «Остров мертвых» Бёклина. Позднее, в ходе Сталинградской битвы, Керженцев участвует в многодневных боях за подбитый танк, разделяющий немецкие и советские позиции; из разговора с перебежчиком выясняется, что немцы называют это танк Toteninsel. Собеседник Керженцева переводит это слово как «остров смерти»: «Туда только штрафников посылают. Кто сутки просидит — оправдывается, кто двое — получает железный крест, кто трое — с дубовыми листьями. Но таких еще не было…» Однако правильный перевод — это именно «остров мертвых», как и в названии картины Бёклина.
В-третьих, нон-фикшн. В этом я прочитал наконец книгу немецко-американского историка Штефана Линка Forging Global Fordism, фундаментальное исследование рождения и распространения фордизма как индустриальной и социальной технологии, сыгравшей ключевую роль в ходе Второй мировой войны. Как показывает Линк, эта война была не только и не столько битвой правого и левого гегельянства (Ильенков), сколько правого и левого фордизма, двух версий «постлиберального» политико-экономического порядка. Итоги этой борьбы, а также послевоенного «одомашнивания» фордизма, рожденного из бунтарского духа инженеров-автомобилистов и политиков-популистов американского Среднего Запада, но ставшего опорой общества потребления, во многом определили ход уже холодной войны, а отчасти и до сих пор остаются одной из несущих конструкций современного мира. Подробнее — читайте на «Горьком» в будущем году.
Наконец, в этом году я начал осваивать веберовскую социологию религии, от «Протестантской этики» ко второму тому «Хозяйства и общества» (в русском издании) и далее к сравнительному анализу хозяйственной этики мировых религий, включающему знаменитый теоретический фрагмент о «ступенях религиозного неприятия мира» (т. н. промежуточное рассмотрение). Эти тексты были написаны в течение полутора десятилетий, их разделяют война и революция, однако в содержательном отношении они уточняют и проясняют друг друга. Среди специалистов давно существует точка зрения, что именно социология религии и составляет ядро веберовской теории; так или иначе, целый ряд теоретических идей, сформулированных на материале анализа религии, — колдуны и священники, пророки и мистагоги, этическое и экземплярное пророчество, харизматический авторитет и необходимость его «подтверждения», — приобрели большое влияние за пределами изучения религии (например, в социологии экспертизы), ведь с их помощью можно анализировать не только священников или лидеров культа, но и онлайн-коучей, военных аналитиков, заклинателей дождя и харизматических технопредпринимателей. (Или, скажем, монархов — не случайно недавно переведенная книга Гребера и Салинза «О королях» содержит немало веберовских сюжетов).
Можно было бы упомянуть блестящие сборники афоризмов Салинза или «Науку и современный мир» Уайтхеда, где тоже есть интересная перекличка с веберовской «Наукой как призванием», но лучше постараемся продолжить в следующем году.
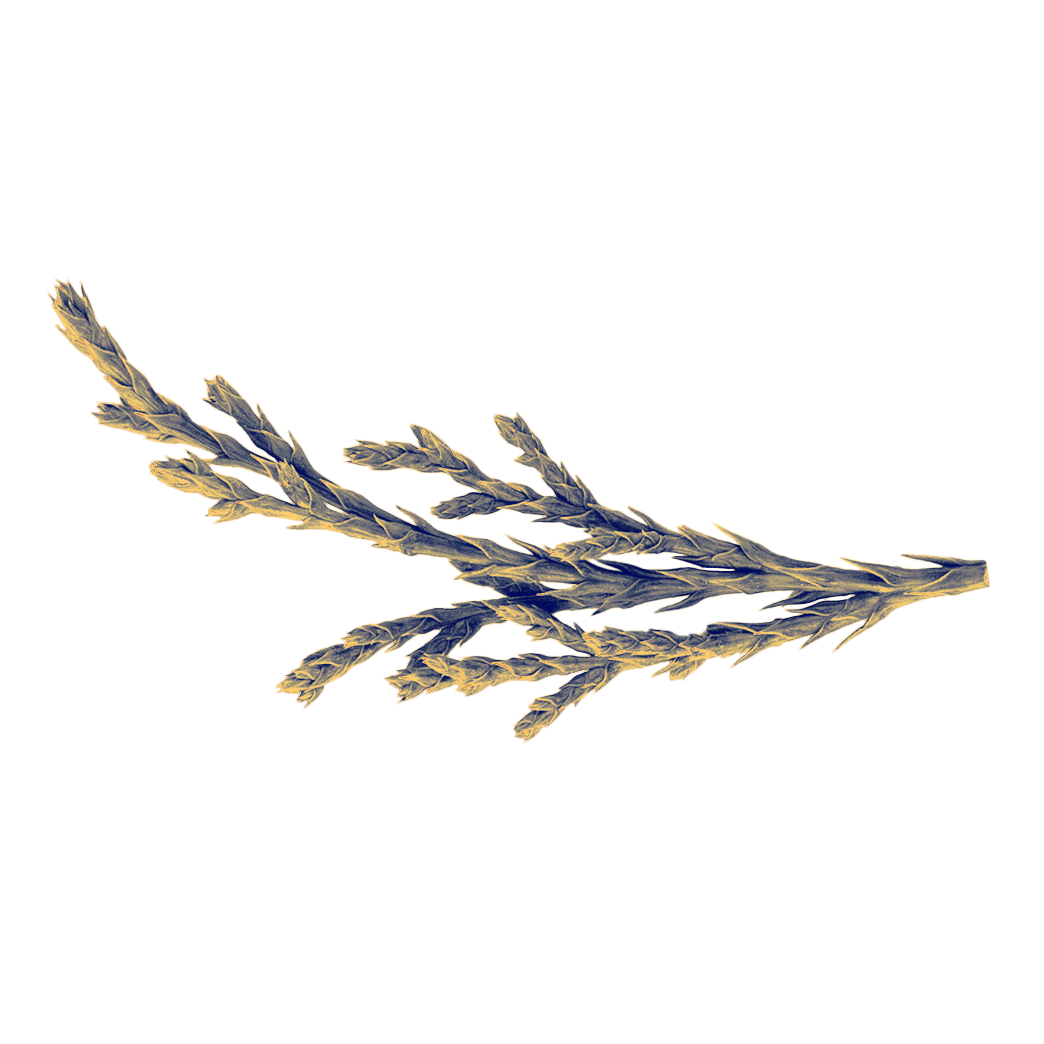
Арен Ванян
В последние годы я перестал чувствовать радость от чтения философской литературы. Левые интеллектуалы поднадоели повторяемостью нарративов, замкнутых в дискурсе идентичности, постгуманизма и революции, носящей сказочный характер. Все чаще кажется, что они пишут эти книги, чтобы получить одобрение в социально-академической среде, а не разбудить в читателе страсть к мышлению. Апологеты неоконсервативного философии с этой задачей тоже не справляются, потому что передают контроль над человеческой биографией абстрактному Внешнему — богу, родине, эстетике и т. д.; с этой идеологией я не могу согласиться по этическим соображениям.
Из-за усталости от современной философии сенсацией моей интеллектуальной жизни в уходящем году стала антифилософская новинка — «Теория одиночного мореплавателя» Жиля Греле. Больше десяти лет назад Греле покинул Париж и мир академической философии, с тех пор он обосновался на парусной лодке под названием «Теорема» и регулярно ходит в одиночестве в море. Тем самым он осуществил — цитирую автора — «свое пожизненное намерение жить на борту без каких-либо перерывов и перспектив возвращения на сушу».
Совершив подобный биографический шаг (или, точнее говоря, антибиографический, если учесть, насколько это был суицидальный социальный выбор), Греле занялся созданием понятийного аппарата, посвященного морю, одиночеству и теории. Море здесь — по крайней мере в моем представлении — субстанция заменимая; я, например, всегда переживал схожее чувство окрыленности, приподнятости над «мирским», когда вижу горы или нахожусь в горах — причем в одиночестве. Так что, мне кажется, самое важное здесь теория; если проникнуться радикальным теоретическим языком Греле, его причудливыми понятиями, смешивающимися с терминологией Франсуа Ларюэля, отсылками к «морской» литературе и разными примерами одиночного теоретизирования (в первую очередь Руссо), то можно испытать от его текста подзабытое ощущение удивления миру, радости существования, упомянутой страсти к мышлению. Эти переживания, вызванные книгой Греле, стали моим главным читательским событием в 2025 году.
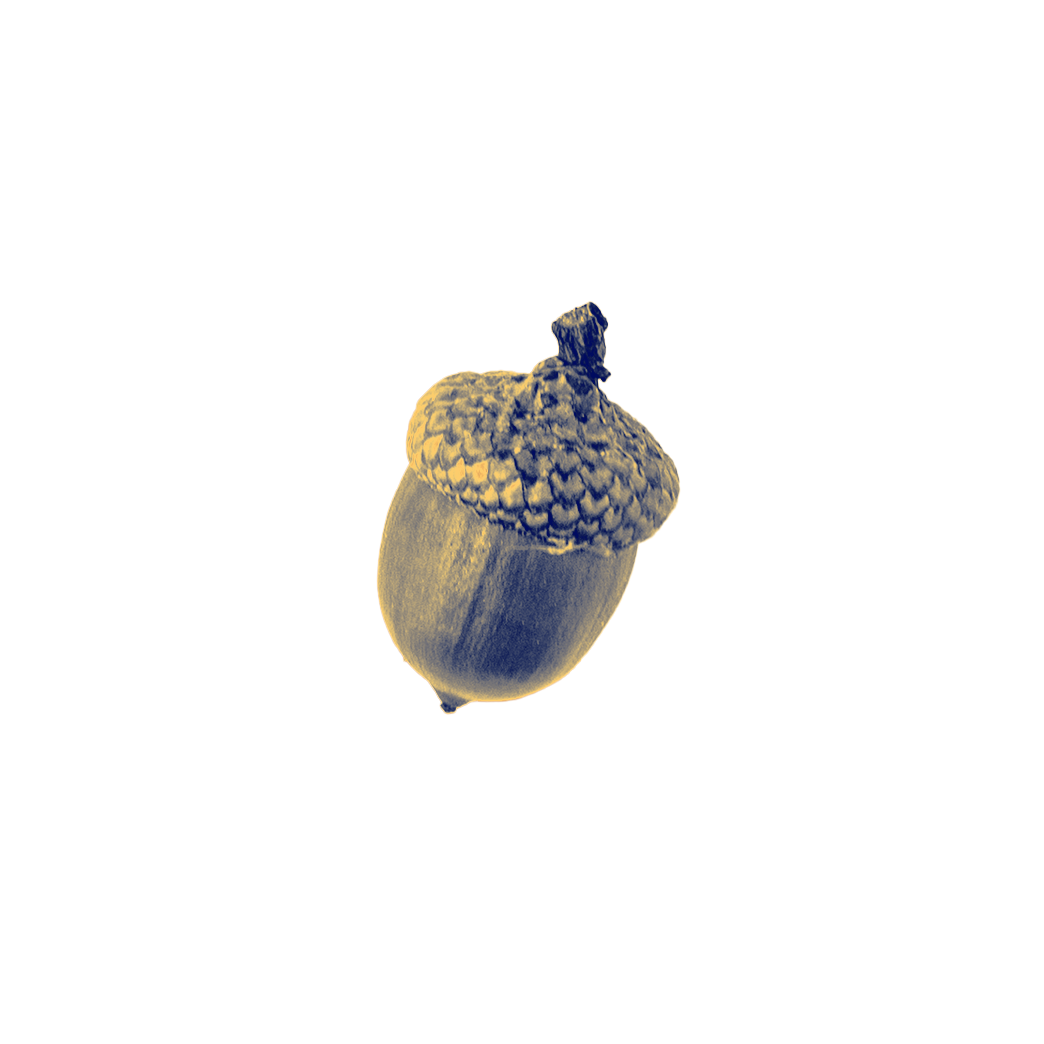
Марина Беляева
Мой читательский год делится на довольно четкие периоды. Непроизвольно, просто в какой-то момент ты идешь по старому списку для чтения, где в основном сосредоточены перепрочтения произведений русской классики, предэкспрессионизм и пьесы мещанской трагедии, потом бросаешь все это, хватаешься за современную литературу, потому что отстаешь безнадежно, а потом приходит специфический заказ на инсценировку, и попутно читаешь три перевода «Винни Пуха» вместе с оригиналом. И лейтмотивом — литература по работе и, для общего образования, книги низового православия, составляющие очень специфическую картину реальности православного научпопа от людей, несильно погруженных в богословие.
В первом периоде особенно запомнились «Четыре черта» Германа Банга и «Мисс Сара Сампсон». «Четыре черта» могли быть проходной романтической новеллой, если бы не смутная, нарастающая тревожность, приводящая к роковой развязке. Экспрессионизм в принципе тяготеет к античности, беря из нее трагическую неизбежность. Это парадоксальный момент, потому что экспрессионизм не породил за историю своего существования трагедии — как мы понимаем этот жанр. «Четыре черта» — вещь, типичная для своего времени: можно понять, почему Владислав Старевич взял для постановки любовную драму в декорациях демоничного цирка, с ревностью, элементами садомазохизма и огромнейшей сценой истерического смеха. Очень понятно, чем этот автор вдохновлял Хичкока и Тодда Браунинга; хотя ни у того, ни у другого нет такого мистического мироощущения раннего ХХ века.
Было забавно сразу после Банга читать «Мисс Сара Сампсон» Лессинга: контраст заметный и значительный. Тоже мелодрама с многоугольником, но — другая страна, другой вид литературы, другое столетие, в конце концов. Это знамя мещанской драмы, которое после, уже в двадцатом веке, переродится в каммершпиле, пусть и не совсем очевидными путями. Надрыва очень много, но размах драмы очень камерный, не масштабный; все действие заперто в нескольких комнатах. Чувствуется, что пьеса — очень гибкий вид литературы, который свободно дышит в руках разных постановщиков. «Мисс Сару Сампсон» легко трактовать как патетичную сентиментальщину в духе телевизионных мелодрам, с резкими сюжетными поворотами, злодейской соперницей, грустным финалом, который, однако, все равно мирит всех хороших посредством девственной жертвы, а можно — как тихую, замкнутую драму сложных отношений простых людей.
Во втором периоде было приятное открытие этого года: сборник рассказов Дарьи Золотовой «Ночь между июлем и августом». Можно понять, почему его ругали как нечто, разрушающее семейные ценности — потому что любая проблематизация отношений и концепции брака всегда почему-то должна вести к отчужденности и отказу от отношений. В конце концов, центральный образ сборника связан с единственным фантастическим рассказом, где пары сливаются в одно существо, и только человек, отказавшийся от этой монструозной традиции, обрел самость…
Я концентрируюсь именно на отношениях, потому что это главная тема «Ночи», хотя и не единственная. Истории отношений неизбежно ведут к онтологическим вопросам, просто важно подчеркивать, что наконец есть голос именно женщины, пугающейся отношений. Не в контексте ура-феминизма, где распад традиционного гетеросексуального брака приводит к внутренней свободе, но в контексте того, что тот самый цис-нормативный брак страдает от извращенно понятой традиционности.
Грустно признавать, но лучше Заходера никто не переводил «Винни-Пуха». Он не зря называется пересказом, так как допускает слишком много вольностей. Но это просто очень хороший текст, единственный уловивший главную ценность «Винни-Пуха» — сложные лингвистические игры на уровне «Алисы в Стране чудес». Но кэрролловскому произведению повезло быть понятым в советской традиции не только как сказка для детей, так что, помимо версии Демуровой, существует ряд других выдающихся переводов.
Безусловно, перевод Руднева конструирует особую семиотическую реальность, но она имеет мало отношения к оригинальному «Винни-Пуху» (тем более что в предисловии к «Философии обыденного языка» Руднев катком проходится по таланту Алана Милна, отказывая тому в творческой сознательности). Это «Улисс» на основе «Винни-Пуха», поразительное лингвистическое полотно, отображающее восприятие языковой семантики самого Руднева — интересного философа, которого, как и все других его поколения, плотно припечатало девяностыми.
В сравнении с двумя другими текстами, перевод Вебера не выделяется ничем примечательным: он игнорирует сложные каламбуры оригинала и не компенсирует авторским подходом. «Винни-Пух» в его исполнении — простая сказка про зверушек, копирующая истории Козлова (у которого тоже очень сложный язык, традиционно игнорируемый почти всеми постановщиками детских спектаклей по мотивам). Там нет сплетения путаной детской речи, непредсказуемой поэтической энергии и традиций английской сказки; это соевая версия для тех, кому Заходер по какой-то причине кажется слишком сложным.
Очень странно было ловить параллели между «Жюстиной, или Несчастьями добродетелями» де Сада и «Гаргантюа и Пантагрюэлем» Франсуа Рабле. Речь не о разнузданной телесности, в одном случае жизнеутверждающего Ренессанса, в другом — пресытившегося XVIII века, не о нарушении табу и провокации норм, но об особом роде пунктуальности. Бахтин подробно расписал, почему Рабле дотошно перечисляет каждый пункт в списках вооружений, подарков, блюд и всего прочего, но и де Сад страдает болезненной пунктуальностью, когда речь заходит о счете и предметной последовательности. Оба автора обожают философские диспуты посреди карнавального действия и склонны к закольцованной репетитативности в каждом из подобных диалогов. Сочетание аполлинического и дионисийского кажется важной составляющей этих двух великих историй, одна из которых рассказывает про оргии и сумасшедший сексплотейшн с безумными учеными и содомированием козы в вулкане, а другая — про газы, роды и смытие целых поселений конской мочой.

Сергей Лебедев
Год начался с чтения «Двух Ребекк» Михаила Кузмина и вот почти уже заканчивается «Элпенором» Жана Жироду — так совпало, что обе эти книги увидели свет благодаря изысканиям Константина Львова, честь ему за это и хвала.
Из личных же открытий 2025-го — так называемая проза поэтов: Любы Макаревской, Саши Мороз и Михаила Левантовского. И если у Макаревской «Март, октябрь, Мальва» не первая книга на этом поприще, и это автофикшн с человеческим лицом, который мы наконец-то заслужили, то «Кучки небесные» Мороз и «Невидимый Саратов» Левантовского — дебюты, каждый по-своему мощный и яркий, и этих авторов постараюсь не упускать из виду в дальнейшем.
Давно слежу за Лораном Бине, поэтому из переводных новинок назову его «Игру перспектив (ы)». А вообще собранную стопку зарубежных авторов надеюсь одолеть за предстоящие каникулы, так как год в целом был отдан на откуп отечественной беллетристике в основном премиальных списков и журнальных публикаций, и в этом ряду первой из особо запомнившихся отмечу Анну Баснер (хотя сервис Яндекс.Книги утверждает, что мой писатель года — Ксения Буржская, и я действительно в один присест прочел все, что у нее опубликовано, но мой настоящий автор года Евгений Кремчуков, о котором больше всего писал и поэтому чаще всего к его текстам, прозе и поэзии, обращался).
Среди нон-фикшна очень порадовали «Непрошеный пришелец Михаил Кузмин. От Серебряного века к неофициальной культуре» Александры Пахомовой — широтой охвата заявленной темы, глубиной ее раскрытия и в целом интеллектуальным, даже интеллектуально-заразительным задором, а также «Проза А. П. Чехова. От текста к контексту и интертексту» Александра Кубасова. Обе книги входят в круг уже моих исследовательских интересов, и по этой же причине перечитал «Воскресение» Льва Толстого — итоги этих штудий, надеюсь, выйдут в следующем году.
Еще из классики обращался к «Подростку» Достоевского, и как участник семинара медленного чтения, посвященного этому роману, буду возвращаться к нему еще и в будущем году. Также читал «Доктора Живаго» — минувшей осенью оказался в резиденции Дома творчества Переделкино, и пройти мимо этой книги, даже ходить без нее было никак нельзя: стихи Юрия Живаго там буквально выговаривались на ходу… Перечитал «Евгения Онегина» в двух вариантах — авторском, для работы, и «Синего карандаша», больше из любопытства. Да, с удовольствием еще перечитывал Софью Купряшину — старые ее вещи вышли под новой обложкой и за рубежом, но это по-прежнему здорово.
Две книги, которые меня озадачили, — это, по-хорошему, «Средняя продолжительность жизни» Максима Семеляка, а еще «Альфа Центавра. Документальная поэма о космонавтах, которые не были в космосе» Александра Плотникова, оставившая наряду с удивлением ряд крамольных мыслей, которые, может быть, оформлю. Главное разочарование года — Бенхамин Лабатут и все, что с ним связано, но об этом рассчитываю поговорить отдельно.

Руслан Хаиткулов
Уходящий читательский год в моем случае оказался посвящен в основном истории идей, культуры и, собственно, истории. Выделю несколько наиболее запомнившихся книг.
Ричард Коэн «Творцы истории: кто, как и почему сформировал наше представление о прошлом»
Благодаря книге Ричарда Коэна, в которой представлены портреты историков от Геродота до наших дней, можно проследить, как менялись представления о предмете истории, о ее методах, о том, кто вообще вправе ее писать. Зачастую то, как и в какой среде историки писали свои труды, оказывается не менее занимательным, чем-то, о чем они писали. Сразу должен оговориться: сам Коэн при этом не является профессиональным историком, книга является научно-популярной и обзорной, и автор, говоря о Фукидиде или Гиббоне, скорее сошлется на свежий выпуск New Yorker, чем на академическую монографию. Тем не менее легкость изложения и широта охвата позволяют порекомендовать ее читателю, не имеющему профильного образования: приятно, что в книге находится место не только Тациту или Маколею, но и группе британских «красных» историков, представительницам herstory или современным создателям документальных телесериалов.
Максим Жегалин «Бражницы и блудницы: как жили, любили и умирали поэты Серебряного века»
В свое время, когда книги Флориана Иллиеса только выходили на русском, я прочитал их с огромным удовольствием — невероятная панорама культурной и идейной жизни Европы в критические моменты, поданная через непрерывные монтажные склейки. В этом году у нас появился достойный конкурент в этом же жанре — книга Максима Жегалина. Это тот редкий случай, когда не скажешь, что труба пониже, да дым пожиже: Серебряный век вовсе не уступает по набору колоритных персоналий, и с учетом того, какие разные стратегии жизнетворчества выбирали ключевые поэты этого периода, читать про их столкновения, выступления, ссоры, романы или дуэли невероятно увлекательно. Выстраивая повествования через аналогичные склейки, Жегалин максимально концентрирует время и пространство той эпохи. Некоторые критики говорят при этом о верхоглядстве, но, как мне кажется, здесь этот упрек несправедлив: вряд ли кто-то будет сознательно обращаться к этой книге для того, чтобы глубоко разобраться непосредственно в поэзии Блока, Гумилева или Мандельштама. Ее задача совсем иная — дать возможность погрузиться в атмосферу этого периода, с этой задачей она более чем справляется, и думаю, что немало людей после нее и вправду решило снять томик поэзии с полки и что-то перечитать.
Сергей Соловьев «Томас С. Элиот: поэт чистилища»
До вышедшей еще в 2024 году в серии «ЖЗЛ» биографии Элиота добрался только летом этого года и не пожалел. Элиот, в отличие от героев прошлой книги, был чужд богемной жизни — напротив, поэт, чьи произведения потрясали современников, долгое время работал в банке, и потому биография в более традиционном и академичном ключе больше соответствует его фигуре. Сергей Соловьев очень тщательно вырисовывает основную канву событий его жизни, его становление как поэта, его идейную эволюцию. Судьба Элиота действительно заставляет задаваться вопросом: как мог американец по рождению стать «классицистом в литературе, роялистом в политике и англо-католиком в религии». Это не значит, что в его жизни не было потрясений, — например, в книге подробно (но очень деликатно) описана история не слишком счастливого брака с Вивьен Хейвуд, чья хрупкая психика в какой-то момент начала давать сбои, но основное внимание уделяется развитию творчества и религиозных, философских и эстетических взглядов Элиота.
Наконец, пунктиром еще о нескольких книгах, достойных упоминания. Сборник интервью «Поэты в Нью-Йорке» под редакцией Якова Клоца позволил узнать больше о нескольких волнах эмиграции, соотношении литератур «там» и «здесь» и о самом Нью-Йорке как месте, определяющем творчество. С интересом прочел Уве Витштока «Февраль 1933. Зима немецкой литературы» — еще одна книга про переломное время, но если уж предаваться думскроллингу, то лучше такому. И чтобы не заканчивать на грустной ноте, вспомню о вышедшей в этом году книге Фрэн Лебовиц «Вношу ясность» — полные высокопрофессионального нытья, брюзжания и самоиронии краткие заметки о культуре, обществе, вещах, жизни все в том же Нью-Йорке и обо всем прочем, что (не) нравится Лебовиц.
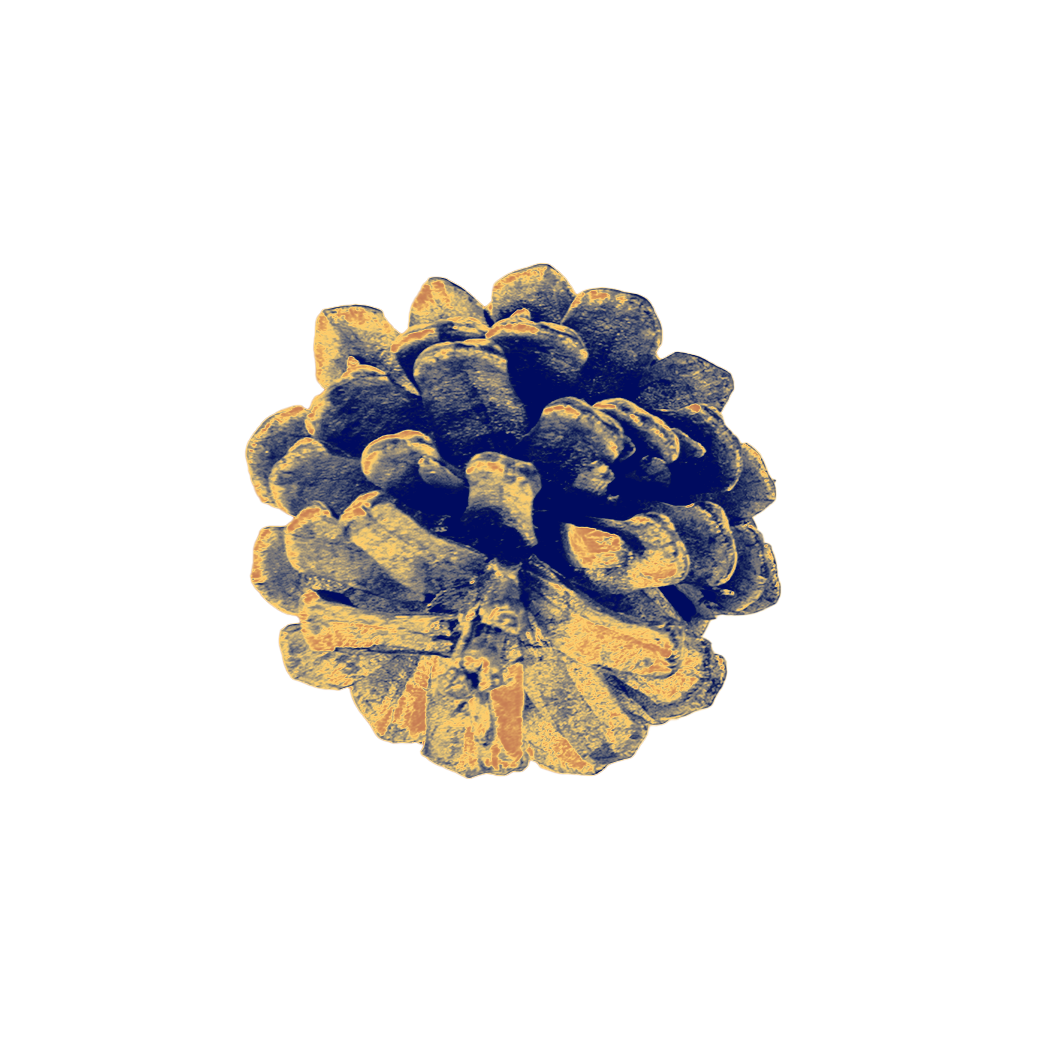
Василий Легейдо
Для меня 2025-й стал годом попыток вернуться от нон-фикшна, который я в последние несколько лет много читал по работе, к художественной прозе. Хотелось разнообразить восприятие. Где-то отвлечься от действительности, где-то — переосмыслить ее через призму вымысла и авторского видения. В целом задуманное удалось. А тот нон-фикшн, который все-таки прочитал, в основном радовал. Это, например, сборник избранных эссе Дэвида Фостера Уоллеса в переводе Сергея Карпова и Алексея Поляринова. Некоторые из них я уже читал раньше — классические тексты про эстетизм в игре Роджера Федерера, этичность поедания омаров и творческий процесс Дэвида Линча. Но их я с удовольствием освежил в памяти.
Из нового для меня особо выделю два материала: репортаж о поездке на круизном лайнере «Может, это и интересно, но повторять не хочется» объемом с маленький роман и «E unibus pluram: Телевидение и американская литература», в котором изложены взгляды Уоллеса на тему постмодерна и искренности в контексте телевидения.
Кстати, ответственность за все прошлые и будущие препирательства с редакторами я возлагаю как раз на Уоллеса: когда видишь, как он умудрялся протаскивать в публикации множество лирических отступлений и примечаний с занятными деталями, каждое сокращение в своих текстах начинает восприниматься вдвойне обиднее.
Из художественной литературы первая половина года у меня прошла под знаком возвращения к любимому weird fiction — рассказам Томаса Лиготти и Роберта Эйкмана. Оба автора ломают привычные представления о том, каким должен быть хоррор. Кому-то их тягучие истории с нагнетанием атмосферы и витиеватым языком кажутся занудными. Кого-то бесит, что даже после прочтения часто ничего не понятно.
Но, мне кажется, это яркий пример того, каким разнообразным и глубоким может быть литературный хоррор. Лиготти и Эйкман — это и писатели, и философы. Они стремятся не просто развлечь читателя, но и вывести космогонию ужасного. Определенное представление о методе Лиготти можно получить из его короткого вступления к сборнику «Ноктуарий» — «В темнейший час ночи: Несколько слов о понимании странной прозы». Из рассказов отдельно выделю «Последний пир Арлекина» (идеальное чтение для холодного времени года), «Бензозаправочные ярмарки» (это как раз философский хоррор с деконструкцией привычных для западной культуры представлений о субъектности) и «Дом с верандой» (твист на истории про множественную личность).
У Эйкмана интерес представляют сборники «Темные проемы» и «Тайные дела» — только стоит заранее настроиться на пышную старомодность автора. Он жил в XX веке, но всю жизнь чувствовал себя человеком из чужой эпохи, и в его рассказах отчетливо ощущается ностальгия по времени, которое он не застал.
Во второй половине года меня все больше цепляли зарисовки из быта харизматичных охламонов и бездельников без очевидной и единой сюжетной линии. Самый главный пример такого направления — «Саттри» Кормака Маккарти, история выходца из «приличной» семьи, который в один момент бросил все и ушел жить на плавучем доме в окрестностях города Ноксвилла, штат Теннесси. Там он упивается с местными забулдыгами, попадает в неприятности и пытается примириться с прошлым. Роман частично основан на биографии самого Маккарти, но при этом совсем не похож на типичную мемуарную прозу. Читателей часто обескураживает эклектичность «Саттри»: повествование перескакивает от места к месту, от персонажа к персонажу, от одной безумной байки к другой. Все это буйство сюжетных веток никак не сходится воедино и не ведет к осязаемому финалу. Формально главный герой — давший название роману Саттри, но в некоторых главах он даже не появляется. А там, где появляется, отказывается претерпевать трансформацию, как вроде бы положено главному герою.
«Саттри» можно было бы пренебрежительно назвать романом ни о чем, если бы он не вызывал в сознании столь яркие образы. Читая его, кажется, что заглянул к приятелю в жаркий летний день, вы оба лежите под вентилятором, размякнув так, что лень даже дойти до холодильника, и травите истории. Одна история перетекает в другую, правда переплетается с вымыслом, но придумывать для этих баек какой-то бойкий финал вам не хочется. Некоторые из этих историй невероятно смешные, другие трогательные, а третьи — печальные. Вместе из всего складывается срез жизни в глубинке на юге США в середине XX века. Жизнь эту Маккарти запечатляет с выразительностью фотографа, кропотливостью антрополога и искренностью участника всех описываемых событий.
После я взялся за два небольших романа, явно вдохновивших Маккарти: «Квартал Тортилья-Флэт» и «Консервный ряд» Джона Стейнбека. Оба, как и «Саттри», обманывают ожидания. В отличие от большинства художественных произведений, в которых какое-то событие нарушает привычный распорядок персонажа и становится катализатором приключений или потрясений, здесь персонажи просто живут. Их проблемы в основном сводятся к тому, где раздобыть выпивку. Стейнбек неспешно описывает местный быт, уделяет внимание колоритным жителям и не стесняется останавливаться на мелочах. Удивительно, но читать такие романы «ни о чем» оказалось намного интереснее, чем книги, нашпигованные захватывающими поворотами.
Владимир Максаков
Для книжных итогов года я выбрал три очень разных романа — два американских и один китайский. Объединяет их, кроме очевидного мастерства писателей, еще и возможность прочитать их как исторические. С такой — немного терапевтической — точки зрения я и предлагаю посмотреть на них.
Майкл Каннингем. День. М.: Corpus, 2025. Перевод с английского Любови Трониной
«День» Майкла Каннингема вышел в прекрасном русском переводе в начале этого года — и сейчас я вспоминаю о нем. Наверно, про него можно сказать, что это роман о кризисе современной семьи. Но это справедливо и для «Анны Карениной». Сочувствие, с каким пишет современный американский классик, выстраивая совершенно особые отношения между героями, читателями и собой, трогает до слез — и напоминает о силе литературы. Некоторые части романа читаются как хилинг-текст. Вот только до конца не ясно, от чего он должен нас излечить. Впрочем, один из диагнозов Майкл Каннингем ставит безошибочно: нанесенная пандемией психологическая травма еще далеко себя не изжила. Роман об одной семье и ее родственниках осторожно напоминает, что невидимые нити тянутся от каждого из нас ко множеству людей. В отличие от многих других текстов, «День» дает надежду — почти такую же хрупкую, как филигранная работа с языком, которую нам дарит автор.
Ричард Руссо. Дураки все. М.: Фантом Пресс, 2025 Перевод с английского Юлии Полещук
На русском вышла вторая часть трилогии о маленьком американском городке Норт-Бате. Его автор далеко не так хорошо знаком русскому читателю — между тем в США он уже признанный классик. Маленький городок и постоянная игра с ним. Вроде вы знаете всех соседей и вроде почти все они неплохие люди. Конечно, у каждого из них есть свои тайны. Главная же тайна этих городков — и бесконечной литературы и сериалов о них — не только в их обаянии, но и в самом факте их существования до отъезда последнего жителя. Пока же этого не случилось, нам предстоит разгадывать одну из самых удивительных загадок современности — почему, казалось бы, в оплоте консерватизма есть место демократии и традиционным ценностям в хорошем смысле, еще сохраняющим связь с уютом? Самое интересное, конечно, социология таких городков, где в горизонтальных связях дружба прочнее семьи — и не всегда речь идет о чем-то жизненно важном: ценно само чувство соседства. И едва не самое удивительное в литературе о городках, что это пространство, где все знают друг друга, где выстроены особые отношения узнавания между героями и читателями. И поэтому миру, намного лучше знакомому и безопасному, чем наш, мы очень тоскуем.
Мо Янь. Смерть пахнет сандалом. М.: Inspiria, 2023. Перевод с китайского Игоря Егорова, Кирилла Батыгина
Мо Янь остается верен себе — как, возможно, главный традиционный исторический романист сегодня. Читая его последнюю переведенную на русский язык книгу — роман «Смерть пахнет сандалом» — поневоле ловишь себя на мысли о «социальных типах», «исторической роли народа» и прочих, казалось бы, полузабытых словах из другой эпохи. Вот только в его случае это не ярлыки. Разгадка проста: китайцы сами пережили в XX веке такое множество великих трагедий, что писать о них как-то иначе, наверно, для них пока что невозможно. Удивительным образом в тексте Мо Яня находится место для (само)иронии: в героях его романа есть что-то немного условное (не оно ли как раз «типическое»?), что позволяет сохранить в хорошем смысле историческую дистанцию. Ибо описывать историю иначе кажется слишком болезненно. Временами люди его книг напоминают персонажей китайские оперы, и это не случайно: ведь рассказ каждого из них что-то вроде внутреннего монолога, скрепленного при этом действием и чужими репликами. Если догадка про типизацию верна, то Мо Янь реконструирует не много не мало социальную психологию и классовое сознание китайцев начала XX столетия. Впрочем, история почти как обычно трагическая: главный сюжет вращается вокруг восстание ихэтуаней против западных колонизаторов. И сегодня противопоставление в историческом романе традиционной и в чем-то даже архаичной китайской культуры западным воспринимается как новый виток деколонизации.