Экстремальное пчеловодство и соус из перьев
Уроки художественного вранья от князя Цицианова
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Лестница Иакова
В 1724 году, когда турецкие войска заняли часть Грузии, царь Вахтанг VI был вынужден переехать в Россию. В его огромной свите, насчитывающей более тысячи человек, находился князь Яссе (Евсей) Цицишвили, капитан гусарского полка и потомок древнего грузинского рода, ведущего свою историю с конца XII века. В России он получил фамилию Цицианов. Женился, видимо, уже после переезда — супругу его звали простым русским именем Матрона. В 1747 году у семейной четы родился сын Дмитрий, которому предстояло прожить долгую и очень насыщенную жизнь.
Надо сказать, что в XVIII веке почти все знатные потомки рода Цицишвили занимали высокие военные посты. Но с Дмитрием Евсеевичем вышло иначе. Неизвестно, как взрослел и воспитывался русский Мюнхгаузен, но тяги к военной службе он не питал. Своей родословной Цицианов очень гордился, более того, по словам двоюродной внучки князя, фрейлины Александры Осиповны Смирновой-Россет, дед утверждал, что является потомком ветхозаветного Иакова. Дочь Смирновой-Россет, Ольга Николаевна, пересказывала расширенную версию этой истории:
«Он говорил ей [Смирновой-Россет] совершенно серьезно, что он ни во что не ставит людей, y которых предки родились после Вознесения Христова. Мать моя спросила почему? „Потому что я происхожу от Иакова, ответил он, ты видела мой герб и заметила в нем лестницу?“ И он не шутил, a верил этому».
Действительно ли верил Цицианов в свое высокое происхождение или хотел подшутить над внучкой — неизвестно. Свидетельства Ольги Николаевны (впрочем, как и ее матери) — источник спорный, так что даже сам факт разговора о родстве с Иаковом вызывает сомнения. Да и лестницы на гербе рода Цициановых нет.
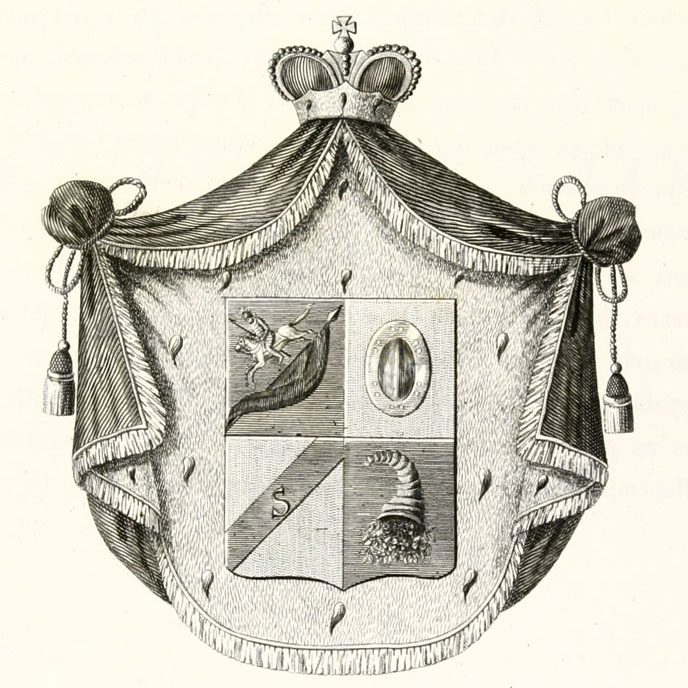 Герб рода князей Цициановых
Герб рода князей Цициановых
Зато совершенно определенно можно сказать, что князь уже в молодости был известен своими причудами. Та же Смирнова-Россет вспоминала, как дед по нелепой причине отказался от богатого приданого своей невесты, Варвары Егоровны Багратиони:
«За ней он взял восемь тысяч душ в Нижегородской губернии: торговое село Катунки приносило огромный доход. За ней был дом, конечно, деревянный в приходе Рождества в Кудрине. Это был целый квартал, и церковь была в саду, окружавшем этот дом. Дмитрий Евсеевич сказал отцу: „Я ничего не беру из десяти тысячи десятин. Наплевать мне на эту дрянь! Земля отведена черт знает где, в каком-то пустыре безлюдном“».
Ключевое слово здесь — «безлюдный». Дмитрий Евсеевич нуждался в обществе себе подобных, поэтому, как истинный представитель аристократии, стремился завести приятелей в высшем обществе. Где искать пристанища молодым, богатым и амбициозным? Разумеется, в Москве.
Нетрудовые доходы
Пословицу о соловье, которого не накормишь даже самыми увлекательными баснями, Дмитрий Евсеевич понимал буквально. Путь к сердцам представителей московского бомонда лежал через желудок: князь довольно быстро обзавелся обширным кругом знакомых, во многом благодаря своим пышным трапезам. Кроме того, он получил звание пожизненного почетного члена Московского Английского клуба и вступил в масонскую ложу. Однако цициановские обеды были не только способом завести полезные связи, но и возможностью продемонстрировать знатным гостям свое богатство.
Откуда бралось это богатство? Дмитрий Евсеевич нигде не служил, а от полученных в приданое земель в Нижегородской губернии он, кажется, отказался... или нет? Пройдя по цепочке источников с упоминаниями Цицианова, находим справочник «Знаменитые люди Ардатовского края XVI–XXI веков», а там — статья о некоей графине Толстой (Дурасовой) Степаниде Алексеевне, которая в конце XVIII — начале XIX века «покупает часть села Круглые Паны и село Силево у грузинского князя Дмитрия Евсеевича Цицианова». В обоих селах работали суконные фабрики, а сами села находились в Ардатовском уезде Нижегородской губернии. Видимо, на доходы от фабрик, а затем от их продажи и жил наш герой. При этом об упомянутых Смирновой-Россет Катунках и Кудрине информации не нашлось.
 Н.М. Алексеев. Портрет А.О. Смирновой-Россет, 1844
Н.М. Алексеев. Портрет А.О. Смирновой-Россет, 1844
О расточительности князя вспоминали многие его современники. «Дмитрий Евсеевич всегда был рад случаю потратить деньги», — рассказывала Смирнова-Россет. Русский дипломат Александр Яковлевич Булгаков говорил, что Цицианов «был человек добрый, большой хлебосол и отлично кормил своих гостей». А писатель Степан Петрович Жихарев в своих дневниках рассказывал, что Дмитрий Евсеевич был «мастер выдумывать и готовить кушанье». Свидетельств о том, что готовил для гостей грузинский кулинар, не нашлось, зато сохранился анекдот о его гастрономических фантазиях. Из воспоминаний Смирновой-Россет:
«Он всех смешил своими рассказами, уверял, что варит прекрасный соус из куриных перьев и что по окончании обеда всех будет звать петухами и курицами».
Цицианов и сам любил вкусно поесть, однако категорически отказывался от любого алкоголя. «...кушая с величайшим аппетитом, и все жирное, ничего не пил, кроме полузамороженной воды, — писал Жихарев, — говорил, что от роду не отведывал ни вина, ни пива, ни даже квасу, а водки и подавно». Главным источником веселья на застольях для князя было не содержимое рюмки, а занимательные небылицы, которыми он развлекал и себя, и гостей. «У него были всегда и на все случаи готовы анекдоты, — вспоминал Булгаков, — и когда кто-нибудь из присутствующих оканчивал странный или любопытный рассказ, то Цицианов спешил сказать: „Да это что? Нет, я вам расскажу, что со мною случилось...“ И тогда начиналась какая-нибудь история или басенка». К выдумкам Дмитрия Евсеевича публика относилась благосклонно, так как они «никого не оскорбляли, а только всех смешили».
Но кое-кто все-таки обижался. «Пусть основанием этих сказок и служит искреннее желание угостить, однако ж зачем вводить в такое заблуждение? — возмущался Жихарев. — Мы бы ели с таким же аппетитом и пили с тем же наслаждением и столько же». Дело в том, что как-то раз из-за бурной фантазии Цицианова Степан Петрович оказался в неловком положении. Будучи в то время еще наивным студентом, он поверил истории князя о чудесном сукне, вытканном из рыбьей шерсти, и поспешил поделиться новостью со знакомыми:
«А я, конопляник, давай рассказывать встречному и поперечному за неслыханное диво о знаменитом хозяйстве... давай повторять историю о рыбьем сукне, и очень удивлялся, почему без смеха никто меня не слушал, покамест... не вывели меня из заблуждения. <...> Одна беда: востроглазая Арина Петровна не перестанет теперь преследовать меня рыбьим сукном, а злодей Н. А. Новиков советовал уже мне обратиться, по принадлежности, к Антонскому как профессору энциклопедии и натуральной истории за сведениями о рыбьей шерсти».
Как ни странно, история о рыбьем сукне не была бесплотной выдумкой. Так, еще с глубокой древности народы Дальнего Востока и Японии использовали рыбью кожу для изготовления одежды и обуви. А в конце XVIII века придворный кожевенник Луи XVI Жан Клод Галюша представил французской публике изделия, в которых использовалась кожа акулы и ската. Правда, применяли ее только для отделки декоративных предметов.
 Подарок Екатерины II графу П.И. Новосильцеву: очки и очешник, обтянутый кожей акулы. Последняя четверть XVIII века
Подарок Екатерины II графу П.И. Новосильцеву: очки и очешник, обтянутый кожей акулы. Последняя четверть XVIII века
Знал ли Цицианов о рыбьей коже? Может быть. Как мы помним, он имел непосредственное отношение к текстильному производству. Интересно, что, согласно «Русскому биографическому словарю» 1918 года, в 1813 году бывшую цициановскую фабрику снял в аренду известный русский купец с подходящей к истории фамилией Рыбников. Имеет ли это отношение к выдумке Дмитрия Евсеевича? Едва ли: запись Жихарева датирована 1805 годом. Но совпадение забавное, учитывая, что Цицианов якобы преподнес чудесную ткань фавориту Екатерины II, Григорию Потемкину, а Рыбников действительно поставлял сукно в царскую казну.
Чудо-шуба
Историю с рыбьим сукном можно отнести к так называемому потемкинскому циклу — рассказам Цицианова о его подарках светлейшему князю. В сохранившихся анекдотах сукно упоминается лишь единожды. В остальных говорится о чудесной шубе, теплой и легкой, как пух. Наиболее полно анекдот был пересказан Булгаковым, который утверждал, что передает его в точности «как слышал оный из уст самого Князя Цицианова». Узнав, что Потемкин предпочитает медвежьи шубы, но не может их носить, поскольку они слишком тяжелы, Цицианов якобы преподнес ему диковинный подарок — отцовскую шубу, которая была так легка, что не ощущалась на теле. История богата забавными подробностями. «Я вошел, гляжу: Князь стоит перед окном, смотрит в сад, — рассказывал Цицианов, — однако рука во рту, Светлейший изволил грызть себе ногти, а другою рукою чесал он... Не могу сказать, что? Угадайте!» На вопрос Потемкина о том, откуда взялась чудесная вещь, Дмитрий Евсеевич ответил:
«...шуба эта была послана из Сибири, как редкость, графу Разумовскому в царствование императрицы Елизаветы Петровны, как дорогою была украдена разбойниками и продана шаху Персидскому, который подарил ее моему отцу. Князь удивился, что нет теперь таких шуб, но я ему объяснил, что был в Сибири мужик, который умел так искусно обделывать медвежьи меха, что они делались нежнее и легче соболиных, но мужик этот умер, не открыв никому секрета».
 Неизвестный художник. Портрет князя Г.А. Потемкина-Таврического. Не ранее 1791 года
Неизвестный художник. Портрет князя Г.А. Потемкина-Таврического. Не ранее 1791 года
Значительно более короткий вариант этой истории приведен в «Старой записной книжке» Вяземского. На этот раз Цицианов привез Потемкину соболью шубу в награду от Екатерины II. Чудесные свойства вещи остались прежними: шуба «так легка была, что уложилась в виде носового платка». К слову, о подарке императрицы говорил также писатель и историк Николай Алексеевич Полевой, однако шубу — тоже соболью — в данном случае получил Суворов. Генералиссимус отказался ее носить, заявив, что «нежиться солдату нехорошо». Если эта история бытовала во времена Дмитрия Евсеевича, не исключено, что он взял ее за основу своей выдумки.
Но вернемся к Потемкину. Еще один вариант анекдота находим у Смирновой-Россет.
«Я был, говорил он [Цицианов], фаворитом Потемкина. Он мне говорит:
— Цицианов, я хочу сделать сюрприз государыне, чтобы она всякое утро пила кофий с горячим калачом.
— Готов, Ваше Сиятельство. Вот я устроил ящик с комфоркой, калач уложил и помчался, шпага только ударяла по [верстовым] столбам все время, тра, тра, тра, и к завтраку представил собственноручно калач. Изволила благодарить и послала Потемкину шубу. Я приехал и говорю:
— Ваше Сиятельство, государыня в знак благодарности прислала вам соболью шубу, что ни на есть лучшую.
— Вели же открыть сундук.
— Не нужно, она у меня за пазухой.
Удивился князь. Шуба полетела как пух, и поймать ее нельзя было».
Привет от Пугачева
Анекдот Смирновой-Россет о калаче и шубе произвел впечатление на самого Пушкина. О том, что поэт был знаком с Дмитрием Евсеевичем, если не лично, то хотя бы понаслышке, свидетельствует выдержка из «Воображаемого разговора с Александром I». «Всякое слово вольное, всякое сочинение противузаконное приписывают мне так, как всякие остроумные вымыслы князю Цицианову», — писал он.
Согласно одному из примечаний к «Евгению Онегину», Пушкин спрятал цициановское «тра-тра-тра» в седьмой главе поэмы:
Автомедоны наши бойки,
Неутомимы наши тройки,
И версты, теша праздный взор,
В глазах мелькают, как забор.
Кажется, строфа имеет мало общего с анекдотом о шубе. Однако примечание к ней гласит, что сравнение «версты... как забор» Пушкин позаимствовал именно у Цицианова:
«Сравнение, заимствованное у К**, столь известного игривостию изображения. К... рассказывал, что, будучи однажды послан курьером от князя Потемкина к императрице, он ехал так скоро, что шпага его, высунувшись концом из тележки, стучала по верстам, как по частоколу».
Но что за таинственный К.? В предисловии к «Дневнику Пушкина» (1923) литературовед Борис Львович Модзалевский предположил, что поэт в примечаниях «под звездочками разумел именно Князя Цицианова». Согласен с этим и Ефим Курганов. Действительно, кому еще можно приписать историю о шубе и шпаге, когда, по словам Булгакова, она была так популярна, что выражение «цициановская шуба» пошло в народ и стало распространенной присказкой?
 Н.В. Кузьмин. Иллюстрация к «Евгению Онегину», 1933
Н.В. Кузьмин. Иллюстрация к «Евгению Онегину», 1933
Более очевидный пример отсылки к другой байке Дмитрия Евсеевича встречаем в стихотворении Пушкина «Домик в Коломне». Ефим Курганов приводит такую цитату из письма Федора Васильевича Ростопчина:
«Московских здесь я вижу Архаровых, соседа моего Цицианова, у которого лошадь скачет 500 верст не кормя».
Сравните со строфой из «Домика в Коломне»:
...поплетусь-ка дале
со станции на станцию шажком,
Как говорят о том оригинале,
Который, не кормя, на рысаке
Приехал от Москвы к Неве-реке.
Нельзя не упомянуть здесь и эпизод из «Капитанской дочки», где Гринев, не признавший в деревенском мужике Пугачева, подарил ему свой заячий тулуп. Впоследствии щедрый поступок спас его от виселицы. Снова обращаемся к «Старой записной книжке» Вяземского и читаем о похождениях князя Цицианова:
«В трескучий мороз идет он [Цицианов] по улице. Навстречу ему нищий, весь в лохмотьях, просит у него милостыню. Он в карман, ан денег нет. Он снимает с себя бекеш на меху и отдает ее нищему, сам же идет далее. На перекрестке чувствует он, что кто-то ударил его по плечу. Он оглядывается. Господь Саваоф перед ним и говорит ему: „Послушай, князь, ты много согрешил; но этот поступок твой один искупит многие грехи твои: поверь мне, я никогда не забуду его!“»
Аналогичный эпизод есть и в «Приключениях Барона Мюнхгаузена». Барон, одаривший бедняка шубой, слышит голос из поднебесья: «Черт меня побери, сын мой, тебе за это воздастся!» Но самое интересное то, что истории всех троих — Цицианова, Пушкина и Мюнхгаузена — с удивительной точностью повторяют рассказ Геродота о греческом тиране Силосонте, написанный еще в V веке до нашей эры. Чем из этого вдохновлялся Пушкин, сказать сложно. Но, учитывая предыдущие совпадения, заимствование сюжета именно у Цицианова вполне возможно.
Не только Мюнхгаузен
Книга о похождениях барона Мюнхгаузена была переведена на русский в конце XVIII века и вышла под названием «Не любо — не слушай, а лгать не мешай». Фантастические и часто нелепые рассказы вполне соответствовали духу устного творчества Дмитрия Евсеевича. «Граф Ростопчин уверял, что известная брошюрка под заглавием „Не любо — не слушай, а врать не мешай“ сочинена Князем Цициановым, но он не захотел выставить своего имени», — вспоминал Булгаков. Вполне возможно, что Цицианов был прекрасно знаком с этой «брошюркой», откуда почерпнул несколько забавных сюжетов. Например, в одном из рассказов барона можно найти следующий эпизод:
«...Однако такую штуку я не решился выкинуть с бешеной собакой, которая вскоре после этого погналась за мной в одном из узеньких переулков Санкт-Петербурга. „Тут уж беги что есть мочи!“ — подумал я. Чтобы легче было удирать, я скинул с себя шубу и поспешил укрыться в доме. За шубой я затем послал слугу и приказал повесить ее с другим платьем в гардероб. На следующий день меня до смерти напугали крики моего Иоганна. — О боже! — вопил он. — Господин барон! Ваша шуба взбесилась!»
А вот почти идентичный анекдот Дмитрия Евсеевича, записанный Смирновой-Россет:
«Между прочими выдумками он [Цицианов] рассказывал, что за ним бежала бешеная собака и слегка укусила его в икру. На другой день камердинер прибегает и говорит: „Ваше сиятельство, извольте выйти в уборную и посмотрите, что там творится“. — „Вообразите, мои фраки сбесились и скачут“».
 Гюстав Доре. Иллюстрация к книге «Удивительные приключения барона Мюнхгаузена», 1862
Гюстав Доре. Иллюстрация к книге «Удивительные приключения барона Мюнхгаузена», 1862
Замечательная и, пожалуй, самая знаменитая выдумка Цицианова о диковинных грузинских пчелах тоже перекликается с одним из эпизодов книги. Эту фантазию князя, записанную Булгаковым, стоит привести полностью:
«Случилось, что в одном обществе какой-то помещик, слывший большим хозяином, рассказывал об огромном доходе, получаемом им от пчеловодства, так что доход этот превышал оброк, платимый ему всеми крестьянами, коих было с лишком сто в той деревне.
— Очень вам верю, возразил Цицианов: но смею вас уверить, что такого пчеловодства, как у нас в Грузии, нет нигде в мире.
— Почему так, ваше сиятельство?
— А вот почему, — отвечал Цицианов, — да и быть не может иначе; у нас цветы, заключающие в себе медовые соки, растут как здесь крапива, да к тому же пчелы у нас величиною почти с воробья; замечательно, что когда оне летают по воздуху, то не жужжат, а поют, как птицы.
— Какие же у вас ульи, ваше сиятельство? — спросил удивленный пчеловод.
— Ульи? Да ульи, — отвечал Цицианов, — такие же как везде.
— Как же могут столь огромные пчелы влетать в обыкновенные ульи?
Тут Цицианов догадался, что, басенку свою пересоля, он приготовил себе сам ловушку, из которой выпутаться ему трудно. Однако же он нимало не задумался:
„Здесь об нашем крае, — продолжал Цицианов, — не имеют никакого понятия... Вы думаете, что везде так, как в России? Нет, батюшка! У нас в Грузии отговорок нет: хоть тресни, да полезай!“»
По словам Булгакова, фраза «Тресни, да полезай!» в свое время стала таким же мемом, как пресловутая «цициановская шуба». Дмитрий Евсеевич рассказывал и о других диковинках родины своих предков, на которой сам отродясь не бывал. По его словам, в Грузии очень выгодно было иметь суконную фабрику: овцы родятся разноцветными, так что тратиться на покраску шерсти не приходится.
А что же у Мюнхгаузена? В издании книги «Не любо — не слушай...» 1797 года находим историю о том, как барон оказался на неизвестной планете. «Все на сем шаре чудно и чрезвычайно, — удивлялся Мюнхгаузен, — муха у них величиною с барана». Однако лицезреть гигантских насекомых довелось не только князю и барону. История о пчелах неожиданно обнаруживается среди анекдотов о Ходже Насреддине, причем почти дословно повторяет цициановскую выдумку. Правда, находчивый герой придумал более удобный, но менее смешной выход из ситуации:
«Как-то в добром расположении духа Насреддин стал рассказывать приятелям, как был в Стамбуле и видел там в одном саду пчел величиной с овцу. — А какого же размера были ульи? — спросил один из слушателей. — А ульи точно такие, как у нас, — отвечал Ходжа. — Но как же тогда пчелы могли влетать туда и вылетать оттуда? — Видите ли, — сказал Насреддин, — я приблизился к ульям как раз в тот момент, когда пчелы собирались влетать туда. Но, увидев меня, они испугались и улетели. Поэтому я не могу вам сказать, как они попадали к себе домой».
Продолжаем читать анекдоты о Насреддине и находим еще одну интересную параллель. Для начала приведем очередной цициановский анекдот, записанный Вяземским:
«Во время проливного дождя является он [Цицианов] к приятелю. „Ты в карете?“ — спрашивают его. „Нет, я пришел пешком“. — „Да как же ты не промок?“ — „О, я умею очень ловко пробираться между каплями дождя“».
История может показаться знакомой: она дожила до советского времени и трансформировалась в анекдот о Сталине и Микояне. Насреддин провернул похожий трюк, однако придумал для него другое объяснение. Однажды, несмотря на проливной дождь, он прибыл ко двору падишаха совершенно сухим. «Когда у человека такая боевая лошадь, разве может человек намокнуть? — объяснил Насреддин, — Только начался дождь, я пришпорил коня, и он в один миг, как птица, доставил меня сюда». На самом деле перед дорогой он снял с себя платье, добрался до дворца совершенно голым, а перед визитом к падишаху вновь оделся.
Кстати, цициановское «между каплями» совершенно неожиданно обнаруживается в истории о еврейском мудреце Симеоне бен Шетахе. Он использовал тот же трюк, что и Насреддин: накинул на себя сухой плащ перед тем, как войти в пещеру к колдуньям, которых при помощи своей хитрости поймал и казнил.
А теперь не менее удивительное совпадение. У Вяземского читаем:
«...князь Цицианов, известный поэзиею рассказов, говорил, что в деревне его одна крестьянка разрешилась от долгого бремени семилетним мальчиком, и первое слово его, в час рождения, было: дай мне водки!»
Если вы хорошо знакомы с памятниками европейской литературы, то наверняка узнаете в новорожденном раблезианского великана Гаргантюа, который, едва появившись на свет, закричал: «Лакать! Лакать!» Интересно, что похожий сюжет есть и в «барышке» (дополнении), печатавшемся в первых изданиях «Не любо — не слушай...». Барон рассказывал, что вышел из чрева матери очень сильным и смышленым. Сначала он не хотел даваться в руки повивальной бабке, а затем, когда та попыталась выкупать его, схватил таз с водой и опрокинул его за окно. Рос маленький Мюнхгаузен так быстро, что пристрастился к алкоголю и табаку чуть ли не с младенческого возраста.
 Альбер Робида. Гаргантюа в колыбели, 1886
Альбер Робида. Гаргантюа в колыбели, 1886
Душу за котлету
Согласно исследованию Ефима Курганова, после войны 1812 года Цицианов переехал в Петербург, где жил до 1825 года. В столице жизнь грузинского князя изменилась в худшую сторону. «Дмитрий Евсеевич в первую очередь есть явление „допожарной Москвы“, — пишет Курганов. — Именно в ней он был по-настоящему знаменит. И с ее исчезновением он потерял не только свою публику, но и последние остатки своего некогда большого состояния».
О петербургском периоде жизни Цицианова практически ничего не известно. В воспоминаниях Смирновой-Россет сохранился забавный эпизод об участии деда в восстании декабристов:
«В день 14-го он [Цицианов] причинил смертельное беспокойство. Один из заговорщиков, Оболенский, пришел к нему завтракать и сказал, что император будет схвачен, провозглашена конституция, — словом, все их преступные глупости. Вообразите, что сказал это старый безумец: „Я сам буду рад. Ну что это, после Александра выбрали этого мальчишку Николая. Пойду с вами бунтовать“. Он держался на расстоянии и приблизился к карете митрополита Серафима, сказал ему: „А ты что тут делаешь, старый дурак? Видишь, что народ тебя не слушает, убирайся домой“. Он вернулся домой только в 7 часов вечера, говоря: „Все видел, на народ стреляли, значит Николай не трухнул и будет хорошо царствовать“».
Судя по воспоминаниям племянника князя, декабриста Николая Ивановича Лорера, в Петербурге Цицианов какое-то время продолжал жить на широкую ногу и по-прежнему славился своими «гомерическими обедами». Увы, хлебосольный князь «кончил впоследствии тем, что проел свои 6 тысяч душ». Количество этих душ менялось в зависимости от рассказчика. В примечаниях Ольги Николаевны Смирновой к запискам Смирновой-Россет читаем:
«Мой дядя Россет раз спросил его... правда ли, что он [Цицианов] проел тридцать тысяч душ? Старик рассмеялся и ответил: „Да, только в котлетах“. Мальчик широко открыл глаза и спросил: „Как в котлетах?“— „Глупый! Ведь оне были начинены трюфелями, а барашков я выписывал из Англии, и это, оказалось, стоит очень дорого“».
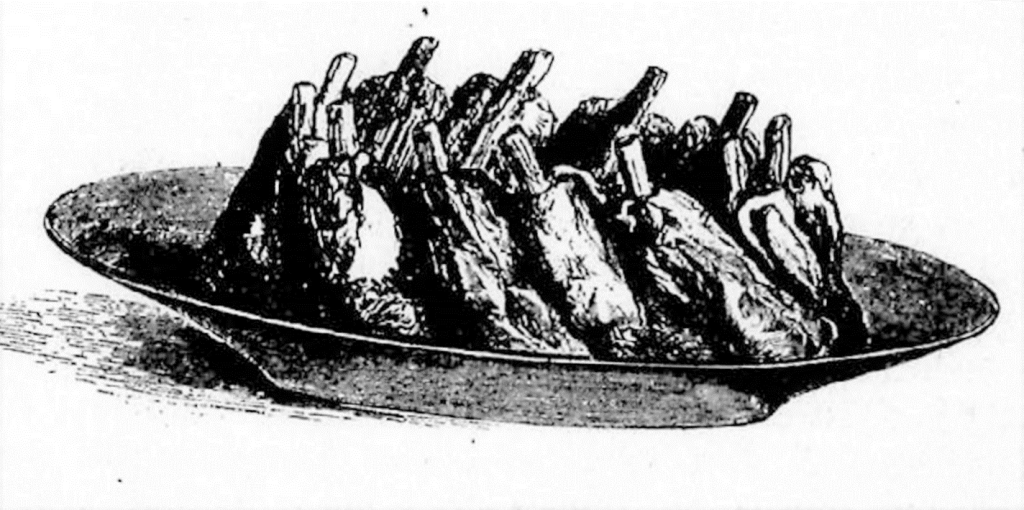 Котлеты бараньи. Рисунок из книги П.М. Зеленко «Поварское искусство» (1902)
Котлеты бараньи. Рисунок из книги П.М. Зеленко «Поварское искусство» (1902)
Последние годы жизни Цицианов провел в Москве, где находился практически на полном содержании у своего камердинера Сергея Михеевича. «Они жили в доме Галкина, почти у Трухмальных [Триумфальных] ворот, — вспоминала Смирнова-Россет. — Дом был одноэтажный, из гостиной, где была лаковая мебель, был вход в сад». Но у этого скромного жилья был существенный для Дмитрия Евсеевича плюс: оно находилось недалеко от горячо любимого им Английского клуба.
Варвара Егоровна тоже переехала в Москву, но поселилась отдельно от мужа. Отношения между супругами были напряженными. По словам Курганова, с возрастом княгиня становилась все менее терпима к выдумкам князя, называла его «старым вралем», «отъявленным обманщиком» и «несусветным мотом». На отношения с мужем повлиял и ее душевный недуг. Курганов пишет:
«Случались у нее и самые настоящие припадки, которые все время увеличивались. Бывало, она по несколько часов лежала без движения как мертвая, придя же в себя, требовала уголь и бумагу и начинала в огромном количестве рисовать кресты и распятого Спасителя, тут-то как раз и доставалось сильно Дмитрию Евсеевичу — она в подлинном гневе честила его болтуном, нечестивцем и безбожником и все никак не могла простить супругу своему рассказ, как господь Саваоф хлопнул его по плечу и поблагодарил за добрый поступок».
Цицианов в долгу не остался и заявил, что категорически отказывается лежать с женой на одном кладбище. «Да и в страшном сне такое не приснится, — сокрушался князь. — Упаси Господь от жуткой такой перспективы». Варвара Егоровна скончалась в 1832 году, Дмитрий Евсеевич — в 1835-м. Князь был похоронен на Пятницком кладбище в Москве, где спустя 50 лет похоронили и его дочь, Елизавету Дмитриевну. Судя по всему, на ней и оборвалась ветвь, шедшая от грузинского князя Яссе Цицанова. Местонахождение могилы Варвары Егоровны остается неизвестным.
«Есть лгуны, которых совестно называть лгунами: они своего рода поэты...» — писал Вяземский о Дмитрии Евсеевиче Цицианове. Пожалуй, если бы этот чудак взялся писать рассказы, вышло бы не хуже, чем у Распэ и Бюргера, которые до сих пор развлекают читателей похождениями находчивого барона Мюнхгаузена. Увы, сохранилась только крошечная часть его литературного наследия, да и ту пришлось собирать по крупицам. Надо отдать должное Ефиму Курганову — на поиски источников и материалов он потратил три десятка лет. Этот небольшой корпус текстов — не только яркий штрих к несуществующему портрету, но и причудливый осколок давно почившей барской Москвы.