Дюркгейм и рептилоиды
Интервью с религиоведом Алексеем Апполоновым. Часть первая
Эмиль Дюркгейм. Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система в Австралии. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. Перевод с французского А. Апполонова и Т. Котельниковой
«Элементарные формы религиозной жизни» были написаны довольно давно — сохраняет ли эта работа актуальность или ее можно считать скорее памятником социологической и религиоведческой мысли?
Дюркгейм написал эту книгу более ста лет назад, но едва ли можно сказать, что она устарела. Антрополог Клиффорд Гирц поражался тому, что в 1970-е годы все религиоведческие исследования проводились «в узком русле одной определенной интеллектуальной традиции», то есть «теоретического наследия Дюркгейма, Вебера, Фрейда и Малиновского». С тех пор мало что изменилось. И хотя Гирц видел в этом определенный тупик научной мысли, на ситуацию можно взглянуть и с другой стороны: теории религии, предложенные вышеупомянутыми авторами, оказались настолько удачными, что проще было заниматься их углублением и обогащением за счет эмпирических исследований, нежели критиковать и предлагать нечто радикально новое. И если мы говорим о Дюркгейме, то главная — и непреходящая — его заслуга заключается в том, что он выявил и объяснил на теоретическом уровне один очень важный аспект религии: ее социальную природу.
Конечно, творчество Дюркгейма, как и всякая актуальная и живая мысль, подвергалось критике, иногда весьма жесткой. Однако, на мой взгляд, эта критика справедлива только в отношении частностей. Можно много говорить о том (как это делает, например, Альфред Радклифф-Браун), что некоторые этнографические данные, которые Дюркгейм использовал в своих исследованиях, были нерелевантными. Можно также указывать на определенную однобокость его теории: представляя религию как исключительно общественный феномен, Дюркгейм упускал из виду индивидуальную психологию верующих. Тем не менее скажу еще раз: глубинные интуиции французского социолога были верными и потому актуальны и по сей день.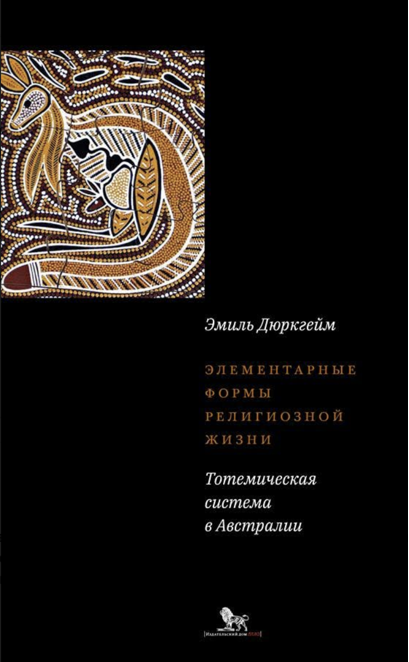
В таком случае как можно соотнести идеи «Элементарных форм» с современностью?
В общем и целом мы живем в секулярном мире. Все социологические опросы указывают на то, что уровень личной религиозности во всем мире падает: люди тратят меньше времени и ресурсов на религиозные практики, а число атеистов и тех, кого социологи относят к категории «нерелигиозные», уверенно растет. Однако религия никуда не исчезает и остается важным фактором общественной жизни. Если говорить о России, то мы можем наблюдать следующую парадоксальную ситуацию: крайне низкая реальная религиозность населения (менее 15% россиян регулярно участвуют в религиозных службах, читают религиозную литературу, следуют предписаниям своей конфессии и т. д.) сочетается с высоким уровнем номинальной религиозности (около 80% россиян считают себя верующими и идентифицируют себя через православие или, скажем, ислам). Иначе говоря, религия перестает быть определяющим фактором личного поведения человека, но остается важным социальным маркером.
Почему так происходит? В свое время я написал статью «Россия пострелигиозная», где попытался дать объяснение этому феномену. При этом я (не вполне осознанно, может быть) следовал идеям Дюркгейма, который был озабочен сходной проблемой: почему религия сохраняется несмотря на то, что религиозные представления об окружающем нас мире зачастую абсурдны и слабо коррелируют с эмпирической реальностью? Почему люди упорно посвящают себя практикам, которые отнюдь не гарантируют желаемого результата, почему они верят в странные и неправдоподобные вещи? Например, Дюркгейм отмечал, что многие образованные французские католики, воспитанные в духе сциентизма конца XIX века, не верили в реальное пресуществление хлеба и вина в плоть и кровь Христову или в то, что адамов грех переходит на всех людей, — для них эти аспекты католического вероучения казались иррациональными и даже нелепыми, но они все равно не разрывали своей связи с церковью. Более того, нам известны случаи, когда агностики и атеисты, несмотря на свое неверие и скептицизм, продолжали держаться религиозных традиций. Здесь можно вспомнить хотя бы римлянина Гая Аврелия Котту (124–74), который, согласно Цицерону, не был уверен в существовании богов, но практиковал религию, «потому что так предки нам завещали», или, ближе к нашей эпохе, лидера французской ультраправой организации «Аксьон франсез» Шарля Морраса (1868–1952), который заявлял о том, что он не верит в Бога, но исповедует католицизм как «религию французов».
Эти случаи не являются редкими исключениями: подобные настроения распространены столь широко, что даже вошли в западный городской фольклор. Например, в 1970-х годах, когда в Северной Ирландии обострилось противостояние между католической и протестантской общинами, в местных пабах рассказывали такой анекдот. Некий человек прогуливается по Белфасту, и вдруг на него нападет боевик с пистолетом. Угрожая оружием, боевик спрашивает: «Ты католик или протестант?» Человек отвечает: «Я атеист». «Ага, — говорит боевик, — это замечательно, но ты какой атеист — католический или протестантский?»
Или, возвращаясь к современным российским реалиям, можно отметить, что многие наши сограждане, называющие себя православными (около 30% согласно опросам), весьма далеки от ортодоксальных представлений о Боге, а значительное их число даже не верит в его существование.
А как бы вы охарактеризовали концептуальное ядро дюркгеймовской теории религии?
Мне кажется, что именно этот феномен, когда верующие не верят (или верят не до конца) в то, что проповедует их религия, но все равно идентифицируют себя через нее, навел Дюркгейма на наиболее важную его идею. Религия является не столько теорией (неким умозрением, объясняющим, как устроен мир), сколько практикой, в которой общество осознает и воспроизводит себя через религиозные (или околорелигиозные) ритуалы. Самое важное в религии не догматика и не мифология, но община верующих, объединенная определенными нравственными нормами, которые связаны с тем, что общество считает «священным», и которые члены общины могут разделять, даже не рефлексируя о вероучительных аспектах своей религии. Реальность, которая лежит в основе религии и которая обеспечивает ее существование и воспроизводство — это социальная реальность. Поэтому, согласно Дюркгейму, религия не фантазия и не обман (как считали, например, некоторые философы эпохи Просвещения). Все боги всех религий действительно существуют: они не более чем гипостазированное общество, а религиозные представления суть система идей, при помощи которых индивиды представляют себе общество, членами которого являются.
Эту фундаментальную идею Дюркгейм пояснял, исходя из своих представлений о природе общества как такового. Для Дюркгейма общество — особая реальность, которая не сводится к сумме составляющих его индивидов. Общество существует в индивидах, но оно превосходит их во всех отношениях, поскольку аккумулирует в себе знания и опыт целых поколений. Превосходя своих членов, общество играет по отношению к ним двоякую роль. С одной стороны, оно жестко (в том числе посредством прямого насилия) навязывает индивидам свои нормы и правила; с другой стороны, оно способно возносить их над самими собой, значительно обогащая тем самым их духовную жизнь.
Пока люди не понимают действительной природы общества, им кажется, что это не общество господствует над индивидами и определяет их образ жизни, а некие могущественные и таинственные, «священные» силы (которые затем, в ходе эволюции религиозных представлений, становятся божествами). Равным образом, людям кажется, что общественные лидеры, вознесенные над народной массой (военные вожди, пророки, императоры, религиозные реформаторы и т. д.), получают особый статус не благодаря неким общественным процессам, а из-за вмешательства внешних — «священных», или «божественных», — сил (и потому общественные лидеры обычно наделяются божественными, или священными, чертами: даже в современной конституции Норвегии сказано, что особа короля «является священной»).
Таким образом, повторю еще раз: религиозные представления оказываются системой идей, при помощи которых индивиды представляют себе общество, членами которого являются, а религиозные практики — это социальные практики, посредством которых общество утверждает, поддерживает и воспроизводит свое единство и, соответственно, самое себя.
Отсюда Дюркгейм приходит к выводу, что религиозность, понимаемая в таком широком социальном смысле, неотделима от природы человека как общественного существа, а потому вполне светские идеологии также могут считаться религиозными феноменами. Сам Дюркгейм в качестве примера приводил Великую французскую революцию, которая, на его взгляд, имела преимущественно религиозный характер — постольку, поскольку объявила священной французскую нацию. Сейчас многие исследователи говорят о «гражданской», или «светской», религии, то есть о социальном феномене, при котором то, что обычно считается подлинно религиозными элементами (вера в сверхъестественных существ, управляющих жизнями людей, ритуалы, в ходе которых происходит взаимодействие с этими существами и т. д.), отходит на второй план, но итоговая конструкция все равно сохраняет фундаментальные черты религии в дюркгеймовском смысле — представления о неких «священных» объектах, вокруг которых и благодаря которым общество обретает свое единство.
В качестве иллюстрации можно привести такой пример. В Древнем Риме считалось, что боевые знамена и штандарты воинских подразделений наделены некоей сверхъестественной силой, и вокруг них формировалась особая «воинская религия» («religio castrensis»), благодаря которой боевая единица осознавала свое единство и постоянно воспроизводила определенную систему поведенческих норм (свой этос). В современной российской армии знамя части, конечно, не наделяется сверхъестественными способностями: все понимают, что в физическом смысле это не более чем кусок материи. Однако знамя все равно священно: вокруг него совершаются особые ритуалы, за него бьются до последней капли крови, а в случае утраты знамени часть расформировывают. Таким образом, мы наблюдаем в данном случае своеобразную «светскую воинскую религию», очень похожую в отдельных своих аспектах на «religio castrensis» древних римлян.
При таком подходе понятие религии можно трактовать очень широко.
Если исходить из базовых посылок Дюркгейма, при желании практически любое общественное явление можно представить как религию. Возьмем для примера современную либеральную демократию: у нее есть свои священные тексты («Всеобщая декларация прав человека»), святые пророки (например, Джордж Сорос и Карл Поппер), свое жречество (либеральные журналисты, экономисты и политологи), свои ритуальные собрания (научные и иные конференции, посвященные проблемам либеральной демократии) и т. д.
С другой стороны, мы можем наблюдать, например, что РПЦ МП все больше говорит о таких вещах, как «патриотизм», «русский мир» и «здоровье нации», и все меньше о спасении души и загробном блаженстве. Не случайно «уранополитизм» является в современной РПЦ маргинальным направлением: это православное учение, согласно которому «христиане — странники и пришельцы, а их родина на небе» (и поэтому «недопустимо считать патриотизм религиозной добродетелью»). Иначе говоря, мы видим, как православие в России постепенно становится «гражданской религией», что в значительной степени и объясняет упомянутые выше странности.
Здесь, впрочем, я могу поспорить с Дюркгеймом о терминах. На мой взгляд, называть религией любое сообщество, группирующееся вокруг «священных» для него символов, не вполне верно (потому что тогда религиозной организацией надо будет считать, например, группировку футбольных фанатов или клуб поклонников Ольги Бузовой). Я бы предпочел говорить о том, что в основе и всех религий, и всех светских идеологий, и всех общественных организаций лежат одни и те же социальные механизмы, и эти механизмы Дюркгейм блестяще описал. Но при этом, по моему мнению, религии (по крайней мере, традиционные) все-таки чем-то отличаются от светских идеологий, и это «что-то» — представление о «сверхъестественных» (с точки зрения современной науки) силах и существах (я говорю «с точки зрения современной науки», поскольку во многих культурах термин «сверхъестественный» отсутствует). Мне кажется, Дюркгейм сильно упростил картину, когда почти полностью исключил из рассмотрения «сверхъестественное», заменив его более широким термином «священное», ведь сверхъестественные существа и силы, равно как и возможность общения с ними, очень важны для верующих традиционных религий. Весьма вероятно, что, если бы наука однозначно доказала невозможность существования таких сил и существ, традиционные религии бы исчезли, поскольку одних только светских общественных элементов, которые эти религии по необходимости в себя включают, оказалось бы недостаточно для их воспроизведения. Именно поэтому я предпочитаю говорить о «пострелигиозной» эпохе применительно к современной России или, скажем США (религиозная символика сохраняется и культивируется, но утрачивает свой подлинно религиозный смысл под напором секуляризации), а не о «гражданских» или «светских» религиях.
Как далеко, на ваш взгляд, может распространяться объяснительная сила представления о столь существенном воздействии социального на духовную жизнь людей?
Тут стоит упомянуть еще один важный для современности аспект творчества Дюркгейма: по его мнению, определяющее влияние, которое общество оказывает на представления и практики своих членов, относится не только к тому, что обычно включают в сферу «общественного» (религия, мораль, политика и т. д.), но и к законам человеческого мышления. Дюркгейм считает, что основополагающие категории, в которых мыслят люди (такие как время, пространство, причинность, число и пр.) имеют общественное происхождение — например, в основе категории времени лежат ритмы общественной жизни, категория класса (рода) сформирована на основании понятия человеческой группы (рода) и т. д. Общезначимость категорий обеспечивается авторитетом общества, который переносится на определенные способы мышления, являющиеся своего рода необходимыми условиями любой совместной деятельности людей (поэтому в случае, когда некий индивид нарушает нормы «правильного» с точки зрения общества мышления, общество может начать сомневаться в том, что он обладает человеческим разумом в полном смысле этого слова).
Эта идея Дюркгейма привела многих современных социологов и философов к концепции «социального конструирования», согласно которой все (или подавляющее большинство) наблюдаемых человеком феноменов являются «социальными конструктами», а не какой-то «объективной реальностью», существующей вне коллективного или индивидуального сознания (высказывались, например, идеи о том, что никакого электричества никогда и нигде не существовало, пока ученые, как представители особой социальной группы, не «сконструировали» его в своих интересах).
В крайних своих проявлениях теория социального конструирования, лежащая в основе современного постмодернистского дискурса, ничем не отличается от конспирологической «теории» о всемирном заговоре рептилоидов (которая, как известно, может легко объяснить любое явление деятельностью коварных пришельцев), и поэтому подробно останавливаться на ней нет смысла.
С другой стороны, представленные выше идеи Дюркгейма не лишены смысла. Действительно, большинство понятий, которыми мы некритически оперируем в обыденной жизни, имеют социальное происхождение. Например, понятие «культура», как оно употребляется большинством наших сограждан, несет на себе отпечаток дворянско-интеллигентских представлений о культуре как о чем-то высоком, даже священном, в противоположность «бескультурью». Отсюда происходит, в том числе, расхожее представление, согласно которому «в США никакой культуры нет, там одни макдоналдсы и голливуды». И в этой ситуации антропологу, например, может быть сложно выступать в публичном пространстве на тему «современной американской культуры»: он оказывается под угрозой обвинения в том, что извращает саму идею культуры.
Даже наука не вполне свободна от общества. Проблема влияния общественных представлений и настроений на научный дискурс слишком хорошо известна, чтобы обсуждать ее лишний раз детально (достаточно вспомнить знаменитый Обезьяний процесс 1925–1926 годов в Теннеси или историю с «буржуазной генетикой» в СССР). Прекрасно понимая масштабы этого влияния, Дюркгейм признавал, что научные понятия также обладают отчасти социальной природой, и тем не менее сохранял приверженность научному рационализму. Он был уверен, что наука может и должна объективно концептуализировать как социальную, так и физическую реальности. Это особое положение научного знания обусловлено тем, что наука, в отличие от «обыденного знания», которым живет общество, занимается постоянной методичной критикой и проверкой своих собственных принципов и понятий. Пускай научные представления и не могут — в силу своей нерасторжимой связи с конкретным обществом — отразить «физическую» реальность исчерпывающим образом (так, как она есть «сама по себе»), но они передают ее более или менее адекватно и значительно лучше, чем любые другие представления, включая религиозные. Таким образом, хотя Дюркгейм и был сторонником социологического «империализма» и редукционизма, столь любимого современными постмодернистами, но сам же указывал на его пределы.