«Духовенству в русской литературе не повезло»
Темная сторона белого духовенства в русской классике
Русская литература обратила свое всевидящее око на лиц духовных относительно поздно — со второй половины XIX в. Безусловно, священники и прочие духовные лица появлялись в ней и раньше, но лишь эпизодически и в основном в сниженном, сатирическом образе.
При этом писатели первого ряда о духовенстве писали немного, нечасто и отводили им чаще всего лишь функциональную роль (должен же был, например, в романе кто-то венчать героев). В качестве одного из немногих исключений здесь можно назвать «Соборян» Н. С. Лескова с его положительными, разносторонне и психологически достоверно прописанными героями.
В основном же к этой теме обращались писатели второстепенные. По душевной и эстетической склонности или же просто по неспособности выстроить оригинальный сюжет, они следовали традициям натуральной школы, аккуратно, (иногда, кажется, избыточно) детально и скрупулезно занося в записи знакомые им образы духовных лиц. В итоге и эти тексты на границе беллетристики и публицистики, и их авторы оказались в категории забытых и полузабытых и представляют интерес как историко-культурный материал для специалистов и интересующихся.
Этого материала русская литература второй половины XIX столетия предлагает так много, что приходится здесь сделать два произвольных ограничения: рассматривать только образы белого духовенства — то есть тех его представителей, что живут «в миру» и могут обзаводиться семьями (чаще всего в произведениях фигурируют сельские батюшки, а также дьяконы, которые не могли совершать церковные таинства и выполняли всякие служебные работы при церкви и священниках); кроме того, выбор авторов и произведений в статье сделан из соображений субъективных.
Духовное сословие — самое закрытое из существовавших в России, почти что каста — жило по своим правилам и обычаям, так что для понимания многих конфликтов и тем, занимавших его представителей, а следовательно, и писателей, стоит описать несколько связанных с ним особенностей.
Для посвящения в сан требовалось получить «среднее» духовное образование — закончить семинарию. И если в самых общих чертах авторы текстов сходились в том мнении, что духовенству на Руси жить невесело и нелегко, то так же единогласно утверждали: тяготы начинались уже с учебы.
Мейнстрим литературы о духовенстве начинается с нее же. В известных «Очерках бурсы» Н. Г. Помяловского и менее известном «Дневнике семинариста» И. С. Никитина описываются отсталые и недостаточные учебные программы и набор предметов, чудовищные педагогические приемы, жестокость преподавателей при их низком профессиональном уровне, изощренный садизм телесных наказаний, почти тюремные (если не хуже) условия жизни в этих закрытых учебных заведениях и дикие обычаи и традиции, несовместимые не только с их религиозным направлением, но и вообще с человеческим достоинством.
 Помяловский описывает дедовщину, телесные наказания («Ставили его коленями на покатой доске парты, на выдающееся ребро ее, заставляли в двух шубах волчьих делать до двухсот земных поклонов... жарили его линейкой по ладони, били по щекам, посыпали сеченное тело солью»), самым распространенным из которых были розги: провинившихся засекали нередко до полусмерти.
Помяловский описывает дедовщину, телесные наказания («Ставили его коленями на покатой доске парты, на выдающееся ребро ее, заставляли в двух шубах волчьих делать до двухсот земных поклонов... жарили его линейкой по ладони, били по щекам, посыпали сеченное тело солью»), самым распространенным из которых были розги: провинившихся засекали нередко до полусмерти.
Игры и забавы семинаристов тоже поражают жестокой бессмысленностью — играли в «швычки: эта деликатная игра состоит в том, что одному игроку закрывают глаза, наклоняют голову и сыплют в голову щелчки, а он должен угадать, кто его ударил; не угадал — опять ложись; угадал — на смену ему ляжет угаданный», «в плевки» (смысл игры очевиден), «на белендрясах, перебирая свои жирные губы, которые, шлепаясь одна о другую, по местному выражению, белендрясили», ради проведения времени «ржали по-лошадиному» и дрались, а проигравших в карты били.
Уроки были так скучны, что бурсаки снова придумывали себе — совершенно варварские — развлечения: кто-то «нащипывает себе руку, желая приучить ее хоть к тепленьким щипчикам. Другой завязал конец пальца ниткой и любуется на затекшийся кровью палец. Третий насасывает руку до крови... читают страницу сзаду наперед и притом снизу вверх, положат натаскать из головы сотню волос и натаскают».
Центральной же проблемой семинарии как учебного заведения было отсутствие собственно образовательного процесса: передача знаний и религиозного чувства полностью заменена бессмысленным буквальным повторением.
Главное свойство педагогической системы в бурсе — это долбня, долбня ужасающая и мертвящая. Она проникала в кровь и кости ученика. Пропустить букву, переставить слово считалось преступлением.
Эта концентрация не на смысле, а на механическом повторении «буквы», жестокость, дикость и физическое насилие приводят к катастрофическим результатам: полному невежеству семинаристов в сфере религии и познаний о мире, а кроме того, к равнодушию в вере и атеизму.
В бурсе вы всегда встретите смесь дикого фанатизма с полною личною апатией к делу веры. В бурсацком фанатизме, как и во всяком фанатизме, нет капли, нет тени, намека нет на чувство всепрощающей, всепримиряющей, всесравнивающей христианской любви... Между тем всякий бурсак-фанатик более или менее непременно невежда, как и всякий фанатик. Спросите его, чем отличается католик от православного, православный от лютеранина, он ответит бестолковее всякой бабы, взятой из самой глухой деревни, но, несмотря на то, все-таки будет считать своей обязанностию, своим призванием ненависть к католику и протестанту.
Проблема, описанная в «Очерках бурсы» и многократно повторенная писателями позже, очевидна: что можно ожидать от священников, выращенных и воспитанных полуграмотными садистами и пьяницами в заведении, где настоящее образование заменено бессмысленной зубрежкой, любые знания преследуются, а школьные правила заменены полууголовными принципами?
Все это объясняет и немалое число нигилистов, воинствующих атеистов и революционно-демократических деятелей 1860–1870-х годов, вышедших из духовного сословия.
«...Если препарировать бурсацкую религиозность, сбросить с нее покрывало, которым маскируется и декорируется сущность дела пред неспециалистом или недальновидным наблюдателем, распутать схоластические и диалектические тенета, мешающие анализировать факт смело и верно, то эта бурсацкая религиозность, знаете ли, чем окажется в большинстве случаев? — она окажется полным, абсолютным атеизмом — не сознательным атеизмом, а животным атеизмом необразованного человека, атеизмом кошки и собаки», — с горечью резюмирует Помяловский.
Впрочем, выводы его не сплошь пессимистичные: со временем в семинарии стали появляться и новые, разумные преподаватели, а среди ее выпускников — добрые, хорошие пастыри, сумевшие сохранить «душу живу» даже в таком аду.
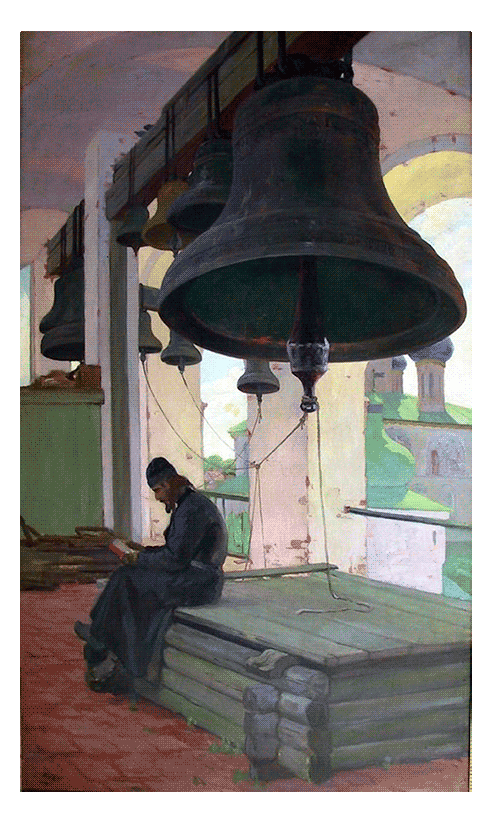 Успешно (или не очень успешно, но хоть как-то) закончившему семинарию до принятия духовного сана следовало жениться. С женитьбой, а прежде — с приисканием невесты, связана одна из основных проблем духовенства, закономерно получившая широкое освещение в литературе. Матримониальная проблема здесь плотно соединялась с профессиональной и почти не касалась области чувств будущих супругов, полностью переходя в область расчета.
Успешно (или не очень успешно, но хоть как-то) закончившему семинарию до принятия духовного сана следовало жениться. С женитьбой, а прежде — с приисканием невесты, связана одна из основных проблем духовенства, закономерно получившая широкое освещение в литературе. Матримониальная проблема здесь плотно соединялась с профессиональной и почти не касалась области чувств будущих супругов, полностью переходя в область расчета.
Практически все браки белого духовенства были внутрисословными: муж — приходской иерей был незавидной партией для «светской» девушки, кроме того, для такой женитьбы выпускнику семинарии требовалось особое разрешение «духовного» начальства, которое выдавало его неохотно.
При этом сословие было «перенаселено»: у священников обычно было много детей, традиционно наследовавших духовное звание; количество приходов же было ограничено (а в результате реформ еще сократилось), и многие выпускники семинарий сталкивались с «безработицей». Если батюшка не имел сыновей, его приход закреплялся за дочерью как приданое. Здесь и крылась одна из самых неприятных проблем духовенства. Для такой поповны жениха приискивали среди «безнаследных» выпускников семинарии, что оборачивалось несчастливым браком для обеих сторон: невеста оказывалась немолодая, некрасивая и с плохим характером, а жених, прошедший суровую бурсацкую школу, — мрачным, озлобившимся типом.
Одним из первых этот конфликт описал тот же Помяловский: в бурсу являются старуха с дочкой. Они пытаются задобрить начальство приношением, надеясь заполучить жениха хорошего, а «не озорников каких». Девице не повезло: как раз один из «озорников»,
по безалаберности своего характера, а отчасти потому, что ему надоела и опротивела бурса, махнув на все рукою, решился вступить в законный брак с дамою, которая была старше его по крайней мере десятью годами. Впоследствии из него вышел мерзейший муж, а из его супруги того же достоинства баба.
Помяловский описывает разные виды обманов: родственники невесты часто «спускали залежалый и бракованный товар с удивительною ловкостию: щеки невесты штукатурились, смотрины назначались вечером, при слабом освещении, — и рябое выходило гладким, старое молодым...»
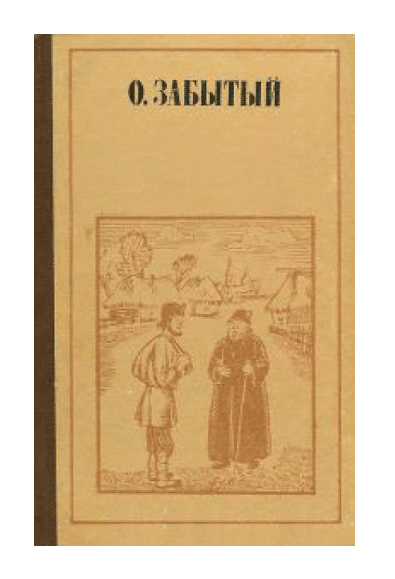 Такая женитьба стала сюжетообразующим конфликтом в повести О. Забытого «Велено приискивать».
Такая женитьба стала сюжетообразующим конфликтом в повести О. Забытого «Велено приискивать».
Эта повесть (настоящее имя автора — Г. И. Недетовский) — одно из лучших произведений из жизни духовенства.
Упомянутая проблема разрабатывается Недетовским гораздо тоньше, чем многими его собратьями, описывавшими лишь грубое, физическое насилие в подобных семьях.
Было велено «приискивать» жениха для дочери умершего кафедрального протоирея Якова Пурикордова. Весьма характерно, что этот если не идеальный, то самый привлекательный «духовный» персонаж по происхождению к духовенству не принадлежал и идти в него не собирался. Из-за слабого здоровья
...в нем развился мистический взгляд на мир божий. Этот взгляд окончательно утвердился в нем в академии, под влиянием лекций профессора психологии... Кончив курс в академии со степенью кандидата, он решил было идти в монахи, но, поступив на службу в город X., скоро увлекся дочерью одного из своих сослуживцев, миловидной, востроносенькой блондинкой, женился и принял священство. Страстно любимая им жена через год подарила ему дочку — Лёнушку, свою копию, а через три года другую, Машеньку, и — умерла.
Яков Пурикордов был образован, умен, страстно любил своих детей (заметим: редкое явление среди героев духовного сословия), занимался их воспитанием и образованием и старался привить им искреннюю веру и любовь к знаниям, однако прожил недолго. Дочь его Лёна унаследовала отцовский характер и нежную любящую душу, что в итоге и сделало ее жизнь «в темном царстве» невозможной.
Поначалу Лёна вполне счастлива с молодым, неглупым и симпатичным мужем, неплохо к ней относившимся, но драма, а после и трагедия ее заключается не только в вопросе узкосословного характера, а общечеловеческого. «Велено приискивать» — один из хороших образцов социально-психологического романа, написанного на материале жизни духовенства, что делает его почти уникальным в своем роде.
Кроме того, «Велено приискивать» полон и ярких, характерных черт представителей духовенства, их характеров, обычаев и даже моды. Даже общеизвестные факты (повсеместные взятки и поборы за любые действия духовных лиц) представляют собой живые зарисовки — так, отец Андрей-старший делится с сыном опытом: как вымогать положенные «десять целковых» за венчание и прочие требы.
И родители мужа Лёны, и многие другие персонажи-священники в романе — люди вовсе не дурные, но та колея, в которой они живут и действуют, делает их неотличимыми от самого темного мещанства, все их интересы сосредоточены вокруг примитивного быта и добычи денег праведными или, если паства упорствует, неправедными средствами.
Недетовский уделил немало внимания и внешнему виду священнослужителей, снабдив читателей подробными описаниями традиций в одежде и тенденций моды у старшего и нового поколения попов (речь идет о 1877 годе) — сведения, обычно у современников автора считавшиеся всем известными и оттого в текстах не встречающиеся.
В последние десятилетия успел незаметно выработаться новый тип «попа», вовсе непохожий на прежний, так хорошо всем известный и часто изображаемый в литературе.
В составе теперешнего духовенства два поколения — отцы и дети — представляют резкие особенности с внешней и внутренней стороны... Отцы носят шляпы большею частью пуховые, широкие и с широкими крыльями, и носят их лет по десяти. Дети обзавелись шелковыми цилиндрами с узкими полями и меняют их чуть не каждый год. Отцы предпочитают в одежде черный цвет и суконную материю; рясы шьют на всю жизнь и надевают только в торжественных случаях; по подряснику подпоясываются кушаком. Дети взлюбили шерстяную и шелковую материю и притом цветную; рясы надевают часто и имеют привычку — особенно в городе — на ходу отворачивать полы и рукава, щеголяя франтовской подкладкой...
Отцы только в торжественных случаях мажут себе волосы, и то — коровьим или деревянным маслом. Дети более заняты собой, знакомы с репейным маслом и постоянно носят при себе гребешок...
Так, например, выглядел упомянутый выше свекр Лёны: яркий портрет, достойный цитирования:
Впереди шел батюшка, успевший уже облачиться в нанковый, без подкладки, подрясник. Но, Боже мой, как смят был этот подрясник! Можно было подумать, что дней пять его жевали коровы, и потом, отнятый у них и высушенный на печи, он попал на плечи иерея. Вследствие своей смятости, он был так короток, что едва спускался ниже колен отца Андрея, и обнаруживал границы голенищей с соседнею территорией.
Отличия отцов и детей, как сообщает нам автор, касаются и интеллектуальных привычек:
Отцы с самого выхода своего из семинарии имеют дело только с церковно-богослужебными книгами и относятся к ним с безотчетным благоговением; о журналах, как духовных, так и светских, или вовсе не имеют понятия, или имеют понятия самые смутные; о политике знают понаслышке; проповеди говорят очень редко, и то, по примеру праотцов, общими местами и длинными периодами. В обществе отцы неразговорчивы.
Дети читают священные и церковно-богослужебные книги ex officio; больше любят читать журналы и газеты, но довольно поверхностно, чтобы запастись материалом для разговора и пустить пыли в глаза. Проповеди они говорят чаще отцов, причем любят щегольнуть публицистическим характером содержания и популярностью изложения. Некоторые силятся стяжать себе даже литературную славу помещением мелких корреспонденций в газетах...
Любопытно и наблюдение автора: «попы-дети» все более стараются быть похожими во внешности и бытовых привычках на высшее относительно них сословие — дворян.
Отцы живут скопидомами, с работниками разделяют труд и стол; обстановка у них в доме незатейливая и старинчатая; из музыкальных инструментов вы найдете у отцов разве только гитару, — да и то редко. У них свои наливки и настойки своего приготовления и закуски. Дети живут открыто и несколько барственно; за работой только присматривают; едят отдельно от прислуги и гораздо лучше ее.
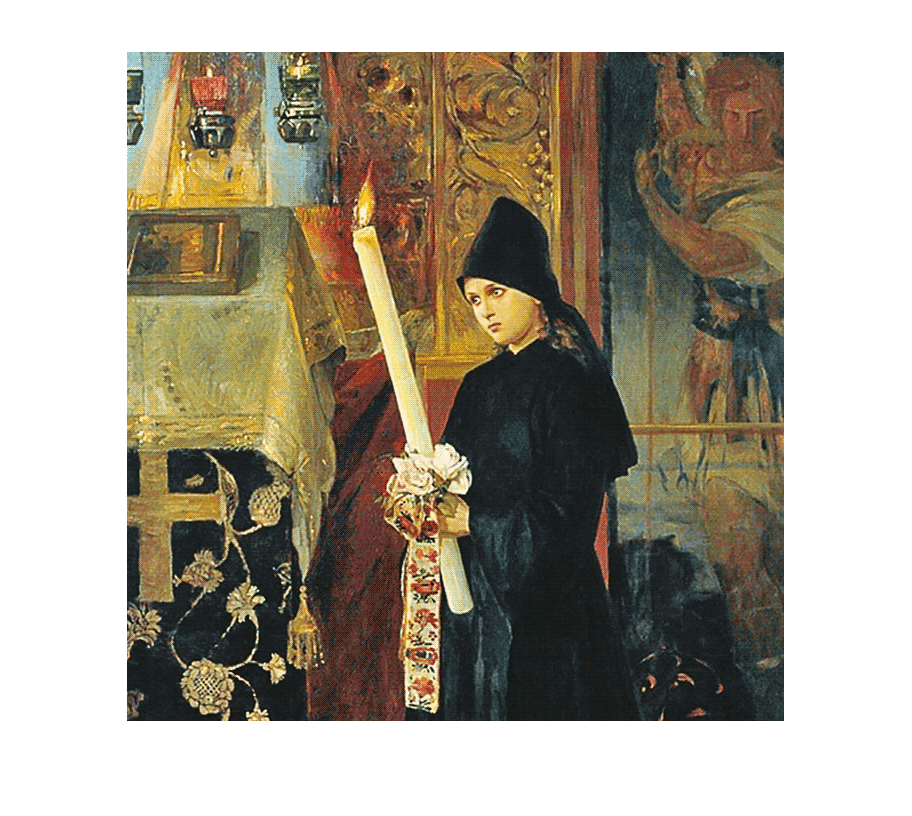 В доме у них вы увидите венскую мебель, диваны и кресла нового фасона и даже фортепьяно, или роялино, купленное в городе по случаю и стоящее по обыкновению без употребления. Выпивка и закуска у них закупается в городе. Отцы нюхают табак — дети курят...
В доме у них вы увидите венскую мебель, диваны и кресла нового фасона и даже фортепьяно, или роялино, купленное в городе по случаю и стоящее по обыкновению без употребления. Выпивка и закуска у них закупается в городе. Отцы нюхают табак — дети курят...
Следующее наблюдение, однако, кажется тревожным признаком: «дети» не хотят, чтобы их отпрыски оставались в том же сословии.
Духовное звание они («отцы» — С. В.) предпочитают светскому, духовно-учебные заведения — светским учебным заведениям и пускают своих сыновей по той дороге, по которой шли сами. Дети любят либеральничать: утреню служить поздно; нередко высказывают недовольство покроем православного духовного платья, сетуют иногда на запрещение им ходить в театры и концерты; семинарию они в большинстве презирают и детей своих начали отдавать в гимназии.
К этому «обмирщению» автор, кажется, относится без особого одобрения: оно поверхностно и, приводя к внешним изменениям, не укрепляет священников в вере и их обязанностях перед вверенной им паствой.
Отец Андрей («приисканный» муж Лёны), не находя особого интереса в проповедях и прочих составляющих поповской жизни, ищет светских развлечений — и находит самые примитивные из них: карты, алкоголь, «скоромные» разговоры с известным местным развратником и ухаживание за молоденькой сестрой жены.
Пока о. Андрей приобщается к «мирским» радостям, его жена Лёна болеет, слабеет и — к искреннему горю прихожан, искренне любивших заботливую и добрую «матушку», — умирает. После ее смерти о. Андрей поступает в духовную академию, принимает постриг и делает хорошую карьеру уже в среде черного духовенства.
***
Женившись и обзаведшись своим приходом, священник сталкивался со следующей проблемой — добычей хлеба насущного для себя и семейства. Источник дохода приходского священника был краеугольным камнем конфликта между ним и паствой. Именно прихожане «кормили» своего иерея, оплачивая требы (венчание, отпевание и прочие) деньгами или натуральным продуктом. Такса за требы была установлена еще при Екатерине II, но была так мала, что ею никто не руководствовался: крестьяне старались заплатить поменьше, а попы передавали наследникам умения и навыки, как заставить упрямых прихожан раскошелиться. Помимо этого, священник и причт по большим праздникам делали обход по селу и принимали от паствы посильные подношения. Такое положение дел сформировало устойчивый образ жадного и скупого попа, требующего от крестьян делиться и без того скудным и тяжело наживаемым добром.
Впрочем, иерей мог владеть землей и сам обрабатывать ее, но тогда он почти полностью становился вровень с крестьянами и часто не имел ни физических, ни духовных сил исполнять свои прямые священнические обязанности и тем более быть духовным наставником.
Городским священникам жилось обычно лучше: горожане жили богаче и больше платили за требы.
«Если б дали премию придумать что-нибудь, чтобы более уничижить, опозорить духовенство, из высокого и чудного служения сделать чуть не ремесло, то верно никто бы не придумал бы лучшего средства, как эти нечестивые поборы с прихожан, что зовутся доходами. Священник отслужил молебен — и тянет руку за подаянием; проводит на вечный покой умершего — тоже; нужно венчать свадьбу — даже торгуется; ходит в праздник по приходу с единственною целью — собирать деньги; словом, что ни делает во всем одна цель у него: деньги... И какими глазами должны смотреть на него прихожане? О, пройдите из конца в конце Россию и прислушайтесь, как из-за этих проклятых доходов честят духовенство...» — разражается филиппиками в адрес условий жизни и работы духовенства И. С. Беллюстин — калязинский священник и автор известной книги «Описание сельского духовенства».
Эта книга, анонимно вышедшая за границей в 1858 г., критически описывала жизнь духовного сословия, произвела грандиозный эффект среди духовенства и администрации, чуть не стоила серьезного наказания автору и косвенно повлияла на проведение церковных реформ 1860-х гг.
Апологию сельского священника и его точку зрения на проблему выслушивают семеро мужиков «Подтянутой губернии, / Уезда Терпигорева, / Пустопорожней волости».
Оказывается, получаемый ранее попами доход от дворян иссяк, и остается надеяться лишь на крестьян:
Перевелись помещики,
В усадьбах не живут они
И умирать на старости
Уже не едут к нам...
Сбирай мирские гривенки,
Да пироги по праздникам,
Да яйца о святой.
Крестьянин сам нуждается,
И рад бы дал, да нечего...
Поп в цитированной выше поэме Некрасова жалуется на «хулу», слагаемую прихожанами, но хула эта складывалась не только из-за экономических конфликтов, а из-за образа жизни, нередко напрямую контрастировавшего с учением, которое священники по долгу своей профессии несли в народ.
Даже в памятной всем пушкинской «Сказке о попе и его работнике Балде» иерей не только отличается исключительной скупостью (нанимает работника практически бесплатно), но и держит на оброке чертей, т. е. существ, с которыми не должен в принципе вступать в какие-либо взаимоотношения (кроме разве их изгнания). И в сказке проявляется одна из нелюбимых паствой черт сельского духовенства — неразборчивость в средствах получения дохода.
 И современники, и авторы часто свидетельствуют о том, как, сближаясь с крестьянами или с провинциальными помещиками, священнослужители — вместо того чтобы благотворно действовать на их душу, ум и привычки — перенимают их обычаи, пороки и дурные привычки.
И современники, и авторы часто свидетельствуют о том, как, сближаясь с крестьянами или с провинциальными помещиками, священнослужители — вместо того чтобы благотворно действовать на их душу, ум и привычки — перенимают их обычаи, пороки и дурные привычки.
Вторая половина XIX в. изобилует произведениями о духовенстве, выписанных «по следам» натуральной школы и предлагающих множество (в основном повторяющихся) этапов и событий их жизни. Предельно детализированная их обыденность и рутина производит в массе своей довольно тяжелое впечатление: герои совершают механические действия, которых от них ожидают, уныло-многословны, демонстрируют полное отсутствие сколько-нибудь оригинальных мыслей, чувств, стремлений и идей и полностью сконцентрированы на бытовых вопросах.
Среди множества примеров можно выбрать повесть «Ставленник» Ф. М. Решетникова, который последовательно описывает известные этапы жизни священника — от семинарии и старше. Автор в мельчайших подробностях сообщает, как главный герой Егор Иваныч Попов пишет прошения, подготавливает и читает проповедь (почти без тетрадки!), получает назначение в город, общается с отцом и другими представителями духовенства, ищет невесту, женится на избалованной дочке благочинного и принимает священнический сан.
Обилие микроскопических деталей, подробная «стенографическая» запись разговоров, столь же подробное перечисление всех мелких жестов, перемещений, упоминание многочисленных второстепенных персонажей (почти все — духовного сословия), которых почти невозможно отличить друг от друга, — все это делает «Ставленника» хорошим источником для изучения социальной среды и ее рутинных практик, но довольно скучным чтением. Возможно, автор задался целью показать жизнь и характеры этой среды серыми, унылыми, невзрачными и стертыми — и у него вполне получилось.
Об особенностях языка и синтаксиса автора может свидетельствовать такая цитата:
Впрочем, хороший нос придает какую-то привлекательность лицу... Семинаристы вообще делятся на бедных и богатых. Бедные бывают бурсаки и живущие на квартирах, богатые — дети состоятельных родителей; но вообще живущие на квартирах оказываются состоятельнее бурсаков-бедняков, то есть детей бедных родителей и детей, не имеющих возможности наживать деньги сами собой.
Одно из самых неоднозначных произведений о священниках — «Жизнь Василия Фивейского» Л. А. Андреева.
Собственно, эта трагическая экспрессионистская повесть рассказывает не о священнике, а о роке — как водится, мрачном и неумолимом. Принадлежность главного героя к духовному сословию здесь лишь увеличивает глубину конфликта между усилиями этого несчастного нового Иова укрепиться в вере и преодолеть невзгоды — и невозможностью перебороть злой рок.
«Среди людей он был одинок, словно планета среди планет, и особенный, казалось, воздух, губительный и тлетворный, окружал его, как невидимое прозрачное облако. Сын покорного и терпеливого отца, захолустного священника, он сам был терпелив и покорен и долго не замечал той зловещей и таинственной преднамеренности, с какою стекались бедствия на его некрасивую, вихрастую голову», — сообщает нам автор в самом начале и переходит к почти античному сюжету о бесплодности попыток уйти от судьбы. Трагическая гибель маленького сына, алкоголизм и сумасшествие попадьи, прозрение о горестях других людей, рождение сына-идиота, пожар и смерть жены, безумные попытки воскресить труп работника — все это имеет большее отношение к жизни Василия не как приходского священника, а как верующего (или неверующего?) человека перед непостижимым разумом или хаосом.
Помимо священников, самые часто встречающиеся «духовные» герои в произведениях — дьяконы (которые, как известно, помогают иереям вести службы, но сами совершать церковные таинства не могут). Дьякон в текстах отечественной классической литературы — лицо обычно комическое, характер имеет легкомысленный и вполне подвержен тем же увлечениям и небольшим грехам, что и большинство прихожан. В одном из писем Чехов, давая характеристику произведениям своего коллеги-писателя, иронично замечал: «Гусев (С. И. Гусев-Оренбургский. — С. В.) ...талантлив, хотя и наскучает скоро своим пьяным дьяконом. У него почти в каждом рассказе по пьяному дьякону».
Стоит восстановить справедливость: таких дьяконов можно отыскать почти у любого писателя, а не только у Гусева-Оренбургского.
Описание типичного «дьячка старой школы» можно найти в повести «Авва» Мамина-Сибиряка:
...Широчайшая бесхарактерность и непреодолимая страсть к водке сделали из Паньши неудачника и вечного дьячка. Он был умен, изворотлив, находчив, умел польстить, но при благоприятных обстоятельствах обнаруживал все признаки самой черной неблагодарности, хитрил, обманывал и продавал.
Даже и в одном из самых апологетических в отношении духовенства текстов — хронике Н. С. Лескова «Соборяне» дьякон Ахилла — незлой, искренний, сильный и верный человек, если присмотреться, весьма сомнителен с точки зрения и традиционных добродетелей церковного человека, и просто человека верующего.
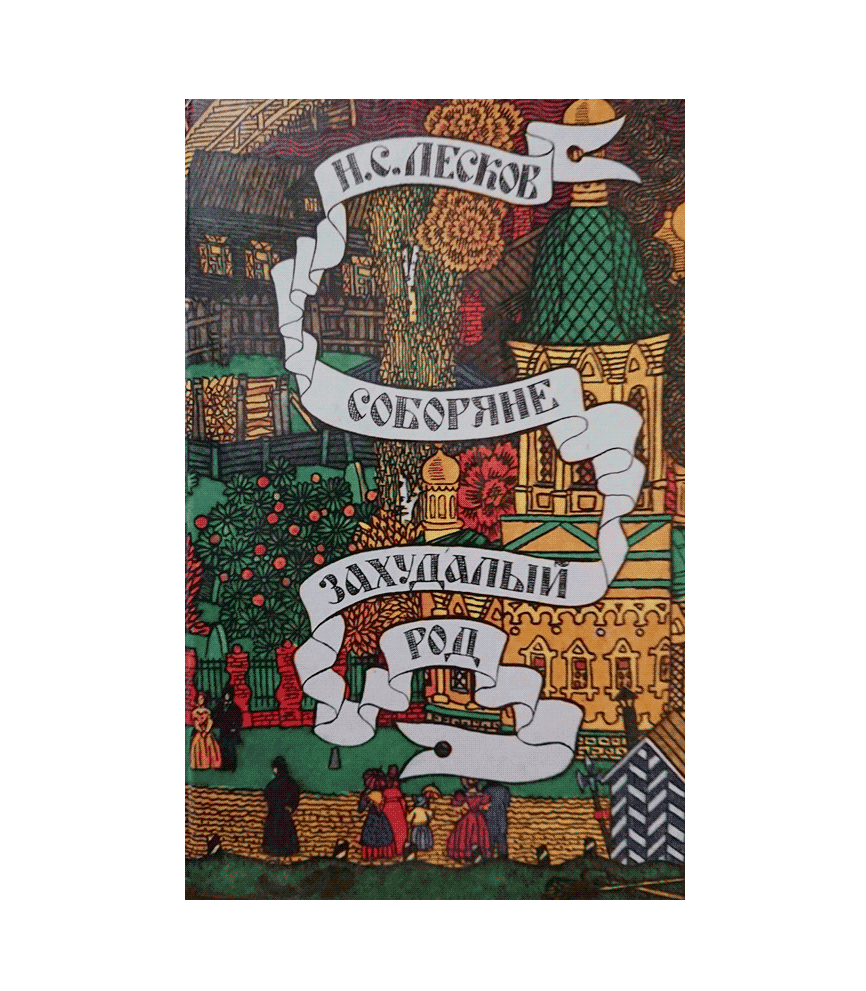 И окружающие, и сам Ахилла указывают также на недостаток его интеллекта: «сердце мое за его обиду стерпеть не может, а разума в голове, как помочь, нет», — говорит дьякон.
И окружающие, и сам Ахилла указывают также на недостаток его интеллекта: «сердце мое за его обиду стерпеть не может, а разума в голове, как помочь, нет», — говорит дьякон.
Может показаться, что образ Ахиллы выведен в известной дихотомии ума и сердца: при явном недостатке ума это человек искренний и истово верующий. Однако, пробыв какое-то время в городе и пообщавшись с литераторами и нигилистами, он начинает не просто колебаться в своей вере, а уже готов легкомысленно примкнуть к атеистам.
Так, Ахилла заявляет отцу Савелию Туберозову:
— Ну да ведь, отец Савелий, нельзя же все так строго. Ведь если докажут, так деться некуда.
— Что докажут? Что ты это? Что ты говоришь? Что тебе доказали? Не то ли, что бога нет?
— Это-то, батя, доказали...
— Что ты врешь, Ахилла! Ты добрый мужик и христианин: перекрестись! Что ты это сказал?
— Что же делать? Я ведь, голубчик, и сам этому не рад, но против хвакта не попрешь... зачем вас смущать? Вы себе читайте свою Буниану и веруйте в своей простоте, как и прежде сего веровали.
Остальные дьяконы и того сомнительнее.
Впрочем, удивительная для духовных лиц неосведомленность в делах религии и нестойкость в убеждениях вполне объясняется тем, откуда брались дьяконы.
Тот же И. С. Беллюстин так объясняет «генеалогию» дьяконов, дьячков и пономарей:
Ученик, в училище или семинарии, совершенно сбился с толку: он и пьяница, и буян, и вор, словом — дурен до того, что даже в наших духовных заведениях терпим быть не может, и — его выгоняют. Выгнанный, года два-три и больше шляется, где пришлось, и на полной свободе совершенствует свои разнообразные способности... И вот, вместо того, чтобы его выгнать совсем из духовного звания... его делают... служителем Церкви... Исключений тут нет, потому что в наших учебных заведениях исключаются лишь отъявленные негодяи...
***
Духовенству в русской литературе не повезло. Кроме нескольких прекрасных исключений (таких как хроника «Соборяне» Лескова, которая слишком велика и сложна, чтоб быть бегло описанной в обзорной статье, или как упомянутые произведения Чехова), белое духовенство в русской литературе попало в некий зазор.
Авторы «извне», т. е. происхождением и образом жизни не принадлежавшие к духовному сословию, не могли описывать его с полным знанием дела или относились к нему со снисходительным пренебрежением.
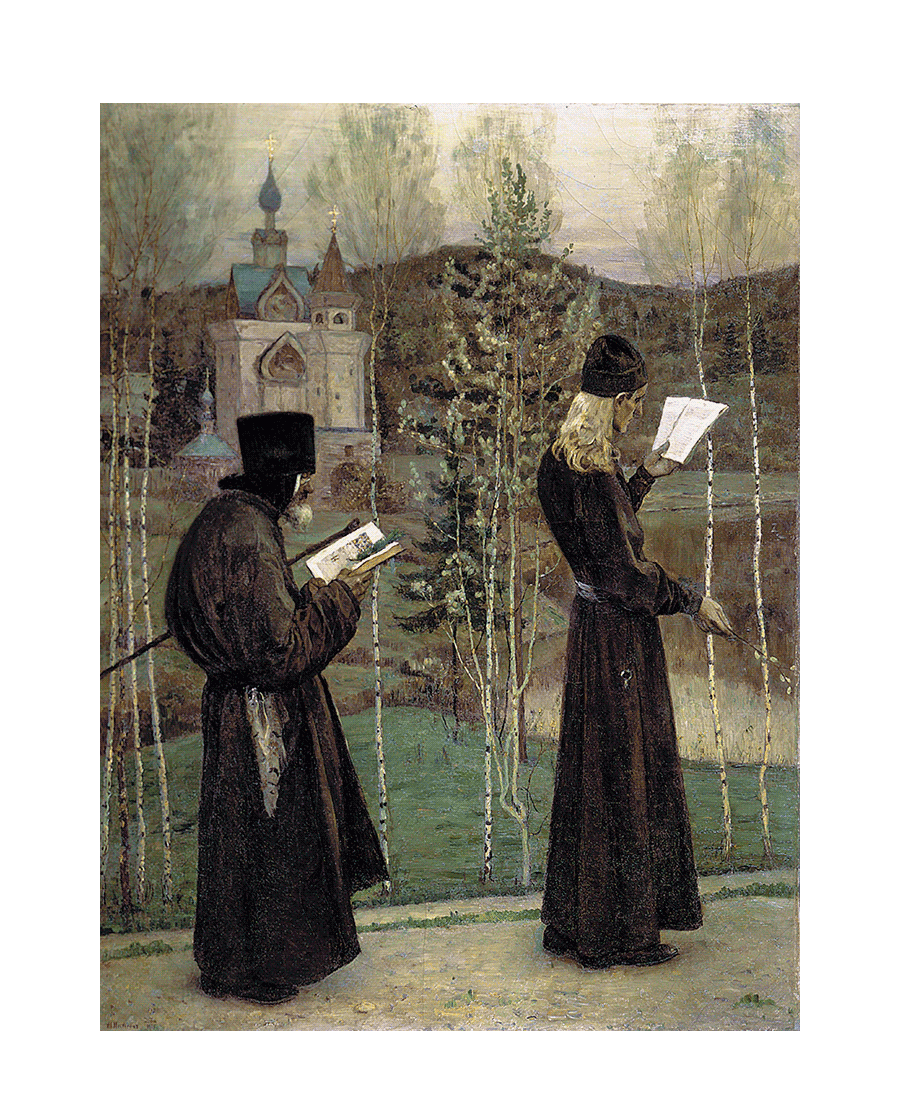 «Голос» же авторов из самого сословия стал жертвой своеобразной рекурсии. Они описывали реалии скудной, неграмотной, полной лишений, бедности, суеверий, интеллектуальной ограниченности и настороженности к познанию, жестокой к детям, запуганной и терпящей притеснения и обиды как со стороны ригористичного духовного начальства, так и со стороны «нигилистов» жизни духовенства или пытались выстроить модели и образцы нового священства. Однако большинство этих авторов были носителями многих пороков и недостатков, которые они сознавали и порицали. Для литературного творчества основным таким пороком был недостаток и специфичность образования, не дающие им ясно, а главное, интересно выразить идеи, образы и высказать просьбу о помощи.
«Голос» же авторов из самого сословия стал жертвой своеобразной рекурсии. Они описывали реалии скудной, неграмотной, полной лишений, бедности, суеверий, интеллектуальной ограниченности и настороженности к познанию, жестокой к детям, запуганной и терпящей притеснения и обиды как со стороны ригористичного духовного начальства, так и со стороны «нигилистов» жизни духовенства или пытались выстроить модели и образцы нового священства. Однако большинство этих авторов были носителями многих пороков и недостатков, которые они сознавали и порицали. Для литературного творчества основным таким пороком был недостаток и специфичность образования, не дающие им ясно, а главное, интересно выразить идеи, образы и высказать просьбу о помощи.
Проблемы, описанные множеством «духовных» авторов, очевидны и понятны, однако социальная реформа, трансформация этого замкнутого сословия так и не состоялась. Духовенство не сблизилось со светскими сословиями, не стало авторитетом и не перестало быть непонятным Другим для них. Часть молодых представителей духовенства, получив светское образование, навсегда покинула свой прежний мир, часть ушла в мир полярный — атеистов и революционеров, так и не передав и не «посеяв» ни теплой веры, ни религиозных заветов. Так, по крайней мере, говорит мейнстрим нашей литературы.
Впрочем, помимо мейнстрима, есть и довольно многочисленные исключения, или, лучше сказать, ответвления. О них — в другой раз.