Дресс-код и репрессии: как хорошие манеры участвуют в механизмах подавления
Дискуссия о книге «Укрощение повседневности»
Ирина Прохорова: Наша сегодняшняя беседа посвящена феномену повседневности и тому, какую роль она играет в цивилизационных процессах, каким образом повседневность укрощают, подстраивая ее под разные формы существования той или иной культуры. И, как это уже принято, мы в нашем разговоре отталкиваемся от важной для нас книги. Такой книгой является сборник, который называется «Укрощение повседневности: нормы и практики Нового времени». Замечательный сборник — в нем множество интересных статей, посвященных самым разнообразным формам взаимодействия повседневности и государственного регулирования в разные эпохи. Но я хотела бы, чтобы мы с вами поговорили о фигуре известного немецкого социолога Норберта Элиаса, который был главным героем этого сборника. Отталкиваясь от его трудов, исследователи развивали различные темы, связанные с повседневностью и ее изменением. Может быть, несколько слов о том, какой вклад Норберт Элиас внес в понимание важности повседневности? Почему труды Элиаса столь важны для понимания себя, понимания себя в обществе, в государстве как частного лица и так далее?
Мария Неклюдова: Элиас — одна из центральных фигур для размышлений о повседневности, во всяком случае в русском контексте, потому что Элиас пришел к нам достаточно поздно, как и вообще изучение повседневности. Оно начинается в конце 80-х — начале 90-х годов с перестройкой, когда жизнь обычного человека становится не то чтобы важнее, но о ней становится возможным разговаривать и ее изучение постепенно начинает выходить на первый план. И если говорить о российской традиции, то был, конечно же, замечательный семинар Юрия Бессмертного, который как раз занимался изучением структуры повседневности.
Если говорить об Элиасе, то Элиас — это тоже такая фигура, с которой связано запоздание, потому что у него достаточно драматичная судьба: немецкий еврей, бежавший из Германии в Великобританию, переживший там тоже не лучшие годы, потому что во время войны он был в лагере, как и многие немцы, жившие в Великобритании в то время, потом Элиас скитался по разным британским университетам, и труды его начали получать признание уже в 50–60-е годы, то есть когда он уже был в очень зрелом возрасте. Он успел застать свое признание, что, конечно же, чрезвычайно приятно; он все-таки увидел, что его идеи стали восприниматься научной общественностью. Но это произошло только тогда, когда его работы были переведены с немецкого на английский, и, кажется, особенно значим был перевод на французский язык. Потому что когда его работы, в особенности «О процессе цивилизации» и «Общество двора», были переведены на французский язык, то они оказались созвучны школе Анналов, причем школе Анналов не первого поколения, а второго-третьего.
Таким образом произошла встреча между двумя параллельно развивавшимися мыслями, и во многом популярность школы Анналов потом сделала Элиаса одним из центральных французских мыслителей, хотя он изначально к Франции не имел никакого отношения. Но сейчас, когда мы говорим о французской традиции изучения частной жизни, общественного пространства, не говорить об Элиасе практически невозможно. При этом у каждой страны немножко свой Элиас: один Элиас в Великобритании, другой Элиас во Франции, и, безусловно, существует русский Элиас, который пришел в Россию, я думаю, 20–25 лет назад, — я, честно говоря, не помню, когда были переведены его работы на русский язык, но это был конец 90-х или вторая половина 90-х годов. Сейчас это уже часть и российской научной традиции, и именно поэтому мне показалось интересным перейти на следующую ступень — не только стараться использовать Элиаса в собственных научных изысканиях, но и попробовать отрефлексировать, каким образом мы используем Элиаса, зачем мы это делаем, чего мы добиваемся с его помощью и с помощью других многочисленных исследователей, которые шли по его следам.
Ирина Прохорова: Это действительно очень важно. В сборнике есть много дискуссий, как потом его критиковали и все прочее, но это сейчас не столь важно и интересно, а самое интересное, мне кажется, и тут я бы спросила Ксению: в чем смысл его замечательных книг? Элиас писал о том, как повседневность втягивается в орбиту государственного контроля, который в раннее Новое время начинает развиваться со складыванием монархии, двора королевского и так далее. Может быть, здесь вы несколько слов сказали бы? Потому что, мне кажется, это очень важный момент, и, что бы там ни говорили его последователи и критики, все-таки Элиас уловил очень важный момент в модерном времени, последствия которого мы видим до сих пор в нашем речевом этикете, в поведении, хотя мы иногда даже и не осознаем этого.
Ксения Гусарова: Конечно, наша запоздалая модерность как раз делает Элиаса бесконечно важным именно для нашего контекста мыслителем и автором. Если говорить про моего Элиаса и о том, как я его читаю, мне кажется наиболее важным, что он очень чутко реагирует в «Процессе цивилизации» на тот исторический момент, когда он пишет эту книгу. Это вторая половина 30-х годов, он уже находится в эмиграции, и он с ужасом наблюдает за тем, что происходит в Германии. Поэтому одна из важных тем этой книги — это хрупкость достижений цивилизации. Все то, что мы считаем сейчас само собой разумеющимся, с одной стороны, это повседневные практики — чистить зубы, мыть руки, с другой стороны — нормы бытового общения и приличий. Все это строилось веками, и это нам кажется чем-то незыблемым и естественным, и это встраивается в наше ощущение самих себя, но это все сдувают мгновенно какие-то социальные потрясения или некий политический курс, взятый в противоположную сторону, и все это исчезает. С одной стороны — вот это ощущение хрупкости и неочевидности того, что мы привыкли считать очевидным, а с другой стороны — сам этот процесс цивилизации, который делает нас более приятными друг для друга, предлагает нам постоянную оглядку на другого, изначально на вышестоящее лицо, которому мы должны демонстрировать почтение тем, что мы говорим определенным образом, выглядим определенным образом, пользуемся столовыми приборами и вообще ведем себя хорошо, но впоследствии это становится базовым требованием каждого человека к каждому человеку. И это, мне кажется, очень упрощает жизнь и делает ее более приятной.
Но в то же время взгляд другого, который мы интериоризируем и все время направляем на себя, относительно которого мы себя оцениваем, оказывается также очень важным репрессивным механизмом, и это даже не столько взгляд государства, сколько тотальный общественный контроль. И это созвучно уже идеям Мишеля Фуко о паноптическом видении, когда каждый следит за каждым, каждый следит за собой и все время мы эту нормальность поддерживаем в себе и в других. И здесь видно, как на Элиаса повлияли Фрейд и его идеи фигуры отца внутри и подавленных влечений, желаний, травм, комплексов и стрессов. С одной стороны, цивилизация является достижением, очень хрупким и очень важным, а с другой стороны — само это достижение имеет теневую сторону. И мне такой диалектический подход кажется очень продуктивным и ценным.
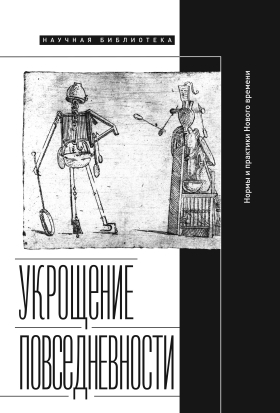 Ирина Прохорова: Мне очень важно то, как Элиас пытается показать, как складывается система укрощения повседневности, как происходит кодификация поведения людей и норм общения людей в обществе в раннее Новое время. Если я правильно понимаю мысль Элиаса, в отличие от Средневековья, где было много разных кодексов поведения, потому что существовала раздробленная Европа, разные дворы, где были свои формы социальной жизни, с появлением монархии и абсолютистской монархии монарх и двор вокруг него берут на себя главную цивилизующую функцию. Король и его свита вырабатывают какие-то нормы поведения, которые очень четко разграничивают разные сословия. То есть люди себя начинают идентифицировать в зависимости от сословия, и здесь не только деньги или чин играют роль — еще надо себя вести соответственно своему высокому предназначению. И, таким образом, более тонкая система социальных различений и связана с выработкой разных кодексов поведения. Правильно ли я понимаю эту мысль?
Ирина Прохорова: Мне очень важно то, как Элиас пытается показать, как складывается система укрощения повседневности, как происходит кодификация поведения людей и норм общения людей в обществе в раннее Новое время. Если я правильно понимаю мысль Элиаса, в отличие от Средневековья, где было много разных кодексов поведения, потому что существовала раздробленная Европа, разные дворы, где были свои формы социальной жизни, с появлением монархии и абсолютистской монархии монарх и двор вокруг него берут на себя главную цивилизующую функцию. Король и его свита вырабатывают какие-то нормы поведения, которые очень четко разграничивают разные сословия. То есть люди себя начинают идентифицировать в зависимости от сословия, и здесь не только деньги или чин играют роль — еще надо себя вести соответственно своему высокому предназначению. И, таким образом, более тонкая система социальных различений и связана с выработкой разных кодексов поведения. Правильно ли я понимаю эту мысль?
Мария Неклюдова: Да, безусловно, и есть еще другая книга. Если Ксения Олеговна в основном говорила о книге «О процессе цивилизации», то есть более ранняя книга Элиаса, которая как раз посвящена обществу двора, в которой он рассматривает французскую модель, потому что это в первую очередь как раз французская модель централизованной монархии, в которой начинают использовать чрезвычайно активно и абсолютно осознанно конкуренцию между элитами. Для того чтобы быть абсолютным, монарху нужна конкуренция между двумя элитами — это элита, с одной стороны, дворянства шпаги, то есть военная, с другой стороны, это дворянство мантии, то есть высшая бюрократия, которая тогда начинает появляться и которая не связана родовыми узами с монархией, но она получает места за свои способности, за достоинство и так далее. И конкуренция между двумя этими элитами позволяет власти быть абсолютной, потому что ни одна, ни другая не берет верх. Это, безусловно, то, чем идеально владел Людовик XIV: установление сложной системы символических различий между элитами и сложных иерархий внутри элит.
Мы знаем примеры этих символических различий, некоторые из них приводит Элиас, некоторые из них потом разбирали уже французские историки. Скажем, при дворе Людовика XIV было право синего камзола, потому что те, кто имел право носить синий камзол, могли без разрешения сопровождать короля, когда тот ездил в один из своих загородных домов в Марли, а всем остальным надо было просить разрешения. То есть это абсолютно символическое — ничего реального за этой милостью не стоит, но люди готовы были перегрызть друг другу глотки ради права ношения синего камзола. Или, опять-таки, кто как приветствует короля — герцоги и пэры имели право сидеть перед королем на табурете, и это право табурета ценилось настолько, что, как рассказывает Сен-Симон, один из мемуаристов XVII века, один из менее знатных людей (кажется, он был маркиз или герцог, но не пэр, он не имел права на табурет) притворялся парализованным бо́льшую часть жизни для того, чтобы иметь право сидеть перед королем. И как раз Элиас показал, что это не просто анекдотический материал, а важнейший социологический, антропологический материал, исходя из которого мы начинаем понимать механику общества. И эти детали чрезвычайно важны. Одно из достижений Элиаса как раз то, что он стал заниматься тем, чем раньше никто не занимался — абсолютно, казалось бы, банальным и никому не интересным, ничего не говорящим материалом. Он заставил его говорить.
Ирина Прохорова: Мне вспомнился рассказ одного коллеги, который некоторое время работал в среде высшей российской бюрократии. Он рассказывал внешне совершенно безумную историю о том, как чиновники грызутся, в каком кабинете сидеть, на каком расстоянии от кабинета их начальника и так далее. «Кафка отдыхает» — приблизительно так он это характеризовал. Но вот, слушая вас, я прекрасно понимаю, о чем идет речь. То есть на самом деле эти странные символические, казалось бы, мелочи имеют очень большое значение в системе внутренней иерархии: по тому, в каком ты кабинете сидишь, сразу понятен твой социальный статус и система власти. Поэтому это оказывается очень важным моментом понимания структуры функционирования самой власти.
Ксения Гусарова: Мне кажется, пример, который вы привели, одновременно и похож, и не похож на то, что происходило во Франции раннего Нового времени. Сидение в разных кабинетах в первую очередь значимо для участников этой системы, это такая внутренняя кухня, и мы, находясь вне этой системы, не знаем, какой кабинет лучше и где кто сидит, тогда как французский двор свою зрелищность достаточно рано начинает транслировать вовне. Речь идет о каких-то внешних проявлениях и жестах, об очень театрализованном, ритуализованном поведении. Это является эффектным материалом также для демонстрации власти короля, придворных, всей сложной иерархии вовне, и уже в XVII веке появляется, например, то, что исследователи считают протомодными гравюрами. Их идея модности еще совершенно не связана с нашим современным пониманием, когда мы связываем моду с идеей новизны в первую очередь, с актуальными тенденциями, которые мы улавливаем раньше других. Та модность была связана с аристократическим телом, со специфическими позами, с языком жестов, со специфическими социальными ситуациями и антуражем, в котором люди определенным образом себя ведут и предаются определенным занятиям. Не важно, во что они одеты — это может быть дама, которая только встала с кровати и одевается, но она элегантная и модная по определению, по своему месту в системе, которая, в свою очередь, кодирована тем, как она сидит, на чем она сидит и из какой чашечки она пьет кофе. Эта система внешних знаков различия и иерархии также может быть социальным театром с большей аудиторией, чем непосредственные участники системы.
Ирина Прохорова: Я вспомнила в этой связи давнюю книгу Доминики Мишель «Ватель и рождение гастрономии», где она пыталась показать, что то, что делает Ватель, один из первых профессиональных гастрономов, — это не просто вкусная и оригинальная еда. То есть выстраивается целая система церемониала подачи того или другого блюда, того, как расставлены тарелки, и это должно было символизировать ту самую абсолютную монархию с ее жесткими сословными перегородками, с приоритетами, иерархиями и так далее. Все это потом спускалось, как об этом пишут и авторы сборника, отсылая отчасти к Элиасу, на более нижние этажи при демократизации культуры, и то, что нам до сих пор говорят, что тарелка должна стоять так, сначала мы едим вот это, потом берем таким образом, — это в каком-то смысле отголоски того церемониала, которому придавалось большое символическое значение. Мне кажется, в этой связи очень интересно, как повседневность перестает быть повседневностью и становится важным фактором управления, а потом возвращается в повседневность, изменяя ее.
Мария Неклюдова: Это как раз имеет прямое отношение к тому, о чем вы говорили вначале, — к связи манер и власти. Дело в том, что эта модель создается тогда, когда власть практически не говорит с подданными. У нее, конечно, есть каналы общения, но в основном это то, о чем говорила сейчас Ксения Олеговна, — власть показывает себя. То есть любой французский прилично одетый человек со шпагой мог прийти в Версаль и посмотреть, как король обедает. Там можно было пройти по верхней галерее, поскольку торжественный обед продолжался очень долго, и люди проходили по этой верхней галерее и смотрели, как король ест. Обычай сохранился до Великой французской революции и дико раздражал Людовика XVI, который уже был человеком совершенно другого склада.
Власть видима, но она практически ничего подданным не говорит. Потому что большая часть законов и указов находится внутри бюрократии — они не сообщаются подданным. Подданные не слышат власть — они ее видят. И этот визуальный характер власти чрезвычайно важен для раннего Нового времени, и в какой-то мере пережитки этого, конечно, мы до сих пор видим и в нашей жизни. Например, властные ритуалы, которые обязательно надо видеть — это тоже чрезвычайно архаическая вещь, архаическая не в том смысле, что она уходит в глубину древности, а в политическом смысле. Та же церемония инаугурации. В принципе, необходимость показать новую власть настолько для нас привычна, что мы не видим в этом ничего особенного. Но, с другой стороны, а зачем ее видеть? Какое количество людей могут встретить президента на улице, узнать его, подойти поздороваться или пожаловаться? В этом есть символический смысл, это символическое действо — надо показать, кто власть.
Ирина Прохорова: С расцветом визуальной культуры в постмодернистском обществе, то есть в наше время, эта визуализация власти увеличивается. Потому что есть же известные свидетельства о том, что в Америке в XIX веке в лицо не знали президента, и просителям, сидящим у него, его представляли: это господин президент Соединенных Штатов. Это любопытно.
Но мне хотелось бы поговорить немножко об отечестве и о том, как происходили столкновения жизненных повседневных практик в России до и после Петра I. И целый ряд текстов в сборнике как раз говорит об этом. Мне кажется, это очень интересно, как Петр I, который прорубает окно в Европу вместо двери, пытается привить российскому обществу и своей абсолютистской монархии европейский вид, и появляется большое количество трактатов о том, как нужно себя вести. Но вот очень интересный парадокс — принципы поведения и представления о вежливости и правильности поведения в России довольно существенно отличались от европейских манер и нравов. Это очень интересно — как складывается репутация той или иной страны. Иностранцы, которые путешествуют по России в XVI, XVII, XVIII веках, постоянно упрекают россиян в грубости. Российские люди, наоборот, упрекают иностранцев, что они фигляры и лицемеры и кривляются бесконечно. Здесь налицо, конечно, столкновение разных бытовых практик и поведенческих моделей, что считать вежливым, а что считать оскорбительным. Это страшно интересно и, мне кажется, проливает свет и на многие нынешние проблемы нашего общества.
Ксения Гусарова: Взгляд иностранца — это всегда совершенно особенная ситуация, и он столько же позволяет нам узнать про тот объект, на который он направлен, сколько и не позволяет узнать, потому что это всегда встроено в политический контекст и в какие-то дискурсивные стратегии. Путешествие на восток всегда определенным образом обрамлено в западной, можно сказать, ориенталистской традиции. И, с другой стороны, есть формула, связанная с критикой чрезмерно вычурного поведения, которая тоже не является исключительно русской. Если мы посмотрим на всевозможные модные практики, они всегда или почти всегда во многих контекстах рассматриваются как что-то чужеродное и чужестранное. Понятно, что у нас это французское влияние, но примечательно, что во Франции это итальянское влияние — по крайней мере, во Франции раннего Нового времени. Чаще это французы — и в Великобритании, и в США. В США вообще европейская культура со всеми своими пороками и изъянами тем не менее через моду, потребление и невежество, как это называли в раннее Новое время, каким-то образом портит местные нравы.
Мария Неклюдова: Мы хорошо знаем то, каким образом Россия заимствует моды и, как тогда говорили злые языки, обезьянничает. Фонвизин терпеть не мог имитацию французской культуры, которую он видел в России, и вообще французскую культуру не любил — путешествуя по Франции, он очень их ругал все время.
Ирина Прохорова: Я читала его путевые заметки. Он, поехав в Европу, взял свои лучшие камзолы, расшитые невероятным золотом, приехал — а во Франции все скромно одеты. И он страшно их порицал и говорил, что ходят как нищеброды, даже знатные люди. То есть по сравнению с гиперболической пышностью русского двора французы ему казались какими-то совершенно несолидными. Очень российская черта.
Мария Неклюдова: Да, я тоже какое-то время назад это читала, и мне помнится, что у него там очень часто повторяется слово, я уже даже не помню, по-французски он писал или по-русски, слово «глупость» — вот все дурость, глупость, все не то, не по-умному сделано. И это, конечно, чрезвычайно показательно: заимствуется престижная модель, и здесь мы видим то, что предлагал Элиас, — схождение престижной модели, но уже не внутри иерархии одной страны, а распространение этой престижной модели по другим странам. И, естественно, как и при схождении по иерархии, Париж имитирует двор, провинция имитирует Париж, точно так же Петербург имитирует Париж или Берлин имитирует Париж — тут Россия абсолютно не уникальна, то же самое происходит и с германскими княжествами и королевствами. Конечно же, они получают эту престижную модель с отставанием. Французы на них глядят так, как будто это люди вышли из машины времени — приехали из прошлого, которое было 30, 40, 50 лет назад. Поэтому у французов это тоже вызывает, конечно, чрезвычайное удивление.
Но вторая вещь, которая очень интересна, и как раз в сборнике об этом есть: заимствуются ведь не только наряды, заимствуется не только то, какое количество ложек должно лежать при какой тарелке, а заимствуются определенные способы мыслить и говорить о повседневности. И это чрезвычайно важно, потому что одно дело — привезти ткань или платье, модистку из Парижа, а другое дело — начать об этом думать определенным образом. И вот образ мышления действительно во многом приходит через переводную литературу. Один из материалов, который у нас опубликован, — это замечательный перевод «Наставления девицам» Фенелона, перевод рукописный, явно сделанный для какой-то конкретной русской девицы в XVIII веке, чтобы она по Фенелону, автору еще конца XVII века, в конце XVIII века училась бы мыслить и правильно вести себя — не в том смысле, сколько реверансов делать (этому легко учили), а как вести себя морально. Потому что нравы и мораль, представления о том, как правильно делать что-то и технически, и внутренне, — это на самом деле две стороны одной медали. И неслучайно учебники хороших манер, которые в огромном количестве ходят по Европе в XVIII и XIX веках и переводятся на европейские языки, в том числе на русский, они в основном не про то, как делать, не про технологии, а про внутреннее состояние — про то, как надо себя чувствовать в тех или иных ситуациях. Это гораздо более тонкая настройка, чем чисто этикетные вещи, которые легко перенимаются. И русская ситуация, как и немецкая, и другие ситуации, представляет интерес именно в освоении и изменении внутреннего состояния. И здесь очень интересно накладываются традиции — каким образом мыслить себя внутри европейской цивилизации, как мыслить свое я? Отчасти об этом говорил еще Лотман, когда он писал о двукультурье русского дворянства XVIII века. И здесь это двукультурье, два способа представления о себе давали удивительно интересные варианты и биографических, и теоретических текстов.
Ирина Прохорова: Это правда. Меня, например, очень заинтересовала статья Ольги Кошелевой, которая называется «Воспитание вежливости». Я никогда даже об этом не думала, но, прочитав это, начинаешь это экстраполировать и на более поздние периоды. Она пишет, что коммуникативные коды речевой вежливости в допетровской Руси основывались на гораздо более жестких иерархических отношениях в обществе, чем в Западной Европе. И все бесконечно считались, кто из них выше, а кто ниже честью — в зависимости от богатства, количества душ и так далее. И, собственно, вежливость допетровской эпохи, если верить автору, — это было такое уничижительное отношение низшего по иерархии к высшему, и это не считалось унижением — это считалось вежливостью. То есть вы признаете более высокий статус.
Петр пытался с этим бороться, вводя западноевропейскую идею учтивости: люди ведут себя друг с другом так, как будто бы между ними нет различий, хотя это, конечно, социальное лицемерие, но это учтивость, которая потом становится общим модусом поведения. Но понятно, что бытовые практики не меняются быстро в связи с указами, и в данном случае еще и в конце XVIII века фиксируется, что в бытовых практиках российские люди продолжают таким образом себя вести и не очень воспринимают это западноевропейское лицемерие. И тут рождается представление о российском человеке, который прямодушен, говорит правду, а не всякие лицемерные вещи, как это делают западные люди. И эта идентификация до сих пор существует — мы такие горячие сердцем, правдивые, правду-матку режем. Мне кажется, это довольно забавно.
А что меня особенно поразило, тут не могу не зачитать: в петровскую эпоху иностранцы стали приезжать, и бывали, естественно, конфликты, порожденные разными культурными обиходами. Так вот, интересно, что в пылу ссор и конфликтов иностранцы, ругаясь, называли человека непорядочным в моральном отношении — мерзавец, обманщик, мошенник, а русские же оскорбления в основном связывались с понижением социального положения — вор, дьячишка, боярский холоп, княжишко, скот, собачий сын. И я вдруг глубоко задумалась и почему-то подумала о риторике сталинских погромных кампаний — они же строились ровно по тому же принципу: отказ в социальном статусе человеку — враг народа, собака, собаке собачья смерть и так далее. И удивительно, как эта традиция неожиданно всплывает, казалось бы, в совершенно другом политическом и культурном контексте.
Ксения Гусарова: Это то, о чем писал Элиас в «О процессе цивилизации»: мы строили, строили, строили — и все это в мгновение ока исчезает. Мы учились быть вежливыми, и в XIX веке, который мне более близок и знаком, чем раннее Новое время, тоже выходит огромное количество и переводной литературы, и русских авторов, и анонимных каких-то пособий про то, как любить друг друга (или, по крайней мере, старательно делать вид) и как быть приятным в обществе и ко всем хорошо относиться. И до какой-то степени это действительно проникает в оборот, но очень быстро исчезает. Еще, что касается XIX века, мне кажется очень любопытным, что таким устойчивым тропом в прозападной российской публицистике является идея переодетого человека, который внутренне остался таким же — что вот на нем сейчас этот камзол, а внутри все равно он не дотягивает до этого стандарта. У Белинского можно прочитать много такого, и вообще это становится очень устойчивой фигурой: некая раба в сарафане, которой продолжает быть русская женщина со своими кринолинами.
Ирина Прохорова: Я хотела спросить про ХХ век и про XXI век — о роли медиа в закреплении поведенческих стереотипов, идеалов и кодов, о пропагандировании определенного типа коммуникации. Мне кажется, это очень важный момент, Ксения, вы об этом много пишете и писали — о том, как медиа представляют поведенческие идеалы, и о том, насколько они достижимы или недостижимы. Мне кажется, как раз вот здесь и возникает то, о чем пишут сейчас многие психологи, социологи, политики, — эта идеальная картинка, которую дают медиа, настолько не совпадает с реальностью, что это порождает большое количество стрессов и фрустрации.
Ксения Гусарова: Здесь есть несколько очень интересных линий. Одна связана с историей презентации себя другим — как она тоже из элитарного и статусного признака становится более общедоступным элементом, в частности, как она становится элементом студийных фотографических портретов. Когда возможность иметь свой портрет тоже перестает быть чем-то очень элитарным, дорогим, редким и уникальным, фотографические портреты и карточки приходят в самые разные дома и семьи, и эти групповые и индивидуальные портреты выстраиваются по определенному канону. И часто фотограф, особенно на ранних этапах, как бы лепит тело модели, особенно если это люди, не имевшие прежде фотографического опыта. И интересно, как идея аристократического тела таким образом демократизируется, но тоже, конечно, теряет что-то или видоизменяется по ходу. Один из самых ярких примеров такого изменения значения — это поза с рукой на бедре, которая в раннее Новое время была знаком мужественности: она такая геометричная, и человек занимает больше места физически собой, тогда как сейчас это становится атрибутом женственности — это такая поза звезды на красной ковровой дорожке.
Почему, как я говорила, Элиас так меня вдохновляет? С одной стороны, идея контроля и репрессий — конечно, мы себя все время пытаемся привести в соответствие с какими-то канонами, которые абсолютно иллюзорны и существуют только в виртуальной реальности, только на поверхности фотографий или на экране. Или уже не пытаемся, но молча страдаем. Но, с другой стороны, меня очень беспокоит, может быть, даже еще больше, та идея реальности, с которой мы имеем дело. Потому что, например, вот эта вот конструкция «инстаграм и реальность», с которой мы очень часто сейчас сталкиваемся, все что угодно в нее может поместиться, но, если говорить о позировании, которому посвящена моя статья в сборнике «Укрощение повседневности», фотография с неудачного ракурса называется реальностью, а фотография с такого более фотогеничного ракурса называется чем-то нереальным. Почему мы закрепляем значение реальности за фотографией, которая с точки зрения устоявшихся канонов демонстрирует что-то менее лестное для сфотографированного человека? Мне кажется, такая негативная идея реальности сама по себе любопытна и заслуживает дополнительного размышления. Потому что очень часто идея нереалистичных стандартов оборачивается против самих женщин, которые испытывают предположительно более сильное давление, но также на них возлагается вина за то, что они как-то хитрят, жульничают, и вообще все это из-за них — благодаря им поддерживается эта система, а взять бы ее и выкинуть. На самом деле, конечно, здесь все сложнее, и эта гендерная динамика мне кажется тоже очень важной.
Ирина Прохорова: Я сейчас вспомнила, как в XVIII веке какой-то обезумевший парламентарий, пэр, пытался протащить в английском парламенте закон о возможности развода, если жена обманула мужа в девичестве. То есть, грубо говоря, подкладывала себе под бюст что-то, и казалось, что у нее бюст больше, — короче говоря, очаровывала его ложными красотами, а потом человек женился и выяснилось, что она не такая. Конечно, билль этот не прошел, но это показательно.
Ксения Гусарова: Да и сейчас возникают подобные ситуации: в Китае был случай относительно недавно, когда прекрасная китайская женщина родила своему мужу, по его мнению, невероятно уродливого ребенка, и он стал подозревать ее, и выяснилось, что она действительно делала пластические операции. То есть эта логика очень жива, и то, что мы можем назвать дикостью применительно к XVIII веку, на самом деле нас постоянно окружает: что можно, а что нельзя, как женщина должна выглядеть, но при этом это должно происходить само собой — это должно быть или естественно, или никак.
Ирина Прохорова: Нет ничего более искусственного, чем понятие естественности, это давно известно. Я недавно читала текст о том, что с появлением фотографии фотографы усиленно ретушировали, чтобы сделать талию женщин тоньше. И когда мы смотрим на эти фотографии и не знаем реальности, кажется, что действительно женщины имели осиные талии, а на самом деле в большинстве случаев и корсеты не могли сделать такое. Поэтому искусство обмана — это прекрасно, и это становится интересным маркером попытки человека соответствовать тем требованиям, которые общество предъявляет.
Мария Неклюдова: Я хотела как раз продолжить тему естественности и искусственности, потому что, опять-таки, она возвращает нас к Элиасу, который показал, что эти категории все время меняются местами. И когда мы говорим о XVII веке, то естественность была наделена отрицательным значением и ценилось именно искусственное, потому что искусственное — это искусство, это укрощение своей животной природы и превращение себя в творение рук человека, то есть самого себя. И в этом смысле естественность — полуживотное состояние. В то время как в XVIII веке, конечно, происходит перелом, отчасти связанный с именем Руссо, но не ограничивающийся Руссо, когда, наоборот, преодоление себя и контроль над собой начинает восприниматься как нечто негативное. То, о чем вы говорили, что русские естественные, искренние, а европейцы цивилизованны, они притворщики, они искусственные, это вполне руссоистская на самом деле вещь, которая сохраняется в остаточном виде в современной культуре. Куски этих моделей продолжают прекрасно жить, и, более того, они прекрасно возвращаются. Это, мне кажется, самый показательный урок этого сборника — то, что мы проходим от XVI века до XXI и видим, как модели повторяются, они возвращаются на новом этапе или составляют новый бриколаж.