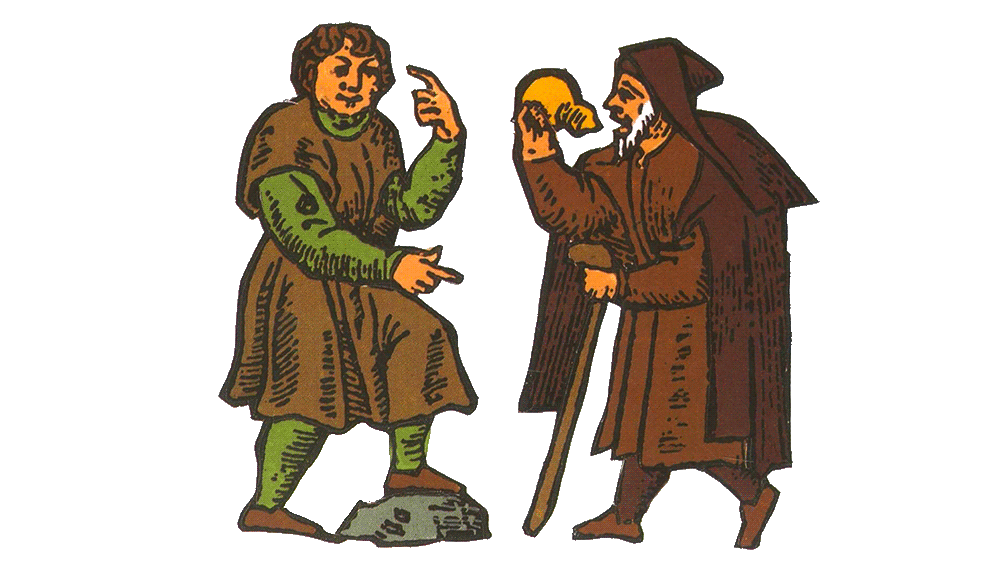«Дон Кихот не alter ego Сервантеса»
Научная биография филолога Светланы Пискуновой. Часть первая
Вы специалист по испанской литературе, но при этом немало писали и о русских авторах. Как бы вы в целом охарактеризовали сферу ваших научных интересов?
 «Моя жизнь в науке», как именовалась книга какого-то крупного ученого о себе, в моем случае не очень удобный предмет для разговора. Я свои жизни, в том числе и научные, прожила в разных «художественных мирах» (мем, проникший в обиход филологии и литературной критики 1960-х годов, если не ошибаюсь, со страниц книг Д. С. Лихачева). В далеких — но это на первый взгляд! — друг от друга областях гуманитарного знания, увлекаясь разными филологическими сюжетами, творчеством разных писателей, хотя серьезных «романов» у меня было немного. Дон Мигель (де Сервантес), дон Диего Уртадо (де Мендоса — один из недавних), Андрей Белый... Целый год был Федерико Гарсиа Лорка, всю жизнь — Пушкин (когда в начале 2000-х годов на Пушкинском семинаре в ИМЛИ, которым руководил В. С. Непомнящий, я сделала пару докладов, Валентин Семенович приватно мне сказал: «Да бросайте вы своего Сервантеса! Займитесь Пушкиным!». Бросить не получилось, но слова В. С. меня, уже немолодого филолога, очень вдохновили. Ведь не с каждым из тех, о ком пишешь, входишь в особый, личный контакт. Тот, что за пределами всяких научных биографий).
«Моя жизнь в науке», как именовалась книга какого-то крупного ученого о себе, в моем случае не очень удобный предмет для разговора. Я свои жизни, в том числе и научные, прожила в разных «художественных мирах» (мем, проникший в обиход филологии и литературной критики 1960-х годов, если не ошибаюсь, со страниц книг Д. С. Лихачева). В далеких — но это на первый взгляд! — друг от друга областях гуманитарного знания, увлекаясь разными филологическими сюжетами, творчеством разных писателей, хотя серьезных «романов» у меня было немного. Дон Мигель (де Сервантес), дон Диего Уртадо (де Мендоса — один из недавних), Андрей Белый... Целый год был Федерико Гарсиа Лорка, всю жизнь — Пушкин (когда в начале 2000-х годов на Пушкинском семинаре в ИМЛИ, которым руководил В. С. Непомнящий, я сделала пару докладов, Валентин Семенович приватно мне сказал: «Да бросайте вы своего Сервантеса! Займитесь Пушкиным!». Бросить не получилось, но слова В. С. меня, уже немолодого филолога, очень вдохновили. Ведь не с каждым из тех, о ком пишешь, входишь в особый, личный контакт. Тот, что за пределами всяких научных биографий).
Я предпочитаю сюжеты «парить» (любимое словечко Андрея Белого): «Дон Кихота» и «Евгения Онегина», «Назидательные новеллы» и «Повести Белкина», Сервантеса и Диего Уртадо де Мендосу, «Ласарильо» (его, я уверена почти на сто процентов, написал именно Мендоса) и «Москву-Петушки».
Так что могу назвать себя испанистом, русистом, в какой-то мере компаративистом, хотя то направление в филологии, которое я избрала для себя еще на втором курсе филологического факультета МГУ (это был 1965–1966 год) — историческая поэтика — компаративистикой в строгом смысле слова не является: можно работать в этой области, не выходя за пределы одной национальной традиции (пример — классическая работа И. П. Смирнова о сказочном прообразе «Капитанской дочки»). Но, конечно, как правило, исследование в области исторической поэтики обязывает привлекать материал из разных национальных литературных традиций и эпох, включая и долитературные. Моя последняя книга, «От Пушкина до „Пушкинского дома”. Очерки исторической поэтики русского романа», вышедшая в 2013 году в издательстве «Языки славянских культур», посвящена русскому роману XIX–XX веков, рассмотренному в контексте формирования и развития романа западноевропейского, от Сервантеса (даже раньше — от романов о святом Граале) и до Марселя Пруста и Андрея Битова.
Кроме того, я писала статьи о португальской и латиноамериканской литературах и даже руководила кандидатскими диссертациями по этим специализациям. Я читала курсы истории зарубежной литературы от Средних веков до конца XVIII века в МГУ, а в Университете штата Айовы осенью 2001 года — курс о «Дон Кихоте» (тогда я была уже признанный в глобальной сервантистике специалист), а также курс «Человек на земле в русской литературе XIX–XX веков»: начинала с Глеба Успенского и успела дойти до Есенина. Не помню имени, но помню облик студента — сына фермера с севера Айовы. Это был большой неуклюжий широколицый парень, который влюбился в те стихотворения Есенина, которые мы успели прочесть (по-русски!) и мечтал доучить русский и прочесть Есенина всего. Кихотизм! Но, поверьте, это дорогого стоило. Где он теперь?..
И все же я предпочла бы говорить о себе в первую очередь как о «литераторе» — именно так и, по-моему, очень точно, аттестовал себя один из моих университетских наставников, Владимир Николаевич Турбин. Жизнь и биография «литератора» шире, чем «научная биография». Вплоть до начала 1990-х годов я была и литературным критиком. Более того, именно с газетной рецензии и начался мой «литераторский» (и филологический?) путь в марте 1966 года, когда по инициативе Владимира Николаевича я написала для газеты «Московский комсомолец», бывшей тогда одним из центров московской литературной жизни, свою первую рецензию (значительно позднее я поняла всю дерзость содеянного!) на только-только вышедшую в «Художественной литературе» книгу Михаила Бахтина о творчестве Франсуа Рабле. Это была первая рецензия на «Рабле», появившаяся в мировой прессе! Потом в течение двух лет я работала в «Комсомольце», ухитряясь согласовывать работу в газете с учебой на филфаке, с сочинением курсовых работ по испанской литературе под руководством Константина Валериановича Цуринова. И до сих пор для меня главное — живое, звучащее, «газетное» (как было во времена молодости Чехова!) слово, хотя сегодня, конечно, многое кардинально переменилось. Как я не люблю филологическую «жвачку» и гладкопись: они господствовали в книгах и статьях историков литературы — что русской, что зарубежной — времен моей молодости и продолжают доныне царить на страницах специализированных журналов и диссертаций, создающихся по некоему фараоновскому, то бишь ваковскому стандарту бальзамирования речи убиенного автора. А ведь одно из назначений филологии — культивировать «наслаждение от чтения» (Ролан Барт). В так называемой научной статье достичь этой цели труднее всего. К тому же опубликованная в безлико-обобщенных «Вестниках...», «Записках», «Трудах...», она даже твоему коллеге не всегда на глаза попадется (конечно, если этот коллега в пределах твоей ойкумены вообще существует). А кто в современной России занимается творчеством Сервантеса? Пять-шесть человек, преимущественно питерцы (В. Е. Багно, К. А. Корконосенко, А. Ю. Миролюбова). Мне трудно судить, есть ли читатели у трех моих опубликованных книг. Ни в каких РИНЦах мое имя не значится, поскольку ни к каким институциям я последние шесть лет, после ухода на пенсию из МГУ «по собственному желанию», не приписана. Но у меня такое ощущение, что на меня чаще ссылаются те, кто занимается, скажем, творчеством Евгения Замятина, хотя о Замятине я написала только одну (правда, и мне самой нравящуюся) статью, в которой отыскала истоки романной формы, избранной автором «Мы», в эллинистическом романе (спасибо Ирине Протопоповой, вдохновившей меня своей книгой!). Но тех, кто пишет о Замятине, проводит школьные уроки о романе «Мы», читает лекции о русских антиутопиях значительно больше, чем тех, кто отдает себе отчет в том, что первой антиутопией в литературе Нового времени был роман Сервантеса «Дон Кихот».
Насколько я понимаю, Сервантесом вы начали заниматься на раннем этапе вашей творческой деятельности?
Биография писателя, литератора, филолога — это уже из разряда моих «научно-филологических», историко-литературных наблюдений, — лишь очень условно делится на периоды и может рассматриваться в каком-то связном эволюционном развитии. Жизнь (и история) построена на повторах и возвращениях. В ней есть сквозные, развивающиеся параллельно или друг друга перебивающие темы. Главной из них для меня как филолога стала судьба романа и творчество Мигеля де Сервантеса, создавшего (я при этом убеждении остаюсь!) первый европейский роман Нового времени. Моя первая курсовая работа, написанная в 1965–1966 учебном году была посвящена дебютному роману будущего создателя «Дон Кихота» — «Галатее» (1585). И моей первой серьезной статьей, адресованной широкому, как тогда говорили, читателю (а на самом деле читателю грамотному, читавшему и любившему предисловия и комментарии к книгам — и таких, вовсе не ученых-специалистов, в СССР в 1960–1980-е годы было немало!), стало предисловие к изданию «Галатеи» в переводе Е. Н. и Н. М. Любимовых, осуществленному издательством «Художественная литература» в 1973 году. «Галатее» была посвящена и глава моей кандидатской диссертации — «„Высокие” жанры прозы Сервантеса», защищенной в МГУ в 1978 году. И когда летом 2005 года, после трагической гибели мужа, Владимира Максимовича Пискунова, не зная, как сконцентрироваться на жизни, я решила собрать написанное мной в области испанистики и португалистики в книгу, то включила в нее и «худлитовское» предисловие. Благодаря содействию С. Я. Левит эту книгу удалось издать как учебное пособие в «Высшей школе» в 2009 году, под придуманным на ходу редактором «скучнейшим» наименованием «Испанская и португальская литература XII–XIX веков» (однако именно благодаря этой книге я получила звание профессора МГУ, с коим продолжаю жить, потеряв должность).

«Галатея» в моих исследованиях тесно связана с «Дон Кихотом», с решающей, на мой взгляд, ролью пасторального романа в генезисе романа Нового времени, особенно той его разновидности, которая именуется «роман сознания» (долгое время, вплоть до 1970-х годов, даже серьезные критики, и не только в России, считали пасторальные эпизоды в «Дон Кихоте» «лишними», сочиненными Сервантесом как дань литературной моде).
И вот теперь, работая над подготовкой научного издания «Назидательных новелл» Сервантеса, я вновь возвращаюсь к «Галатее», а также к «Персилесу» («Странствиям Персилеса и Сихизмунды») — последнему роману Сервантеса, который вместе с «Галатеей» и так называемыми высокими новеллами был предметом моей кандидатской диссертации. Найти бы силы и возможность подготовить и эти, переведенные на русский язык Любимовыми, но лишь единожды издававшиеся романы (об издании «Галатеи» я сказала, а что касается «Персилеса», то он был единожды опубликован в известном «огоньковском» собрании сочинений Сервантеса 1961 (!) года).
К вопросу о «Литературных памятниках»: в прошлом году издательство «Ладомир» выпустило «Книгу о Ласаро де Тормес», над которой вы работали.
Да, в прошлом году вышло издание повести «Жизнь Ласарильо с Тормеса» и ее продолжений. «Ласарильо» очень повлиял на создателя «Дон Кихота»: глубоко спрятанная авторская ирония, двойственное отношение автора к герою, которому предоставлено право самому рассказывать о своей жизни, хотя он, казалось бы, ничем этого не заслужил, вовлечение читателя в процесс создания великого художественного произведения, в которое в процессе читательского восприятия превращается письмо-исповедь толедского городского глашатая Ласаро некоему важному лицу. Одновременно «Ласарильо» — это и прообраз испанского плутовского романа, в полемике с которым рождался роман Сервантеса, то есть произведение для истории новоевропейского романа во всех смыслах ключевое.
Издательство «Ладомир» — тот «плотик», на котором как-то держится моя деятельность как филолога-испаниста последние годы. Правда, останься я в МГУ, никогда бы не сделала того, что успела за последние годы сделать — в частности, написать ряд работ о «Дон Кихоте» и подготовить книгу, «Дон Кихоту» посвященную. Меня радует и новая редакция моего комментария к «Дон Кихоту», подготовленного мной в 2005 году для издания перевода Н. М. Любимова в издательстве «Эксмо» (первая версия, довольно сильно изуродованная редактором и приспособленная к другому переводу, была опубликована в известном «коллективном» переводе романа в серии «Литературные памятники» в 2003-м). Теперь отредактированный комментарий сопровождает перевод Н. М. Любимова в иллюстрированном издании романа («Речь», СПб., 2017).
И сейчас вы продолжаете работать с «Ладомиром»?
Я готовлю для них «Назидательные новеллы» Сервантеса, это одна из самых личных его книг. Как автор «Дон Кихота» он предпочитал театрализованно-игровое общение с читателем, прячась за фигурами «подставных» авторов, иронически дистанцируясь от изображаемого... Дон Кихот ни в коей мере не alter ego автора и даже не его «сын», а скорее «пасынок». «Новеллы» — другое. Они открывают цикл произведений, созданных Сервантесом в последние шесть-семь лет жизни (а это большая часть им написанного! Сюда входят и вторая часть «Дон Кихота», и «Персилес»). Поэтому мне пришлось попытаться вникнуть в загадочную биографию Сервантеса, которая в массовом сознании подменена мифологизированными штампами: «герой битвы при Лепанто», «пиратский плен» и «написал „Дон Кихота” в тюрьме»... Хотя начинала я свою филологическую жизнь в твердом убеждении, что истинная история литературы — это «литература без имен», знаменитый формалистический принцип, который я по сей день ставлю выше разного рода байопиков. Но иногда биографический факт может служить самым убедительным пояснением того или иного фрагмента текста, который — текст! — остается единственным и главным объектом филологического анализа.
А если вернуться к подлинной филологии (хотя, повторюсь, настоящая критика — это тоже филология!), то постепенно приходишь к трезвому выводу: я могу отнести себя к довольно многочисленному в мировом масштабе сообществу сервантистов по одной простой примете — я, в общем и в целом, в курсе того, что в мировой сервантистике происходило за два с лишним века ее существования и что происходит сейчас, кто есть кто и что пишет и публикует.
Из того, что вы рассказываете, складывается вполне цельная научная биография.
Это потому, что я многое опускаю. Полноценная «научная биография» в России, как это было и в СССР, в отличие от всего остального мира, могла быть — и это мое глубокое убеждение — только у сотрудника академического учреждения, то есть института, входящего в систему Академии наук или какого-то иного ведомства: министерства культуры (если речь идет о гуманитарной сфере), творческого союза, скажем, Академии художеств... Конечно, занятия наукой можно и даже нужно было соединять с преподавательской работой (а это именно мой случай, сорок лет педагогического стажа), но, как это всегда бывает в жизни, одно из соединяемых частично приносится в жертву. Сравните время, которое преподаватель и научный сотрудник могут посвятить науке, если не брать во внимание особые случаи, когда сложившийся ученый может и хочет уделить какое-то время общению с молодежью, прочитать одну-две лекции в неделю, провести консультацию или семинарское занятие. Он сам от общения со слушателями заряжается энергией. Но преподаватель, ежедневно вовлеченный в поток учебного процесса, на краю которого он должен выкраивать время для разработки какой-то научной темы? Нет, в такой ситуации «научная биография» не сложится (редкие исключения, которые можно назвать, лишь подтверждают правило).

После окончания аспирантуры по кафедре истории зарубежной литературы я начала работать — преподавать — и занималась этим, как я уже говорила, практически всю жизнь. Цуринов устроил меня на работу в тогдашний ВИИЯ (Военный институт иностранных языков — ныне Военный университет), где я проработала восемь лет, читая курсы всех основных западных литератур, кроме англоязычных, а также общий курс по зарубежной литературе XX века, где были уже и английская, и американская литературы... В результате я наконец досконально изучила все, что на филологическом факультете МГУ изучали в общих курсах бегло или вообще не изучали и не изучают (связных курсов национальных литератур там нет, а были и есть только спецкурсы). Я подготовила (как уж могла) курс истории португальской литературы, но решительно отказалась от курса литературы «государства Израиль» (это 1970-е годы!), отговорившись тем, что не знаю языка. При этом я не забывала и испанистику.
Сегодня я сотрудничаю с «Ладомиром». Но и в начале моей околонаучной биографии были издательства, в которых мне давали работу. Балансируя на двух таких издательствах-«плотиках», я сохраняла верность избранной в университете специальности.
Одним из таких издательств была уже упомянутая «Художественная литература», в которой существовала редакция литератур Испании и Латинской Америки. Ее возглавлял известный переводчик В. Столбов — тот самый, который вместе с женой Н. Бутыриной открыл для русского читателя роман Маркеса «Сто лет одиночества». Через редакцию Столбова проходили также испано- и португалоязычные тома знаменитой БВЛ — «Библиотеки всемирной литературы». И мне тут же предложили сделать комментарий к тому «Плутовской роман» (в него, кроме испанских пикаресок, входил и английский роман Т. Нэша о Джеке Уилтоне). При этом объем комментария особенно не ограничивали и предложили написать еще и статейки-преамбулы к отдельным текстам. Я комментировала «Жизнь Ласарильо с Тормеса» и «Бускона» Ф. де Кеведо, а также Нэша (все же у меня за плечами, кроме филфака, была лучшая по тем временам специальная английская школа № 1 в Сокольниках, а всего таких школ на Москву было две). «Хромого беса» Л. Велеса де Гевары комментировала переводчик Евгения Михайловна Лысенко, жена Леонида Ефимовича Пинского. Это была моя первая, пока заочная, встреча с замечательнейшим переводчиком и человеком, в дальнейшем — одним из моих ангелов-водителей, которых посылала судьба. Но это было и первое мое научное соприкосновение с важным для всякого занимающегося историей романа жанром — пикареской, к которому Сервантес относился весьма сложно. Но (я уже об этом упомянула) без полемики с романом Матео Алемана «Гусман де Альфараче» — классическим образцом жанра — он не написал бы «Дон Кихота». Правда, в том БВЛ «Гусман де Альфараче» не вошел (не мог войти в него просто из-за своего объема!), хотя уже существовал его перевод, сделанный Е. М. Лысенко и Н. Поляк, изданный в «Художественной литературе» в 1963 году с блистательным предисловием Л. Е. Пинского. В нем было и точнейшее определение смеха Алемана — «барочный злоречивый антикарнавал».
Как я понимаю, для не допущенного до вузовской работы Леонида Ефимовича «Художественная литература» была также спасительным пристанищем. В «Худлите» в 1961 году вышла и его первая книга, сейчас ставшая классической и недавно переизданная Центром Гуманитарных Инициатив, — «Реализм эпохи Возрождения». Поэтому Пинскому и дали на внутреннюю рецензию книгу саранского профессора Михаила Бахтина «Творчество Франсуа Рабле...». Хотя, думаю, редакторы знали, что с Бахтиным Пинские были уже знакомы, и в Саранск уже съездили. Так уж получилось, что начинала я как «литератор» с рецензии на книгу Бахтина, а в очень драматичный для меня период жизни (конец 1990-х годов) по просьбе Е. М. Лысенко и при поддержке Г. А. Белой написала большое послесловие к трудам Леонида Ефимовича, опубликованным в РГГУ (2000).
Так что «Книга о Ласаро», вышедшая в ЛП в прошлом году, восходит к моим изысканиям тех дней. Конечно, многое пришлось уточнить и просто исправить, в том числе и обидные ошибки в комментариях. Потом был томик лирики Луиса де Гонгоры (1975), работая над которым я прониклась духом эстетики барокко (в университете это была тема почти запретная), том БВЛ, посвященный испанскому роману XX века, где я комментировала роман М. де Унамуно «Туман» в переводе А. Б. Грибанова и «Тирана Бандераса» Валье-Инклана... Предисловие к нему писала Инна Арташесовна Тертерян — и это была еще одна важнейшая для меня встреча: Инна Арташесовна — ведущий сотрудник ИМЛИ, почетный член-корреспондент Испанской Королевской академии, знаток испанской и латиноамериканских литератур XX века (в том числе и бразильской) — стала моей старшей подругой-наставницей, проводником в мир академической испанистики, советником по жизни.
Очень красивая, сильная, необыкновенно умная, умевшая разглядеть во всех «прелестях», которые дарила человеку советская действительность комическую изнанку, найти компромиссный выход из, казалось бы, немыслимых ситуаций и в то же время, когда было нужно, очень принципиальная... Героическая женщина, несколько лет сражавшаяся со страшной болезнью и ушедшая из жизни совсем молодой. Остались ее книги. Остался сын, Сергей Леонидович Козлов, вокруг которого в Инниных рассказах все время роились имена его друзей — М. Ямпольский, А. Немзер, А. Зорин, О. Проскурин, А. Песков (увы, также очень рано умерший).
Если бы Инна Арташесовна не ушла так рано, то и в российской испанистике, уверена, все было бы по-другому. Этот тот случай, когда человек оказался незаменимым для целой области научного знания.
А что бы вы могли назвать своим главным испанистским достижением тех лет?
Могу похвастаться: в конце 1970-х годов я подготовила сборник пьес Педро Кальдерона на испанском языке для другого тогдашнего издательства, «Радуги» (изначально оно называлось «Прогрессом»). Он вышел в юбилейный год, в честь трехсотлетия со дня смерти драматурга (1600–1680), значительно меньше известного в России, чем в других европейских странах. Позднее, листая в одной из испанских библиотек известный касселевский двухтомник работ о Кальдероне, вышедший уже к другому кальдероновскому юбилею — четырехсотлетию со дня рождения, — я натолкнулась на статью «Кальдерон в России», где прочитала о том, что наконец-то в СССР вышли пьесы Кальдерона на испанском языке» с предисловием С. Ереминой (это была, кажется, моя последняя публикация под девичьей фамилией), которая пишет о драматурге, будучи в курсе основных достижений мировой кальдеронистики.