«Дойти до самой сути»: как устроены темные стихи Пастернака
Интервью с филологом Татьяной Красильниковой
— Как возник ваш интерес к поэтическому творчеству Пастернака и почему вы решили написать о нем книгу?
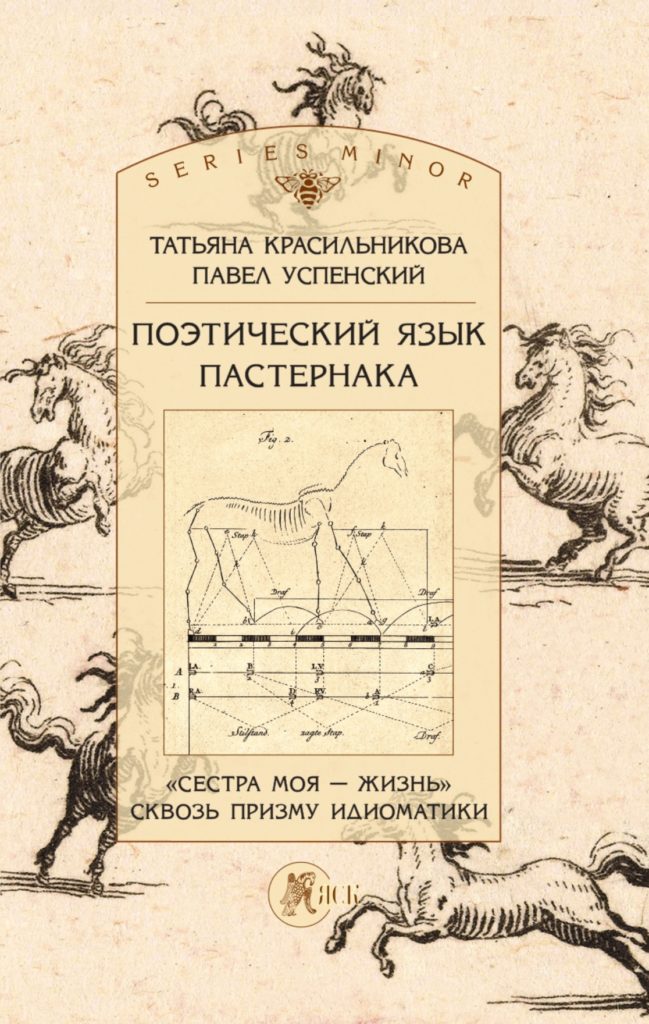 — Всегда интересно смотреть на то, какие новые пути ищет язык поэзии, когда ощущает нехватку в себе самом, когда ему уже недостаточно того, что было придумано раньше. Конечно, поэтический язык все время обновляется, постоянно сдвигается, но есть периоды, в которые происходит настоящий языковой взрыв — по крайней мере, так ощущается, хотя понятно, что за любой революцией всегда стоит большая и сложная подготовительная работа. Таким феноменом для русской поэзии стал, например, темный модернизм. Мой соавтор, Павел Успенский, вместе с Вероникой Файнберг написал книгу про то, какой инструментарий использовал Осип Мандельштам, чтобы создать свой поэтический язык (на «Горьком» выходило их интервью). Помимо этой темы они затронули много других, включая слабости интертекстуального метода, восприятие сложных метафор в читательском сознании, компенсаторную функцию работы с идиоматикой и эволюцию модернизма. Нам показалось, что идиоматика — очень продуктивная оптика не только для Мандельштама, но и для других поэтов (об этом Павел и Вероника тоже пишут, но уже не так подробно). В этой перспективе стало интересно обратиться к еще одной бесспорно крупной и важной фигуре — Пастернаку. О нем, конечно, написано очень много, и много хорошего. Но от исследовательской литературы, посвященной вершине его раннего периода, книге «Сестра моя — жизнь», все равно исходит ощущение недостаточности, все равно не хватает ясности. Наверное, такое чувство и должно оставаться от любых сложно устроенных и глубоких текстов, пусть и тщательно изученных, но все-таки хочется дойти, что ли, «до самой сути», как писал Пастернак.
— Всегда интересно смотреть на то, какие новые пути ищет язык поэзии, когда ощущает нехватку в себе самом, когда ему уже недостаточно того, что было придумано раньше. Конечно, поэтический язык все время обновляется, постоянно сдвигается, но есть периоды, в которые происходит настоящий языковой взрыв — по крайней мере, так ощущается, хотя понятно, что за любой революцией всегда стоит большая и сложная подготовительная работа. Таким феноменом для русской поэзии стал, например, темный модернизм. Мой соавтор, Павел Успенский, вместе с Вероникой Файнберг написал книгу про то, какой инструментарий использовал Осип Мандельштам, чтобы создать свой поэтический язык (на «Горьком» выходило их интервью). Помимо этой темы они затронули много других, включая слабости интертекстуального метода, восприятие сложных метафор в читательском сознании, компенсаторную функцию работы с идиоматикой и эволюцию модернизма. Нам показалось, что идиоматика — очень продуктивная оптика не только для Мандельштама, но и для других поэтов (об этом Павел и Вероника тоже пишут, но уже не так подробно). В этой перспективе стало интересно обратиться к еще одной бесспорно крупной и важной фигуре — Пастернаку. О нем, конечно, написано очень много, и много хорошего. Но от исследовательской литературы, посвященной вершине его раннего периода, книге «Сестра моя — жизнь», все равно исходит ощущение недостаточности, все равно не хватает ясности. Наверное, такое чувство и должно оставаться от любых сложно устроенных и глубоких текстов, пусть и тщательно изученных, но все-таки хочется дойти, что ли, «до самой сути», как писал Пастернак.
Движимые этим исследовательским азартом, мы с Павлом решили посмотреть на Пастернака как на поэта, который в начале своего пути был очень сфокусирован на пересоздании существующего языка, но при этом не ломал его радикально. Это важный критерий для нашего взгляда: такой язык, с одной стороны, на поверхностном уровне не слишком ясен, написанные на нем стихотворения сложно сходу взять и пересказать, для этого скорее нужно приложить особое усилие, как это сделали Михаил Гаспаров и Ирина Подгаецкая в книге «„Сестра моя — жизнь” Бориса Пастернака. Сверка понимания», «сверившие» свое понимание стихов с пониманием, предложенным американской исследовательницей Кэтрин О’Коннор. Но с другой стороны, и это не менее значимо, даже темные стихи все-таки читает довольно широкая аудитория и как-то их понимает, даже если не вооружена узкоспециальным филологическим знанием и не знакома со всем «пастернаковедческим каноном». Получается, язык этих стихов содержит что-то такое, что отзывается на, может быть, подсознательном уровне, подсказывает какие-то смыслы, путем ассоциаций к чему-то приводит. И эти языковые механизмы, заложенные в фундамент лаборатории смыслопорождения у Пастернака, мы и решили изучить.
Дополнительно интересно отметить, что и впоследствии, в эволюционной перспективе, подобная языковая работа у Пастернака никуда не уйдет, но качество ее изменится. Ко времени создания книги «Когда разгуляется» совсем сложные механизмы отпадут как, видимо, уже опробованные поэтом и больше не отвечающие его требованиям к искусству, его идеям, ну и, естественно, ожиданиям «сверху». Вместо этого Пастернак сделает ставку на языковую экспрессию и иногда поражающую («неслыханную», как он сформулировал еще во «Втором рождении») простоту, но его «идиоматический резервуар» останется прежним, как и при написании ранних текстов.
— Раз уж прозвучала фамилия Мандельштама и мы вспомнили монографию Павла и Вероники о его творчестве, хочется задать вопрос: Лотман в работе «Мандельштам и Пастернак (попытка контрастивной поэтики)» противопоставлял этих поэтов по целому ряду признаков организации поэтической семантики. Согласны ли вы с его высказыванием о том, что «доминанты их творчества диаметрально противоположны друг другу»?
— Думаю, тут важно понимать следующее: в любой паре оппозиционных явлений, которые часто возникают в культуре, есть не только то, что их различает, но и то, что способствует сопоставлению — у двух полюсов должна быть общая планета. Взять, например, пару Толстой и Достоевский: их объединяет и эпоха, и объем романов, и то, что это крупные общественные фигуры, и такая что ли «мессинская претензия», связанная с размахом их мысли. И при этом за счет общего набора свойств между ними все время хочется провести границу, развести их по разным сторонам, наклеить на каждого флажки: у этого авторский взгляд такой-то, у этого — такой-то, у этого герои такие-то, у этого — такие-то, и тому подобное.
Так же и в случае с Пастернаком и Мандельштамом: если бы у них не было чего-то общего, их никогда бы не сравнивали как двух контрастирующих поэтов. Для нас с Павлом их главная общая черта — установка на переизобретение языка, о которой Павел и Вероника пишут в связи с Мандельштамом, а мы — в связи с Пастернаком. Переизобретение, не подразумевающее, повторюсь, радикального слома на всех лингвистических уровнях, как у футуристов, но оставляющее ощущение темноты у широкого круга читателей, которые интуитивно понимают эти стихи. Но, конечно, между двумя поэтами есть и различия — о них, в частности, и пишет Лотман. В нашей перспективе отличительной чертой Пастернака стали многочисленные идиоматические дублеты. Идея о том, что Пастернак там, где можно сказать один раз, говорит два раза или больше, как бы дополняя и исправляя на ходу сказанное, не нова — тот же Лотман ее хорошо описал, как и лингвисты, специально занимавшиеся языком Пастернака. Но мы показываем, что подобное дублирование происходит не только на поверхности, например на синтаксическом уровне, но одновременно и на уровне глубинной трансформации языка.
— О Пастернаке написано очень много, можно даже сказать, что он любимый поэт профессиональной, филологической аудитории. Какова, на ваш взгляд, причина? Чем можно объяснить подобную субкультурную популярность?
— Пастернак написал очень много и писал довольно долго, по крайней мере, дольше многих других поэтов печального XX века. Но главное — он писал разносторонне, пытаясь освоить, казалось бы, противоположные грани словесного искусства, которые у него все равно стремятся к объединяющему началу. Его темные стихи запутанны, поэтому их нередко пытались распутать, пересказывали (например, Гаспаров и Подгаецкая в уже упомянутой книге вслед за О’Коннор провели действительно интересный эксперимент по переводу пастернаковского поэтического языка на язык прозы). Кроме того, у Пастернака было, как бы сейчас это в шутку назвали, guilty pleasure — все время переписывать старые тексты. Филологическая игра «найди отличия» занимательна не только с точки зрения когнитивной гимнастики, но и многое может сказать об изменившихся за, скажем, пятнадцать лет литературных вкусах как самого Пастернака, так и эпохи в целом (по этой теме у М. Л. Гаспарова и К. М. Поливанова есть книга о первом сборнике Пастернака «Близнец в тучах» и о позднейших переделках этих стихотворений). В текстах «Второго рождения» интересно наблюдать за тем, как работают различные дискурсы в условиях тесноты стихового ряда, как Пастернак находит стилистические решения, совершая постепенное движение к языковой простоте (об этом и о другом много писал, в частности, Александр Жолковский). В связи с поздними книгами, помимо прочего, чрезвычайно увлекательно рассуждать о каноничности и популярности стихотворений с точки зрения социологии литературы. Об историческом контексте тоже подробно и увлекательно писали (можно вспомнить хрестоматийные работы Лазаря Флейшмана).
Наконец, язык Пастернака стал благодатной почвой для лингвистических исследований. Мы нашли довольно много работ технического характера, написанных с целью получить сугубо лингвистические выводы — например, как работает синтаксис на примере поэтического текста (нам в них не хватило именно филологического чутья). При этом мы обращались и к совершенно замечательным исследованиям на стыке лингвистики и литературоведения, открывающим в поэзии Пастернака очень много важного. Это хрестоматийная работа Романа Якобсона, небольшая статья Юрия Левина, статьи Жолковского, Ирины Ковтуновой, важная для нас статья Максима Шапира об «авторской глухоте» Пастернака и многие другие. А также замечательная и очень глубокая книга итальянской исследовательницы Роберты Сальваторе, не переведенная на русский язык, а потому мало известная в русскоязычном филологическом поле. Роберта посвящает фразеологии целую главу, причем рассматривает и примеры сложной идиоматической трансформации, что довольно редко встречалось в других работах. Она, кстати, написала очень подробную рецензию на нашу книгу, за что ей огромное спасибо — как и второму нашему рецензенту, Роману Лейбову, который тоже много всего нужного для нас заметил. В общем, Пастернака, действительно, очень подробно изучали, и нам захотелось при этом подойти к его стихам со свежим взглядом, развивая и уточняя те верные наблюдения, которые сделали предшественники.
— В сознании простых читателей Пастернак — одна из ключевых фигур отечественной поэзии. Однако тут, мне кажется, происходит своеобразная подмена: это признание обусловлено не столько собственно самой поэзией (ее принимают как неоспоримую данность), сколько его статусом как образцового поэта, на примере которого можно размышлять о месте литератора в истории, о его отношениях с властью, женщинами и религией. Можно ли сказать, что это отчасти связано с тем, что мы просто не очень умеем читать стихи Пастернака, его сложноустроенные поэтические тексты?
— Тяжело выделить что-то конкретное, что повлияло бы на восприятие поэта как «ключевой фигуры отечественной поэзии» — обычно это все-таки совокупность факторов. Безусловно, у Пастернака был и яркий дебютный период, и темные ранние стихи с запутанными метафорами, в которых он искал новый поэтический язык, и более ясные экспрессивные поздние стихи. Важна и биография, вся эта история с присуждением ему Нобелевской премии, травлей, изданием «Доктора Живаго» за рубежом, обеспечившим поэту признание за пределами СССР. Все это, конечно, принесло Пастернаку известность среди очень широкой аудитории, среди которой кто-то больше ценит его за книгу «Сестра моя — жизнь», кто-то за «Когда разгуляется», некоторые читали только роман, а о существовании стихов лишь слышали (например, иностранные читатели, которые не владеют русским языком и не хотят читать поэзию в переводе). Очевидно также, что все по-разному прочитывают эти тексты, и чем сложнее стихотворения, тем более узкая у них группа читателей, а зачастую даже узкоспециальная.
Но все-таки о том, что Пастернака читали, и читали глубоко, свидетельствует не только обширная научная литература, о которой я только что говорила, но и, например, тот факт, что он сильно повлиял на дальнейшую русскоязычную поэтическую традицию, причем ранние и темные стихи отразились в эволюции сложного поэтического языка, а поздние направляли развитие советской поэзии. Кроме того, мы настаиваем, что даже без пристального анализа темных стихотворений можно получить от них неопосредованное когнитивное удовольствие, и оно во многом обеспечивается идиоматикой.
— Расскажите подробнее о вашей монографии, которая вот-вот должна выйти из печати. Как вы предлагаете читать Пастернака? Что это значит — посмотреть на стихи Пастернака сквозь фразеологическую призму?
 Татьяна Красильникова
Татьяна Красильникова
— В своем исследовании мы хотели показать, что одним из главных, а в некоторых случаях и основным способом создания темных образов для Пастернака была работа с идиоматическим пластом русского языка. Она выступает своего рода материалом, из которого создается поэтическая речь разной степени сложности. В отличие от лингвистов, специально занимавшихся уточнением границ идиоматики, мы включали в этот перечень самые разные явления: в первую очередь коллокации и фразеологизмы, но также и афоризмы, пословицы, поговорки и другие провербиальные образования. Главный критерий для нас — это их устойчивость в языке и распространенность к тому моменту, когда Пастернак сочинял стихотворение. То есть лингвистический статус и терминология внутри идиоматики для нас не играют особой роли, но очень важно другое — типы работы с идиоматикой. Ведь понятно, что поэт может более или менее нормативно употребить устойчивое выражение (например, «покидать пост» в строке «Не покидал поста / За теской алебастра?»), а может как-то заменить в выражении одно слово, или переосмыслить значение фразеологизма, или разъединить идиому, разнести ее отдельные элементы по разным строкам, или соединить две уже трансформированные подобным образом идиомы. В общем, способов очень много, и удобнее, когда они упорядочены градуированно — от простых к сложным. Мы использовали классификацию, уже придуманную для мандельштамовских стихов, но адаптировали ее к Пастернаку, в частности добавили целый класс фразеологических дублетов, которого не было у Мандельштама.
— Можете привести какой-нибудь пример сложной идиоматической трансформации?
— Нам очень нравится пример «Грянул ливень всем плетнем» (из стихотворения «Гроза, моментальная навек»). Он не такой сложный с точки зрения восприятия, но зато интересный и хитросплетенный в плане того, какие выражения или конструкции легли в основу образа. В общем, наглядный. Скорее всего, при первом прочтении мы не замечаем, что здесь произошла какая-то подмена или что несколько конструкций сплелись воедино, ведь языковая метафора выглядит очень органичной. Но если внимательно всмотреться в эту строку, то можно заметить сразу несколько процессов, которые произошли с устойчивыми оборотами, прежде чем получилось такое высказывание. Синтагма «грянул ливень» — это производная от «грянул гром». Она, очевидно, соединяется с грамматическими конструкциями творительный перемещения («идти лесом») + всем Х-ом («всем телом», «всем народом»). На наличие здесь этой конструкции уже указывал Жолковский. Однако мы обращаем внимание не столько на конструкции со свободной валентностью (как предыдущая), сколько на фразеологизм, лежащий в основе строк, — «стена дождя/ливня». Идиоматическая «стена» меняется у Пастернака на «плетень» по синонимическому принципу — ведь это почти одно и то же, но только более необычное, лучше подходящее к дачному пейзажу. И в результате весь пример, на наш взгляд, следует описывать как контаминацию выражения стена дождя/ливня, конструкции всем Х-ом и коллокации грянул гром. То есть эти устойчивые языковые обороты так тесно переплетаются, что можно поначалу даже проскользнуть, не зацепиться взглядом, но, если вдуматься, они оставляют ощущение странности — что-то здесь не так, так не говорят. Есть и противоположные случаи, сразу поражающие запутанностью образов. Они, наоборот, моментально приковывают внимание, о них спотыкаются и читатели, и исследователи — например, загадочные строки «расправляй / Губами вывих муравья» из «Нашей грозы». Такие случаи мы тоже, конечно, анализируем. Есть и примеры, которые, как нам кажется, надо рассматривать в тесном соседстве с двумя или тремя другими.
— Насколько часто у Пастернака происходит трансформация фразеологии, можно ли выявить какие-то закономерности работы с ней и складывается ли игра с идиоматикой в какую-то стройную выдержанную систему?
— Трансформация фразеологии у Пастернака происходит довольно часто. Именно поэтому мы, начав писать статью, сами не заметили, как она разрослась до книжки. Важно ведь не только количество отдельных случаев работы поэта с идиоматикой, но и плотность этих случаев. Мы решили, что тяжело рассказывать о каждой строке с измененным выражением по отдельности, поэтому после первой главы, посвященной классификации, с примерами разных типов, мы написали вторую главу, в которой разобрали целые строфы, а затем и третью, в которой полностью проанализировали стихотворения «Наша гроза», «Мухи мучкапской чайной» и «Mein Liebchen, was willst du noch mehr?» именно сквозь призму идиоматики. Хочется отметить, что последнее стихотворение — это такой случай, когда помимо фразеологических единиц в основе метафор лежит много других механизмов, например визуальные. И мы попытались продемонстрировать, что видим, в каких случаях наша методология отодвигается на второй план, в каких случаях она может давать сбой, а в каких идиоматика взаимодействует с иными «материалами» стихотворной речи.
На ваш вопрос интересно ответить еще и с точки зрения эволюции самого Пастернака. Системность обычно становится заметна издалека. Когда мы окидываем взглядом всю поэзию Пастернака, все его движение от сложности к простоте, к имитации разговорной речи, мы осознаем масштабность и глубину его работы с фразеологией на раннем этапе творчества, после чего она уступает место нормативности — примерно к времени создания книги «Когда разгуляется», которая, если можно прибегнуть к оценочному суждению, нам уже не так интересна с точки зрения языка. А на отрезке между ранним и поздним периодами, например, расположилась книга «Второе рождение», и в ней прослеживается промежуточный этап — Пастернак там уже не такой «темный», как раньше, но еще и не такой «светлый», каким станет позже.
— Обыгрывание идиоматики часто встречается в поэзии модернизма. Почему в случае с Пастернаком мы можем говорить об эволюции поэтического языка модернизма?
— Весь корпус модернистской поэзии предлагает множество примеров работы с идиоматикой, особенно простой. Если говорить о нормативном употреблении выражений или о семантизации, то такие типы обращения к фразеологии встречаются почти у всех — за исключением, видимо, тех поэтов, которые радикально ломают язык, сдвигают привычную грамматику или даже работают с разложением морфемного и фонетического уровней языка. Одновременно с этим есть и поэты, для которых идиоматика была одним из главных материалов создания сложных образов — среди них Мандельштам, Блок, иногда — Маяковский, иногда — Цветаева, но у двух последних по сравнению с Пастернаком, говоря навскидку, идиоматика используется в меньшей пропорции. Пастернак абсорбирует языковые поиски модернизма, он работает с этим языковым пластом в концентрированном виде и на глубинном уровне (хотя и не только на нем, иногда и на поверхностном). И книга «Сестра моя — жизнь» — именно та точка, в которой модернизм на примере Пастернака пытается и пересоздать поэтический язык, и сжать объем текста, сохранив смыслы и увеличив степень спаянности элементов, и сохранить мнемоничность за счет когнитивных механизмов, связанных с идиоматикой. На примере поэзии Пастернака становится понятно, какие процессы происходили и вне его, просто он за счет такой интенсивной работы с языком оказывается во многом образцом, наглядным случаем. Поэтому, как нам хочется думать, книга будет интересна не только пастернаковедам или любителям Пастернака, но и всем тем, кому важно наблюдать за языком поэзии как в синхронии, так и в диахронии. Тем, кто любит пристально читать отдельные строки, строфы, стихотворения, но также и тем, кому импонирует специальная оптика, объединяющая и высвечивающая отдельные феномены, темные места, запутанные метафоры, чтобы предложить для них целостное объяснение.