Добрые пастыри: почему в русской классике так мало хороших священников
Светлая сторона белого духовенства в русской литературе
«Светлая» сторона — pro белого духовенства — в изображении русской литературы далеко не так однозначна, как contra.
Если «темные», несчастные, тяжелые и мрачные стороны отечественного духовенства находили свое отражение или в «обличительной» литературе, или в своеобразных «криках о помощи», то с целями и желанием авторов изображать его светлые, счастливые стороны дело обстояло сложнее.
Безусловно положительные портреты нового поколения священников в отечественной литературе можно найти в романе «Жизнь сельского священника» Ф. В. Ливанова. Это произведение — своеобразная вариация романа «Что делать?», удивительное программное произведение, описывающие идеального священника, образцовую «экспериментальную» модель для подражания, редкий образец утопии из жизни отдельно взятого сельского прихода.
Главный герой Александр Григорьевич Алмазов — священник нового склада, от самого выпуска из семинарии действующий принципиально по-новому и оттого с легкостью решающий все проблемы на своем поприще. Его избранница, бывшая институтка, берется за воспитание своего жениха, быстро «развивает» его, и тот, «имея двадцать три года, вырос в год так, как не вырос бы в три года при рутинной замкнутости семинарской жизни». Будучи посвящен в сан и получив приход, Алмазов с женой поселяется в доме с богатым интерьером. Отрицательные герои карикатурны (это старое поколение священнослужителей, нигилисты со скелетами и портретами Дарвина и Сеченова, развратные помещики, раскольники, злые и ленивые крестьяне), они быстро перевоспитываются, самоликвидируются или берутся под арест.
На паству о. Алмазов воздействует длинными личными наставлениями и проповедями, например, так он обращается к крестьянину — плохому семьянину:
Здравствуй Василий! — сказал священник, смотря ему прямо в глаза... — Я зашел к тебе узнать, зачем ты жену свою выгнал из дома, изувечил ее безвинно, и вот эту распутную солдатку взял себе в жены?.. Подумай хорошенько! Если ты мужиком хорошим хочешь быть, так ты свою жизнь перемени, оставь свои привычки дурные, не пьянствуй, уважай свою мать и жену. Ведь я про тебя все знаю! Занимайся хозяйством, а не тем, чтобы барский лес воровать да в кабак ходить, а потом, вот здесь, чаи разводить и семью разгонять... И тут священник прочитал Ваське самую строгую мораль, Васька сначала не возражал, а потом стал говорить: да эвто наше дело, батюшка... сами понимаем, что делаем... — Вот в том-то и дело, что не понимаете! отвечал священник. Вы живете как язычники, даже хуже татар... нынче жена, завтра солдатка. — И сюда уж спускается наша «эманципация женщин», думал про себя о. Алмазов.
Не совсем понятно, правда, при чем здесь женская эмансипация, — возможно, автор хотел показать, что его герой знает хорошие слова.
О. Алмазов вразумляет крестьян, научает их трудолюбию, полностью искореняет пьянство (к тому же закрывает кабаки), строит больницу, аптеку, народное училище, приют, богадельню, плотину, гостиный двор и достигает иных успехов. Он истребляет все пороки в окружающих людях, а кто не исправляется — тому же хуже.
Проповеди и наставления автор безжалостно приводит полностью: читатель вянет, а крестьяне, вероятно, из этой напыщенной риторики не понимали ни слова (один из рецензентов-современников писал, что Ливанов почти полностью скопировал проповеди смоленского епископа).
Основной экономический конфликт с крестьянами — поборы — о. Алмазов решает, эти поборы отменив, при этом он никогда не работает, а откуда берет средства к жизни в буржуазном комфорте — загадка.
О характере героя судить сложно: Ливанов настаивает, что о. Алмазов — тонко чувствующая (так, боясь отказа любимой девушки, он подумывает о самоубийстве), но сильная натура (он «считал себя сильным, потому что сознавал себя честным и неукоризненно чистым») — хорош священник!
 Как художественное произведение «Жизнь сельского священника» не удалась, однако она интересна как опыт производственно-утопического романа из жизни белого духовенства. Ливанов неуклюже пытается создать образ «нового» попа — образованного «духовно» и светски, деятельного, честного, свободного от известных пороков, способного решить современную ему проблему: как встроиться в новые пореформенные реалии, как найти компромисс между традицией и потребностями быстро эволюционирующего общества. Возможно, неудача романа объясняется (помимо литературной бездарности и косноязычия автора) и внешними условиями: не было ни «прототипов» для подобных персонажей, ни простых рецептов для решения накопившихся у духовенства проблем.
Как художественное произведение «Жизнь сельского священника» не удалась, однако она интересна как опыт производственно-утопического романа из жизни белого духовенства. Ливанов неуклюже пытается создать образ «нового» попа — образованного «духовно» и светски, деятельного, честного, свободного от известных пороков, способного решить современную ему проблему: как встроиться в новые пореформенные реалии, как найти компромисс между традицией и потребностями быстро эволюционирующего общества. Возможно, неудача романа объясняется (помимо литературной бездарности и косноязычия автора) и внешними условиями: не было ни «прототипов» для подобных персонажей, ни простых рецептов для решения накопившихся у духовенства проблем.
Идеал нового священника (Мерцалова) можно встретить и в главной утопии русской классической литературы — романе Чернышевского «Что делать?».
Читатель узнает, что Мерцалов «был священником в каком-то здании с бесконечными коридорами на Васильевском острове». Он венчает Веру Павловну с Лопуховым, становится «одним из профессоров» в ее ткацкой мастерской, организует вечера с танцами, а потом является к ней во втором сне и ведет программные диковатые речи про виды нравственной грязи и взаимное исповедание, тем самым воплощая собой новый тип духовенства.
***
Еще одну группу произведений о духовенстве, если и не полностью положительно, то явно с любовью и сочувствием описывающих ее представителей, составляют тексты об «ушедшей (или уходящей) натуре», (полу)идиллическое любование стариной, ее цельной верой и нравами. Иереи недавнего прошлого, по мнению таких авторов, были прекрасны в своей близости к народу, простодушной вере, «заветах милой старины».
Они не были ревностными пастырями, докучающими пастве своими напутствиями и проповедями, не споспешествовали ее развитию — духовному или умственному, но были как минимум неплохими людьми, живущими в мире с ближними и разделявшими с ними их нехитрые радости и горести. С консервативной осторожностью авторы намекали: раньше жизнь была, возможно, непроста и темна, но завтрашний день и вовсе не надежен.
Одно из таких (многочисленных!) повествований о быте духовных лиц, выписанных в традициях натуральной школы, — роман «Из кулька в рогожку» Н. С. Преображенского.
Иереи «старой формации» выписаны Преображенским любовно, в идиллическом ключе, но даже явное умиление автора и обилие историй, как будто взятых из «Сна Обломова», не может одолеть несимпатичное впечатление, производимое на читателя его героями.
Так, сельский батюшка о. Матвей не имеет ни особых дел, ни забот, ни мыслей. Автор подробно описывает, как тот целыми вечерами сидит у окна, и ничто, кроме случайных наблюдений, например, как местный дьячок Мартын (который «за пьянство и бушевание известен был во всей улице под именем пса») выходит на улицу, смотрит на небо и плюет на землю, не занимает его праздный мозг и душу. В разговорах он обходится невнятными замечаниями, ностальгически вспоминает о телесных наказаниях в бурсе, а, желая блеснуть эрудицией перед семинаристом, говорит так:
«Всякому человеку теперь дано... и дано, понимаешь, для того, чтобы не околпачиваться... человеку-то. Поелику всяк, ежели зачнет делать что, может всегда околпачиться... Не все ж в голове ум, иное бывает сор, навоз почитай... Вот кабы мы были немцы — ну, так. А наш брат, выходит, не тем силен, не оттедова».
 Один из самых впечатляющих пассажей в романе посвящен тому, как добрый о. Матвей лечит прихожан (сам он очень здоров и обходится без лекарств).
Один из самых впечатляющих пассажей в романе посвящен тому, как добрый о. Матвей лечит прихожан (сам он очень здоров и обходится без лекарств).
Да и вообще все рецепты, по которым у попа Матвея лечится чуть не полприхода, довольно сильны, сколько можно судить по некоторым ингредиентам, каковы, например, порох, хмель, ляпис-камень, коровий помет, деготь и проч... Есть также средства, основанные на... наговоре... Много также зелий разных, каковы: бабье зелье, самодурное зелье, зелье, чтоб мужья жен не били, особые зелья, чтоб начальник был ласков... чтобы черт не обошел, чтобы чин большой дали.
Автор, в умилении выписывая этот пассаж, в простоте души, кажется, не осознал его смысла: эти полуязыческие «наговоры» и «зелья» (включающие вполне токсичные ингредиенты) готовит не какая-нибудь сомнительная знахарка, а духовное лицо. К сожалению, о судьбе прихожан, принимавших натощак отруби с «коровьим калом» и прикладывающих «к пупу» деревянное масло, автор ничего не сообщил.
Автор, среди прочего, описывает и идеального священника — о. Максима, «чудную, отрадную личность», а хорош он вот чем:
Один вид его уже разгоняет страх и вселяет доверие. Сидит прямо, спокойно, табакерку в руках повертывает, а на табакерке Сергиева лавра изображена... а говорить начнет, то, Господи!.. кажется, мухи присмиреют и слушают... и это благочестие, разлитое, кажется, в самых складках его рясы — все это приводит душу в такое сладкое умиление, что невольно рождаются самые религиозные мысли.
Преображенский предлагает читателю набор зарисовок отдельных персонажей, имеющих отношение к духовенству: священников, семинаристов, дьячков, преподавателей семинарии, но среди них нет ни ярких и запоминающихся типажей, ни новых, ранее не описанных, реалий, ни оригинального угла зрения на проблемы духовенства.
Кроме того, идиллическое описание старого сельского духовенства автору тоже не совсем удалось.
Целый ассортимент повествований о духовных лицах предлагает и «специалист» в этой области С. И. Гусев-Оренбургский. Так, в его повести «В приходе» действует о. Викторин — пожилой, ленивый, полностью сосредоточенный на бытовых вопросах священник, который ездит по своему приходу, собирая зерно с крестьян, слушает рассказы об их бедах и притеснениях, боится и заискивает перед местным помещиком-генералом и из боязни ничем крестьянам не помогает. Отец Викторин — человек неплохой, но «маленький», и во всех описанных автором эпизодах он остается лишь внутри рамок этого определения.
Известный сюжетообразующий конфликт о столкновении «старого» и «нового» духовенства (с явным одобрением первого) можно встретить в повести «Авва» Д. Н. Мамина-Сибиряка (1884). В отличие от утопического романа Ливанова, герои-священники здесь вполне «трехмерные», а не наборы добродетелей и пороков.
 Отец Андроник — представитель «старого» поколения сельских иереев: полный, жовиальный, смешливый, дружелюбный, хороший хозяин и любитель выпить, он не видел ничего дурного в обыкновениях и традициях своего сословия. Поборы с крестьян он считает неизбежной рутиной, с паствой явно живет в мире, в меру ревностно выполняя свои пастырские обязанности. В отличие от многих персонажей, выведенных авторами второй половины XIX в., этот священник выглядит вполне «живым», человечным, а не набором известных «профессиональных» черт, и тем вызывает симпатию.
Отец Андроник — представитель «старого» поколения сельских иереев: полный, жовиальный, смешливый, дружелюбный, хороший хозяин и любитель выпить, он не видел ничего дурного в обыкновениях и традициях своего сословия. Поборы с крестьян он считает неизбежной рутиной, с паствой явно живет в мире, в меру ревностно выполняя свои пастырские обязанности. В отличие от многих персонажей, выведенных авторами второй половины XIX в., этот священник выглядит вполне «живым», человечным, а не набором известных «профессиональных» черт, и тем вызывает симпатию.
Это был истинно русский человек, без всякой примеси, и, как в каждом истинно русском человеке, достоинства и недостатки в попе Андронике представляли собой самую пеструю смесь. В одно и то же время оригинальный старик был хитер и наивен, добр и cкуп, хотя не старался скрывать своих недостатков и не выставлял напоказ добродетелей. Ум у о. Андроника был от природы сильный, но совсем не тронутый образованием, как неотшлифованный драгоценный камень. В его разговоре всегда звучала ироническая нотка, причем он чаще всего смеялся над самим же собой. Прибавьте к этому безграничное добродушие, в котором, как в воде, растворялось и тонуло все остальное... «Меня еще в деревянной колодке водили в бурсе-то, — рассказывал старик в веселую минуту, — а все за матушку-водочку...»
Хорошая жизнь о. Андроника заканчивается с приездом нового попа — как будто воплотившего в себе все добродетели пореформенного времени. О. Георгий хорош собой, образован, обладает светскими манерами, живет в чистом и красивом доме с попадьей, больше похожей на светскую даму, не проводит поборы «натуральным продуктом», «проповеди в церкви каждое воскресенье говорит, какие-то книжонки даром раздает мужикам, раскольников увещает», — таким образом являя собой вроде бы именно то, чего чаяли реформаторы и утописты-литераторы.
Правда, быстро оказывается, что он просто предпочитает деньги «натуральному продукту», и торговаться с ним, в отличие от лукавого «старого» попа, бессмысленно.
Голос у о. Георгия был мягкий и певучий, не то, что хриплая, перепитая октава о. Андроника; двигался он неслышными, торопливыми шагами, как монастырская послушница. Вообще, первое впечатление о. Георгий произвел самое подкупающее, только выражение бледного лица было неподвижно, улыбка неестественно ласкова, и взгляд больших глаз холоден.
Говорит новый батюшка правильно, и речи его похожи на статьи в журналах (сам он признается, что пробовал себя на журналистском поприще):
Нужно жить и хочется жить, как все другие трудящиеся люди, а между тем с первых же шагов встречаешься с этой прозой жизни в виде разных сборов, платы за требы и прочих дрязг нашей бытовой обстановки...
Правда, о. Георгий не предлагает новых источников средств для сельских батюшек, сам же при этом явно не бедствует.
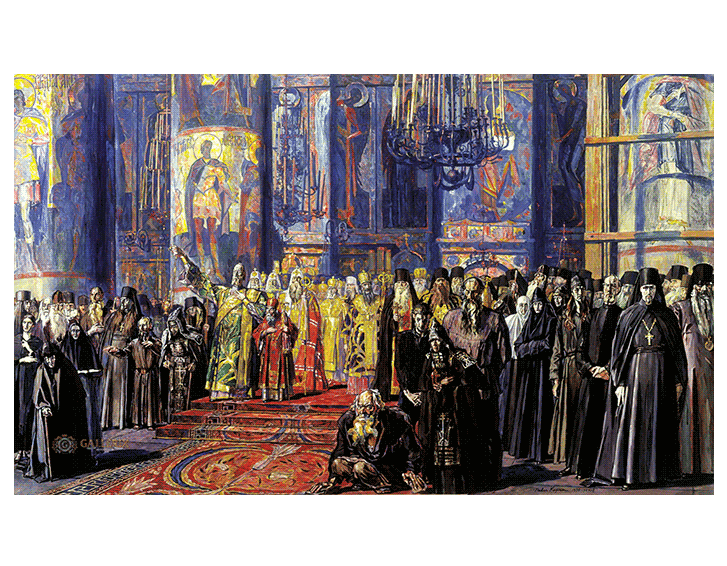 Позже он начинает жестокую борьбу против старого священнического уклада в лице о. Андроника и ведет ее также новыми методами — с помощью суда. Отцу Андронику вменяется в вину «незаконное сожитие с солдатской вдовой Василисой», «недозволительная игра светских песен на гитаре» и употребление алкоголя. Подобные грехи приходских священников и причта привычно обсуждали и осуждали, но ранее никому не приходило в голову судить священников за эти проступки, и в этой коллизии «человеческих, слишком человеческих» грешков и официального судебного их преследования неожиданно открывается что-то в корне неверное. Отец Андроник остается верен себе и «старому укладу»: он скоропостижно умирает и таким старым традиционным способом уходит от официального наказания.
Позже он начинает жестокую борьбу против старого священнического уклада в лице о. Андроника и ведет ее также новыми методами — с помощью суда. Отцу Андронику вменяется в вину «незаконное сожитие с солдатской вдовой Василисой», «недозволительная игра светских песен на гитаре» и употребление алкоголя. Подобные грехи приходских священников и причта привычно обсуждали и осуждали, но ранее никому не приходило в голову судить священников за эти проступки, и в этой коллизии «человеческих, слишком человеческих» грешков и официального судебного их преследования неожиданно открывается что-то в корне неверное. Отец Андроник остается верен себе и «старому укладу»: он скоропостижно умирает и таким старым традиционным способом уходит от официального наказания.
Мамин-Сибиряк предлагает другой взгляд на реформу:
«Прежним попам, вроде Андроника, тогда узнают цену, когда их не будет... Даже самая необразованность и неотесанность старых попов имела свою хорошую сторону: раз — они стояли ближе к мужику, а второе — довольствовались самой скромной обстановкой и привычками...» — говорит одно из действующих лиц повести.
Конечно, среди текстов о добрых «старых» священниках нельзя не упомянуть о «Соборянах» Н. С. Лескова — лучшего (обойдусь без осторожного «пожалуй») произведения отечественной классической литературы о белом духовенстве. Как нередко бывает с лучшими и замечательными, оно плохо поддается описанию и анализу: куда проще обсуждать явные и часто забавные промахи текстов посредственных или явно неудавшихся.
«Соборяне», как известно, не роман, а хроника, где сложно выстроить события по иерархии, найти кульминацию и прочие привычные составные части произведения: все важно, все важны, хроника, как и жизнь, не отбирает, а сыплет события подряд.
Жизнь провинциального старгородского духовенства непроста и постоянно предлагает ему «вызовы», как бы локальны они ни казались любителям романов.
Отец Савелий Туберозов — редкий в отечественной литературе пример умного, образованного, духовного и любящего пастыря. Духовная «карьера» его невелика: «начальство» не нуждается ни в добром пастыре для прихожан, ни в христианских и человеческих его добродетелях, а лишь в функционере-чиновнике, который будет исправно, но в меру ревностно нести свою службу. Так, оказывается, что вдохновенная и горячая проповедь (о. Туберозов говорил на день Преображения Господня «о необходимости всегдашнего себя преображения» и указал на одного из «сирых», взявшего на воспитание сироту и счастливого этим) не была согласована и процензурирована, а оттого навлекла на пастыря гнев и кару со стороны администрации. О. Туберозов не пошел на уступки, противные его вере, духу и видению своего призвания.
Прости, Вседержитель, мою гордыню, но я не могу с холодностию бесстрастною совершать дело проповеди... Нет, тогда в душе моей есть свой закон цензуры!.. А они требуют, чтоб я вместо живой речи, направляемой от души к душе, делал риторические упражнения...
И дальше Савелий Туберозов поступает из тех же принципов и веры, что в определенный момент хроники приводит к тому, что жизнь его заканчивается, а «начинается житие».
Образ второго иерея в хронике — Захарии Бенефактова — принципиально иной: «вся его личность есть воплощенная кротость и смирение», но «при всех посещающих его недугах и немощах сохранил и живую душу и телесную подвижность».
Лесков предлагает и один из лучших в литературе женских духовных образов — протопопицы Натальи Николаевны (и ее образ, и самого протопопа явно отсылают к протопопу Аввакуму и его верной и кроткой подруге жизни — конечно, не по формальным вопросам веры, а по силе, вере и ярким личным качествам). Протопопица — сама любовь и кротость, но при этом она сильна духом и своей настоящей, христианской любовью.
Основные герои хроники Лескова «глядят» при этом живыми людьми, а не плоскими надуманными наборами добродетелей: так, протопоп гневлив и «горделив», о. Захария так кроток и скромен, что вряд ли способен чем-то деятельным помочь пастве, а протопопица Наталья Николаевна не в силах понять все гнетущие ее мужа заботы.
Сложные, глубокие, неоднозначные герои оставляют огромное пространство для понимания их характеров, поступков; почти все, что можно сказать, ненамного больше субъективной интерпретации, кроме совсем простых и доступных фактов вроде значения странных фамилий героев («фирменный» прием Лескова вообще, а в «Соборянах» особенно) или отражения в хронике культурно-исторических реалий описываемого в ней времени.
Создается впечатление, что «Соборяне» сопротивляются любой попытке анализа: их можно (и любопытно) сравнивать с романом англичанина Троллопа о духовенстве — но прибавит ли это сравнение к пониманию лесковского романа и его контекста? Не менее любопытны и сравнения о. Туберозова с Дон Кихотом — но похожи ли ветряные мельницы и воображаемые враги на косную (и очень реальную) духовную администрацию, предлагающую священнику в «консисторию съездить подоиться» или на изощренного интригана «беса» Термосесова?
Выводы (если захочется сделать таковые) тоже очевидны и неутешны: мир «старой поповки» ушел в прошлое и вынужденно обновляется; о. Савелий Туберезов и его жена бездетны и не оставили даже физического продолжения в этом мире.
Как ни парадоксально, добрые дьяконы и священники нередко встречаются у одного из главных мизантропов русской литературы — А. П. Чехова.
Именно у Чехова есть самый человечески и христиански симпатичный дьякон в русской литературе — Победов из повести «Дуэль».
Он весел, немного наивен, смешлив и сразу отличим от «типичного» чеховского героя, зараженного и замученного бездельем и осознанием собственной бесполезности. Дьякон, кажется, обладает рецептом если не счастья, то радости жизни: он может ловить бычков на пристани и не смущаться укорами зоолога фон Корена в бездеятельности, а люди, их слова и жесты часто вызывают в нем смех (но не насмешку).
 Дьякон лишен тщеславия, и мечты о славе (фон Корен прочит ему карьеру иеромонаха-миссионера) и скромном существовании в качестве сельского дьякона доставляют ему одинаковую радость.
Дьякон лишен тщеславия, и мечты о славе (фон Корен прочит ему карьеру иеромонаха-миссионера) и скромном существовании в качестве сельского дьякона доставляют ему одинаковую радость.
В отличие от большинства образов духовенства, дьякон способен (как все герои Чехова) к рефлексии, он горячо спорит с фон Кореном и его жестокой теорией, и, вспоминая свое тяжелое детство в той же семинарии и думая о неизбежных тяготах жизни, дьякон раздумывает и не может понять, зачем множить эти тяготы сознательно.
За что они будут драться на дуэли? Если бы они с детства знали такую нужду, как дьякон, если бы они воспитывались в среде невежественных, черствых сердцем, алчных до наживы, попрекающих куском хлеба, грубых и неотесанных в обращении, плюющих на пол и отрыгивающих за обедом и во время молитвы, если бы они с детства не были избалованы хорошей обстановкой жизни и избранным кругом людей, то как бы они ухватились друг за друга, как бы охотно прощали взаимно недостатки и ценили бы то, что есть в каждом из них. Ведь даже внешне порядочных людей так мало на свете! Правда, Лаевский шалый, распущенный, странный, но ведь он не украдет, не плюнет громко на пол, не попрекнет жену: «Лопаешь, а работать не хочешь», — не станет бить ребенка вожжами или кормить своих слуг вонючей солониной, — неужели этого недостаточно, чтобы относиться к нему снисходительно? К тому же ведь он первый страдает от своих недостатков, как больной от своих ран.
А главное — дьякон верит, искренне и радостно, и, говоря о вере, ссылается на своего дядю-протоиерея, явно прекрасного священника.
— Вы говорите — у вас вера, — сказал дьякон. — Какая это вера? А вот у меня есть дядька-поп, так тот так верит, что когда в засуху идет в поле дождя просить, то берет с собой дождевой зонтик и кожаное пальто, чтобы его на обратном пути дождик не промочил. Вот это вера! Когда он говорит о Христе, так от него сияние идет и все бабы и мужики навзрыд плачут, он бы и тучу эту остановил и всякую бы вашу силу обратил в бегство. Да... Вера горами двигает.
Дьякон засмеялся и похлопал зоолога по плечу.
— Так-то... — продолжал он. — Вот вы все учите, постигаете пучину моря, разбираете слабых да сильных, книжки пишете и на дуэли вызываете — и все остается на своем месте...
Интересно, что в уста дьякона Чехов вложил (почти незаметно) и столь редкую для его текстов положительную программу: если на одном полюсе его герои томятся бездействием, на другом — как фон Корен — возвели действие в принцип жизни, то молодой Победов говорит о деятельности, освещенной верой и любовью:
— Вера без дел мертва есть, а дела без веры — еще хуже, одна только трата времени, и больше ничего.
И последнее слово остается за ним.
Кроме того, этот несколько комичный дьякон и живет по-христиански («Они хотя неверующие, но добрые люди и спасутся», — думает он об участниках дуэли), и именно его окрик спасает Лаевского и дает ему шанс начать жизнь по-новому, т. е. сделать то, о чем чеховские герои лишь говорят.
Отец Христофор Сирийский из повести «Степь» обладает тем же даром, что и дьякон, — радостью жизни, осознанием ее смысла в самых простых, ежедневных действиях и в любой ее деятельности. Ни дьякон, ни о. Христофор не совершают ничего выдающегося, они хороши не «профессионально», но «человечески», у них есть дар счастья, который у обоих выражается, среди прочего, в исключительной смешливости.
Отец же Христофор, человек мягкий, легкомысленный и смешливый, во всю свою жизнь не знал ни одного такого дела, которое, как удав, могло бы сковать его душу.
О. Христофор лечит заболевшего Егорушку, молится за него, угощает лакомствами и наставляет — и, кажется, Егорушке передается его секрет радости:
В номерке было прибрано, светло, уютно и пахло о. Христофором, который всегда издавал запах кипариса и сухих васильков... Егорушка поглядел на подушку, на косые лучи, на свои сапоги, которые теперь были вычищены и стояли рядышком около дивана, и засмеялся.
Своеобразное резюме основных проблем и конфликтов русского духовенства — трагического несоответствия его высокой миссии и унизительных, ограничивающих и зависимых условий его жизни и быта, нищенской рутины, убивающей дух и веру, — также стоит искать у Чехова. В рассказе «Кошмар» «непременный член по крестьянским делам присутствия Кунин» с непониманием и брезгливостью смотрит на молодого сельского батюшку.
Ранее Кунин никак не мог думать, что на Руси есть такие несолидные и жалкие на вид священники... Кунин лег на софу и весь отдался неприятному чувству, навеянному на него посещением отца Якова.
Нет смысла пересказывать прозу Чехова, идеально вычищенную и лаконичную, цитаты дают и описание, и анализ:
Кунин теперь почти ненавидел отца Якова. Этот человек, его жалкая, карикатурная фигура, в длинной, помятой ризе, его бабье лицо, манера служить, образ жизни и канцелярская, застенчивая почтительность оскорбляли тот небольшой кусочек религиозного чувства, который оставался еще в груди Кунина и тихо теплился наряду с другими нянюшкиными сказками. А холодность и невнимание, с которыми он встретил искреннее, горячее участие Кунина в его же собственном деле, было трудно вынести самолюбию...
Кунин, движимый гражданским чувством, пишет архиерею жалобу (почти донос) о несоответствии о. Якова своему призванию и профессии, а также набрасывает пару проповедей, не надеясь на красноречие и интеллект священника.
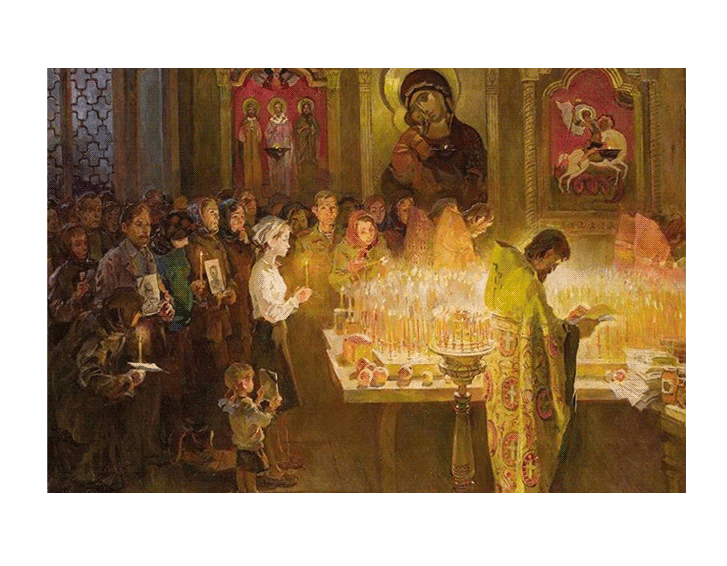 В какой-то момент кажущийся конфликт рассказа (о несоответствии призвания священников и их реальных практик) меняется на истинный: для Кунина о. Яков — Другой, чье поведение и образ жизни совершенно непонятны и интерпретируются принципиально неверно.
В какой-то момент кажущийся конфликт рассказа (о несоответствии призвания священников и их реальных практик) меняется на истинный: для Кунина о. Яков — Другой, чье поведение и образ жизни совершенно непонятны и интерпретируются принципиально неверно.
Исповедь отца Якова, с болью и чувством вины говорящем о своей нищете, долге, мучительном осознании бедности своей и окружающих, не дающей выполнять ни христианский долг, ни бытовые, человеческие обязанности, становится открытием для Кунина.
Разрыв между духовенством и светскими сословиями, даже вполне «передовыми» и думающими о реформе общества, превратился в пропасть, преодолеть ее можно не на «общественном», социальном, а лишь на человеческом, личном уровне. Впрочем, к решению проблем и это не приведет: вероятно, проблема в принципе лишена решения.
Возможно, именно поэтому «добрых пастырей» в отечественной классической литературе можно отыскать либо в идиллических зарисовках о невозвратно ушедшем прошлом, либо в невероятных утопических проектах, либо — как у Чехова, известного и славного своей «микросоциологией», — в отдельных людях, но не сословии.