«Для Фрейда Землей обетованной было изучение бессознательного»
Интервью с Элизабет Рудинеско, автором первой французской биографии Фрейда
В России ваши труды раньше не издавались и пока малоизвестны, книга о Фрейде переведена на русский первой. Расскажите, пожалуйста, почему вас заинтересовала история психоанализа и в чем особенности вашего подхода к ней.
Благодарю за интерес к моей работе. Меня перевели на двадцать пять языков, даже на украинский, и вот наконец вышло первое издание на русском, спасибо за это издательству «Кучково поле». В России была серьезная традиция психоанализа до 1930 года, то есть до сталинской эпохи, затем она прервалась. Советский режим официально проклял психоанализ, и к 1949 году его в СССР уже не существовало, он был осужден как буржуазная западная наука. А с перестройки, года с 1989-го и позднее, началось возрождение психоаналитического движения в России. Труды Фрейда переиздаются, в Петербурге даже есть Музей сновидений Фрейда, который организовал Виктор Мазин, — хотя не могу сказать, что он очень популярен.
Что касается меня и Франции вообще, то я училась у Жиля Делеза, дружила с Жаком Деррида, мы даже написали книгу вместе. Мое поколение структуралистов благодаря Лакану с новым интересом обратилось к психоанализу. В европейских странах психоанализ по-прежнему сохраняет прочные позиции, уже не такие, как раньше, из-за кампаний против психоанализа и в силу господства медикаментозного подхода в психиатрии, который существует также и в России. Поэтому в 1980-е годы я много внимания уделяла истории этой дисциплины. Я находилась под влиянием великого историка Мишеля де Серто, моего учителя, который указал мне направление — он был одновременно иезуитом, марксистом и фрейдистом, интересный персонаж. Потом я писала историю психоанализа во Франции, выпустила биографию Лакана и занималась компаративными исследованиями, изучала, какое влияние психоанализ оказал на разные культуры, не только на всю западную, но и на культуру Латинской Америки, США, Японии — сорок пять стран. И это достаточно новый предмет для исторических исследований. Мои исторические труды переводились в странах, где психоанализа не существует, поскольку Фрейд и Лакан — универсальные мыслители. Например, книгу о Фрейде переведут на арабский язык, хотя в исламских странах нет психоанализа.
Еще это первая биография Фрейда, написанная французским автором. Я работала в архиве Фрейда в Вашингтоне, там все на немецком и английском языках, было нелегко. Последняя серьезная биография Фрейда была написана около двадцати пяти лет тому назад американцем Питером Гаем — у его книги аудитория международная, а мне нужно было подойти к биографии Фрейда несколько иным образом: я сделала акцент на центральноевропейском, венском аспектах. Я описывала Фрейда как мыслителя из Центральной Европы, много занималась вопросами его семьи и отношений в семье, первыми его учениками, тогда как у Питера Гая Фрейд — продолжатель дарвиновской рационалистической мысли, английского научного подхода. Дело в том, что, когда историк берется за тему, над которой работали другие, он должен точно локализоваться по отношению к прошлому. Потому что быть первым биографом какой-нибудь личности и последним — это разные вещи.
В предисловии сказано, что каждая страна создала своего Фрейда. Чем «французский Фрейд» отличается от «англоязычного»?
Поскольку я уже написала историю психоанализа во Франции (2000 страниц), биографию Лакана (800 страниц), рецепция Фрейда во Франции мною уже изучена, и в новой книге Франции нет — это Фрейд в своем кругу. Лакан в ней едва упоминается, а Франция появляется только в связи с поездкой Фрейда в Париж и встречей с его ученицей Мари Бонапарт и врачом Шарко.
В чем разница между мной и англоязычными историками? Меня в первую очередь интересовал Фрейд в контексте его эпохи, во взаимоотношениях с писателями того времени — Стефаном Цвейгом, Томасом Манном, — с венской интеллектуальной средой. Я пыталась понять, насколько Фрейда беспокоила проблема иррационального, ведь он хотел вырвать бессознательное из его объятий и одновременно восхищался иррациональным.
Пожалуй, меня в большей степени, чем англосаксонских авторов, интересовала позиция Фрейда в отношении вопросов культуры, я касалась в том числе проблем его семейной жизни, его концепции семьи. Фрейд происходил из семьи галицийских евреев, он рос в семье с браком по договоренности, не по любви. Когда его отец женился, у него было два сына от первого брака, намного старше Зигмунда. А со второй женой, очень молодой, у него было шесть детей, Фрейд старший. Я постаралась показать, что идея Эдипова комплекса зародилась у Фрейда при наблюдении тех изменений, которые произошли с его семьей. Я критически отношусь к концепции Эдипова комплекса — на мой взгляд, она слишком психологична, но сама идея связать в конце XIX века каждого современного невротика, такого, как мы с вами, с греческой царской династией, кажется мне гениальной. Во-первых, в то время невротиков пытались исцелить не с помощью медикаментов, а гидротерапией, термальным лечением, то есть их считали больными, неврастениками. Фрейд первым сказал, что нужно заставить их заговорить, дать им выговориться, что у них есть некая история, их нельзя считать обычными больными. А во-вторых, все мы герои античной трагедии. Я бы назвала это интернациональным романом, который был создан в психоанализе, — он связал наше бессознательное с фатумом, с греческой трагедией. Мне удалось изучить много интересных свидетельств о том, что, когда писатели приезжали в Вену до Первой мировой войны и сразу после, они были потрясены: каждый считал себя Эдипом, героем греческой трагедии. Чтобы увязать невроз в современном мире с такой театральной историей, требовалась большая сила.
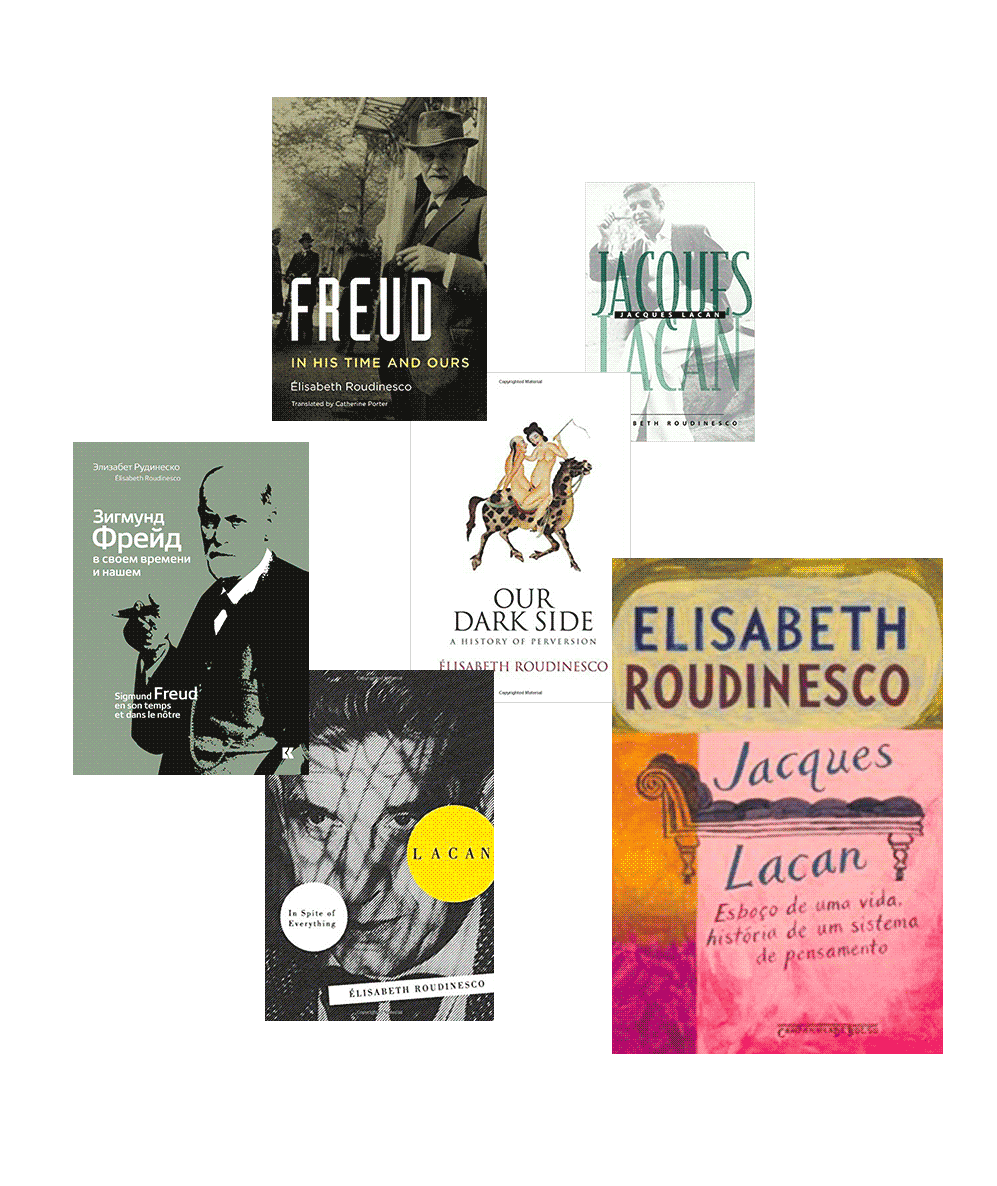
Также меня очень интересовало отношение Фрейда к нацизму. Он предвидел опасность разрушения немецкой цивилизации начиная с 1933 года, но не ожидал аншлюса Австрии, был убежден, что австрийские консерваторы не допустят Гитлера к власти. По этой причине он очень поздно эмигрировал, он был вынужден. Я изучила политические аспекты учения Фрейда: во Франции его часто представляли человеком левых взглядов. Фрейд был бунтовщиком, но консерватором, просвещенным консерватором. Он был немецким просветителем — выступал за эмансипацию женщин, гомосексуалов, против смертной казни, за политические свободы, но он считал необходимым сохранение традиций. Ему очень нравилась английская конституционная монархия: Фрейд полагал, что короля, который превысил свои суверенные права, следовало казнить. Он очень любил Кромвеля, но считал, что после революции нужно было снова установить монархию. Поэтому Фрейду не нравилась французская республиканская модель, он отнесся с большим недоверием к большевистской революции. Он не был нутряным антикоммунистом, потому что мыслил социально, но был убежден, что марксистская революция приведет к диктатуре. Ему не нравилась демократия в целом, он упрекал ее в прагматизме, это хорошо описано в книге «Болезнь культуры». Он был антиамериканистом в том смысле, что видел в Америке смесь пуританизма и прагматизма. Фрейд очень современен тем, что он очень европейский. Психоанализ — европейский феномен, который прижился во всем мире, но в культурном отношении — это европейское явление. Он зародился в Вене в борьбе с национализмом и был поддержан деятелями еврейского просвещения.
Не стоит забывать, что Фрейд был уроженцем Австро-Венгерской империи, которая рухнула в 1918 году, и распад империи походил на деконструкцию привычной ему семьи. Таков главный тезис моей книги, и он не сильно противоречит англоязычным авторам. Я действительно изучала основателя психоанализа в довоенном и послевоенном контекстах, в меняющемся мире, который столкнулся с тягой к смерти, с нацизмом, с диктатурой и в Советском Союзе, и в Германии, где его учение в конечном итоге было запрещено.
Фрейда часто изображают гением, который почти ни на чем не основывался, все придумал сам. Для вас важнее было показать, что он мыслитель своего времени, своей культуры?
Агиография — это худшее, что может случиться с любым мыслителем. Мне кажется, лучший способ показать гениальность мыслителя не поклонение ему, а демонстрация его сложности (такой же операции я подвергла и Лакана). И я предпочитаю моего Фрейда тому образу, который создают его обожатели. Так как я занимаюсь историей, против меня выступают радикальные антифрейдисты, считающие, что Фрейда нужно отправить на помойку, но против меня также выступают идолопоклонники психоанализа, полагающие, что никакие истории Фрейда и психоанализа не нужны, он просто гений, и все. Это неприемлемо — и поклонение, граничащее с религиозностью, и намерение отправить на свалку. Надо признаться, я очень люблю Фрейда — но моего Фрейда, а не идола.
Вы много пишете о еврейском вопросе в Австро-Венгрии, насколько остро эта проблема стояла для Фрейда?
Для меня были очень важны отношения Фрейда с еврейскостью, сложные отношения. Взять, например, его критическое отношение к созданию еврейского государства в Палестине. Он считал, что это будет катастрофой, получится религиозное и националистическое государство, и не ошибся. Фрейд скорее склонялся к идее еврейской диаспоры, он полагал, что евреи не нуждаются в обретении Земли обетованной в религиозном и национальном смыслах — она должна оставаться в голове. Для Фрейда Землей обетованной было изучение бессознательного.
Император Австро-Венгерской империи относился к венским евреям с большой терпимостью, хотя в самой Вене антисемитизма было немало. Евреи могли занимать важные посты — пускай и не политические — в области медицины, права, литературы. Австро-венгерские евреи мечтали о демократической революции, но до 1914 года, невзирая на преследования, их положение было сносным. Что поразительно в венских евреях, так это их общинный дух. Фрейд женился на Марте, еврейке из религиозной семьи, при том что сам он был нерелигиозный человек и испытывал отвращение к религии. Он запретил праздновать дома религиозные праздники, отказался делать обрезание своим детям. Но в то же время еврейство было важно для него в смысле идентичности — как интеллектуальное наследие бунтарской мысли и чувство принадлежности к наиболее преследуемому в истории народу. В этом и состоит его еврейскость: он еврей в смысле еврейства, но не иудаизма [juive au sense de judéité et pas au sense de judaïsme]. Фрейд восхищался Золя, писателями, которые выступали по делу Дрейфуса, однако не был еврейским националистом. Если бы Фрейд родился французом, возможно, он бы женился на нееврейке, потому что во Франции евреи были ассимилированы после Французской революции. Во Франции ты французский гражданин, а в германоязычном мире — одновременно и еврей, и австриец. И когда Фрейд женился в Гамбурге, он хотел, чтобы брак прошел в соответствии с чисто светским обрядом, не в синагоге. Во Франции это было возможно, но, если бы он сделал это в Гамбурге, его брак в Вене не был бы признан, потому что заключать его следовало в своей общине. Так же, как в современном Ливане: гражданский брак предполагает и религиозный. Фрейд оказался в достаточной сложной системе, в Вене были антисемитизм и в то же время возможность занимать видное положение — что, кстати, усилило антисемитизм.
Выше вы говорили о важности связей Фрейда с культурой его времени. Сам он, по вашим словам, в культурном отношении придерживался консервативных позиций, но ведь венская культура того времени была новаторской?
Сам Фрейд в этом отношении парадоксален: он ничего не понимал в современной ему литературе, предпочитал классику, его любимыми писателями были греки, Гете. Пруста он не понял, не очень любил книги Томаса Манна, хотя они дружили. Фрейд мало интересовался современной литературой и совершенно не осознавал, до какой степени его теории ее подпитывали, он ничего не понял в сюрреализме, хотя по характеру своей мысли был модернистом и сам не осознавал этого парадокса. Я описываю его как консерватора, но это, в общем, венский парадокс: в искусстве Вены того времени мы видим возврат к прошлому, который помогал лучше понять настоящее. А Фрейд не понимал художников своей эпохи: он любил Ренессанс, итальянцев — Леонардо и Рафаэля.
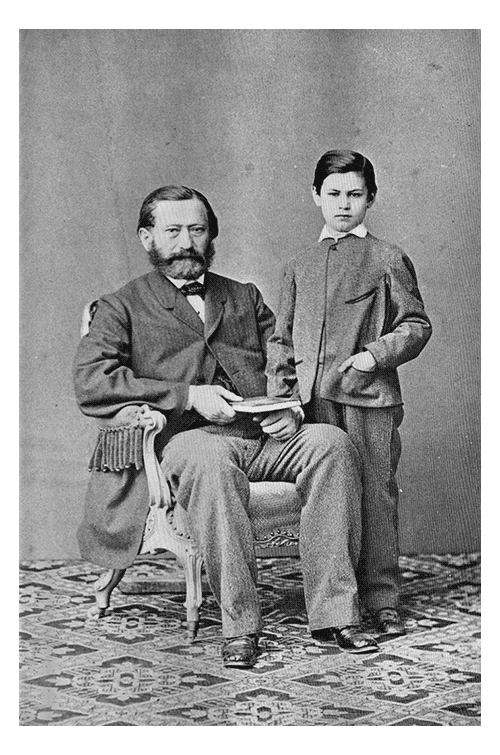
Маленький Зигмунд со своим отцом Якобом Фрейдом, 1864 год
Фото: nyamcenterforhistory.org
Историки фрейдизма уделяют этому вопросу внимание. А вот современные психоаналитики во всем мире (прежде всего практикующие клиницисты) отстранены от культуры, хотя при этом могут быть хорошими врачами. Мы видим это и в России, и в США, и в Англии. Интеллектуальное и культурное наследие Фрейда их не интересует или мало интересует, у них скорее сциентистский подход.
Что, на ваш взгляд, учение Фрейда может дать нам сегодня?
Многое. По-прежнему важна идея о том, что у нас есть бессознательное, которое в какой-то степени доминирует над нами, но к нему можно получить доступ. Мы не являемся живой машиной, наделенной мозгом. В наше весьма прагматичное время мы склонны интерпретировать человека чисто поведенчески, а у Фрейда за человеком стоит некий мир, некая история, и сегодня мы нуждаемся в таком подходе. Например, чтобы понять современную Россию, нужно сперва написать ее историю, а подъем исторической науки сопоставим с интересом к психоанализу. Учение Фрейда — основополагающий инструмент для осмысления религиозного обскурантизма и места, которое занимает религия в жизни людей. И вы очень нуждаетесь во Фрейде, тем более что у вас растет религиозный обскурантизм, ограничивается личная свобода (у нас и в США очевиден такой же регресс). В России наблюдается подъем национализма, страна находится на каком-то повороте. Неизвестно, сколько продлится сегодняшний российский режим — смесь дикого капитализма и возобновленного империализма, евразийства и национализма, — но за этим стоит определенный политический расчет. Ведь Путин совсем не идиот, но ключевой вопрос в том, сколько такая система может продержаться. Мне кажется, что на Западе лежит большая ответственность, потому что после падения коммунизма мы слишком сильно презирали российский народ, во Франции и в США считали, что русские — варвары. Сейчас поняли, что нельзя было так реагировать. В какой-то момент Путин столкнулся с этой реакцией Европы и сделал выводы. Надеюсь, Россия все же вернется на сторону Запада. При этом нужна подлинная история коммунизма, нельзя проводить знак равенства между коммунизмом и нацизмом. Я приезжала в Советский Союз в 1970-е годы, видела конец коммунизма, перестройку и возвращение к религии. Помню путешествие в Петербург в 2000-е годы — я видела очень молодых людей, родители которых были активными коммунистами, а потом обратились к религии. Это была снова имперская Россия, довольно удивительное явление. Конечно, чтобы выйти из этой ситуации, понадобится время.
Негативные тенденции очевидны не только у нас, но и в других странах. Например, «Горький» писал недавно о вашем соотечественнике Мишеле Онфре, очень популярном во Франции авторе, — вы нашли в его книге о Фрейде около шестисот ошибок. Почему сегодня такие фигуры на виду, а традиция мыслителей вроде Делеза и Фуко как будто малозаметна?
Онфре — медийный полемист, он не мыслитель. У него один университетский диплом, он графоман, который подвергает нападкам все институции на достаточно глупых основаниях, выступает против всего того, что обусловило величие современной мысли — против Сартра, Фрейда, Фуко, Делеза и так далее. Он антиевропеец, антикапиталист, антикоммунист, антимодернист, пишет о возврате к земле, восхваляет рождение в бедности. То, что я увидела в его книге о Фрейде, просто невероятно. Неправильно указаны даты, Фрейд обвиняется в том, что спал с сестрой своей жены и что у него родился от нее ребенок, что она сделала аборт в 1923 году (ей тогда вообще-то было 58 лет), и все в таком роде. Я даже не спорила с его идеями, просто дала список ошибок, но он отказался их признавать.
Такого рода персонажи — большая проблема современной Франции. В 1990-х годах появились так называемые новые философы, которые пришли в СМИ и присвоили себе право говорить все что угодно. Я отношусь к тому же поколению и думаю, что многие серьезные интеллектуалы просто не считают для себя достойным появляться в медиа. Они оставили эту нишу полемистам, то есть интеллектуальные дискуссии в медиа ведутся людьми вроде Бернара Анри-Леви (это, по сути, тот же Онфре, но более светский). Мне кажется, что сейчас мы подошли к завершению этой эпохи.
Нельзя сказать, что появилось новое поколение, пришедшее на смену Фуко, Делезу и т. д. Я принадлежу к поколению их наследников, мы занимаем какое-то место в прессе, мы не дураки, и академическая мысль пользуется определенным влиянием во Франции. Сейчас пальма первенства принадлежит скорее историкам, чем философам, но в России их мало переводят. Есть у нас и политические проблемы: подъем крайне правых, ненависть к Французской революции, Мари Ле Пен, левый фланг раздроблен — левый популист Жан-Люк Меланшон, катастрофа социалистической партии. Одним словом, все сложно.