Девушки, цветущие под сенью литературного национализма
Интервью с литературоведом и переводчиком Сергеем Фокиным
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Мои университеты
Отслужив в армии в 1977–1979 годах, я решил поступать на исторический факультет Ивановского университета — меня всегда тянуло к истории и историям. Тогда существовала система рабфаков, или подготовительных отделений, и вот на таком отделении я проучился два семестра, причем на французский язык, который я до армии изучал в сельской школе, там отводилось огромное по современным меркам количество часов — до четырех часов в день пять дней в неделю. Но главное, наверное, было не в этом: занятия вела молодая очаровательная «девушка в цвету», если вспомнить образ Пруста, в которую были поголовно влюблены вчерашние солдаты. В группе было несколько ребят, кто-то собирался на истфак, кто-то на юрфак, самые дальновидные — на экономический. Выпускной экзамен по французскому языку принимал корифей романской филологии — Исаак Абрамович Исенин. Он в свое время основал кафедру французского в Ивановском педагогическом институте, но к тому моменту уже покинул пост и преподавал историю языка. Заприметив пару отличников на экзамене, он предложил нам поступать на филологию, что мы с моим приятелем и сделали, немало удивив будущих юристов, экономистов и историков. Сейчас, когда у меня за плечами опыт создания и заведования кафедрой романских языков в Санкт-Петербургском экономическом университете, я понимаю, что ему было просто интересно поработать с молодыми людьми. На филологию, и тем более французскую, поступали в основном девушки... «в цвету».
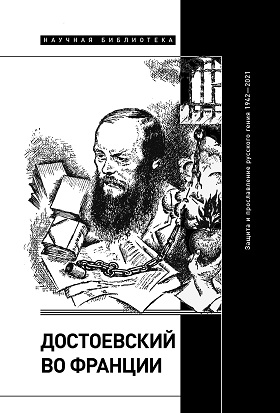 В один миг пролетели университетские годы. У нас были потрясающие преподаватели: с теплом вспоминаю В. М. Дебова, он тогда только что вернулся из Алжира, и сейчас продолжает трудиться на ниве французской филологии; немецкий преподавал Ю. Л. Цветков, ныне профессор кафедры зарубежной филологии ИвГУ, известный германист; русскую литературу читала обворожительная Н. В. Дзуцева, наизусть читавшая стихи поэтов Серебряного века. Заведующая кафедрой французского языка Е. С. Кривушина во многом определила мою последующую жизнь — у нее (буквально дома) я писал диплом, посвященный влиянию Ф. М. Достоевского на А. Камю: экзистенциализм был у всех на устах. Рецензентом диплома стал А. Н. Таганов — молодой тогда преподаватель, он читал нам курсы по зарубежной литературе и уже готовил докторскую диссертацию о раннем Марселе Прусте. Он был и остается одним из ведущих специалистов по Прусту в России. Удивительно, что его занимали не «классические», но ранние тексты писателя — вроде незавершенного и многотрудного романа «Жан Сантёй» или отложенного в сторону замысла книги «Против Сент-Бёва». А. Н. Таганов одарил меня и своими знаниями, и своей дружбой, я ему безмерно благодарен. Он по-прежнему работает в Ивановском университете, и мы до сих пор сотрудничаем: он приглашает меня в свои проекты, а я его — в свои. Одним из наших совместных проектов стала книга «Достоевский во Франции. Защита и прославление русского гения», вышедшая в прошлом году.
В один миг пролетели университетские годы. У нас были потрясающие преподаватели: с теплом вспоминаю В. М. Дебова, он тогда только что вернулся из Алжира, и сейчас продолжает трудиться на ниве французской филологии; немецкий преподавал Ю. Л. Цветков, ныне профессор кафедры зарубежной филологии ИвГУ, известный германист; русскую литературу читала обворожительная Н. В. Дзуцева, наизусть читавшая стихи поэтов Серебряного века. Заведующая кафедрой французского языка Е. С. Кривушина во многом определила мою последующую жизнь — у нее (буквально дома) я писал диплом, посвященный влиянию Ф. М. Достоевского на А. Камю: экзистенциализм был у всех на устах. Рецензентом диплома стал А. Н. Таганов — молодой тогда преподаватель, он читал нам курсы по зарубежной литературе и уже готовил докторскую диссертацию о раннем Марселе Прусте. Он был и остается одним из ведущих специалистов по Прусту в России. Удивительно, что его занимали не «классические», но ранние тексты писателя — вроде незавершенного и многотрудного романа «Жан Сантёй» или отложенного в сторону замысла книги «Против Сент-Бёва». А. Н. Таганов одарил меня и своими знаниями, и своей дружбой, я ему безмерно благодарен. Он по-прежнему работает в Ивановском университете, и мы до сих пор сотрудничаем: он приглашает меня в свои проекты, а я его — в свои. Одним из наших совместных проектов стала книга «Достоевский во Франции. Защита и прославление русского гения», вышедшая в прошлом году.
Возвращаясь к защите диплома, замечу, что с Камю я собирался пойти в аспирантуру Ленинградского университета. В то время это было довольно непросто, потому что действовала система распределения. Меня распределили в среднюю школу в Иваново, что было невероятной удачей, так как выпускники факультета романо-германской филологии разъехались по сельским школам преподавать свои иностранные языки, а горстку особенно благонадежных принял местный КГБ. Школа — также потрясающий опыт, я преподавал в основном в младших классах новой школы на окраине, ребята были непростые. Не за горами были 1990-е, так что можно представить, какие у них складывались судьбы.
Но меня не отпускала идея поступления в аспирантуру, а для этого нужно было перейти из средней школы в вуз: по тем временам это был подвиг, и я штурмовал министерство образования, добиваясь своего увольнения. Поэтому отдельную роль в моей жизни сыграл Ивановский энергетический институт, достаточно успешный в своей сфере, насколько я могу судить. Туда я пришел на кафедру иностранных языков и проработал еще год-два, прежде чем смог наконец подать документы в аспирантуру Ленинградского университета. Аспирантура пролетела в два счета: это был рубеж 1980–1990-х годов, мы жили бедно, но весело. Почти сразу после защиты я поступил в докторантуру кафедры истории зарубежной литературы СПбГУ. Мне везло на учителей: Ю. В. Ковалев, М. В. Разумовская, Т. В. Соколова, А. И. Владимирова, но главным был В. Е. Балахонов, человек необычайно подвижного ума, обездвиженный к концу жизни ранениями, полученными на войне. Именно Виктор Евгеньевич, мой научный руководитель, пробудил во мне интерес к эпистолярному жанру, о значении которого нужно поговорить отдельно. Мы много с ним общались сперва по поводу Камю, затем Батая, и нужно отдать ему должное: этот человек старой закалки принял тогда к руководству тему по творчеству писателя, о котором у нас мало кто и что знал в начале 1990-х, — поэзия и порнография, экономика и социология, сюрреализм и экзистенциализм.
Если в аспирантуре я проглядел литературный Ленинград-Петербург, то в середине 1990-х мои университеты обогатились через сближение с группой замечательных петербургских литераторов, переводчиков и поэтов — в основном на почве подготовки антологии «Танатография эроса» и перевода «Внутреннего опыта» Батая, которые вышли в свет в издательстве А. Наследникова в середине 1990-х: это были А. Драгомощенко, С. Завьялов, В. Лапицкий, Б. Останин, А. Скидан и О. Волчек, с которой я вскоре связал свою жизнь. Мы много работали, немного менялись, много смеялись, и в том числе над русской университетской философией.
Может ли философ быть все время вне себя?
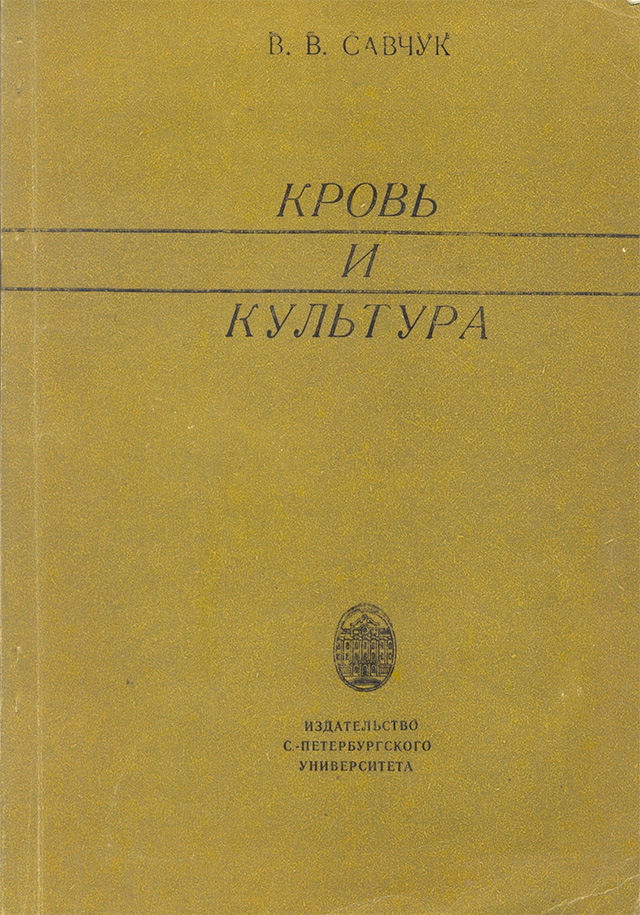 Меня всегда интересовала философия, этот интерес подогревался моим давним другом В. В. Савчуком, автором эпохальной книги «Кровь и культура» (1994), который в настоящее время выступает в роли защитника русской университетской философии, хотя когда-то учил, что философия может быть где угодно, только не в университете. Моя книга про Батая, сделанная на основе докторской диссертации, называлась «Философ-вне-себя» — это название возникло из вопроса Батая о том, может ли философ быть все время вне себя. Естественно, не может, но иногда, а порой даже часто, человеку случается выходить из себя, вот почему Батай думал, что необходимо предаваться философии в таком состоянии и его рефлексировать. Благодаря работе с батаевским творчеством я заинтересовался корпусом текстов, которые, как правило, в университетской истории философии оказываются в сомнительном положении — письмами философов. Обычно историки философии изучают трактаты, сочинения, манифесты, по которым излагается философия того или иного мыслителя, но при этом упускается из виду то, что философы могут выходить из себя, и лучшее тому свидетельство — личные письма. Из этого интереса возникло мое внимание к эпистолярным, мемуарным, дневниковым жанрам, в которых случалось работать философам.
Меня всегда интересовала философия, этот интерес подогревался моим давним другом В. В. Савчуком, автором эпохальной книги «Кровь и культура» (1994), который в настоящее время выступает в роли защитника русской университетской философии, хотя когда-то учил, что философия может быть где угодно, только не в университете. Моя книга про Батая, сделанная на основе докторской диссертации, называлась «Философ-вне-себя» — это название возникло из вопроса Батая о том, может ли философ быть все время вне себя. Естественно, не может, но иногда, а порой даже часто, человеку случается выходить из себя, вот почему Батай думал, что необходимо предаваться философии в таком состоянии и его рефлексировать. Благодаря работе с батаевским творчеством я заинтересовался корпусом текстов, которые, как правило, в университетской истории философии оказываются в сомнительном положении — письмами философов. Обычно историки философии изучают трактаты, сочинения, манифесты, по которым излагается философия того или иного мыслителя, но при этом упускается из виду то, что философы могут выходить из себя, и лучшее тому свидетельство — личные письма. Из этого интереса возникло мое внимание к эпистолярным, мемуарным, дневниковым жанрам, в которых случалось работать философам.
В этом отношении важным этапом стала работа над «Дневниками странной войны» Жан-Поля Сартра, которые следует рассматривать как черновики знаменитого трактата «Бытие и ничто» (1943), но если в самом трактате Сартр вполне себе в себе, то в «Дневниках» он часто вне себя: сводит счеты с редакторами, с соперниками по литературному полю, бесится из-за неверности Симоны де Бовуар, описывает завязи собственных связей с «девушками в цвету», набрасывает целые главы будущего трактата.
Что такое литературный национализм
Исходя из творчества Батая, я стал работать с более широким кругом французских авторов 1930-х годов. На рубеже нулевых мы с О. Волчек, незабвенным Л. М. Цывьяном и Г. П. Скворцовым сделали перевод дневника Пьера Дриё ла Рошеля — одного из самых скандальных авторов литературы Франции. Это был характерный представитель литературного национализма, хотя он был одержим не столько идеей французской уникальности, сколько идеей единой Европы, что и заставило его в свое время достаточно оптимистично смотреть на Гитлера, национал-социализм и фашизм. В 1934 году он выпустил в свет книгу «Фашистский социализм», где с пониманием сути дела писал о гитлеровской Германии и сталинской России. Вместе с тем он оставался замечательным французским писателем, который в ранние годы был тесно связан с сюрреалистами. Война была основной темой его прозы, он воевал в Первую мировую и написал одну из лучших французских книг об этой войне — сборник новел «Комедия Шарлеруа». Во время второй войны и немецкой оккупации он взвалил на себя непомерную ношу, решив спасти французскую литературу, встав во главе одного из самых престижных журналов того времени — «Нового французского обозрения» (La Nouvelle Revue française). Благодаря ему журнал продолжил выходить в условиях немецкой оккупации. Несмотря на неоднозначность или даже предосудительность такого решения, он сумел добиться того, чтобы французские писатели продолжали печататься и получать за это гонорары, что было невероятно важно в то трудное время. В конце концов он сам совершил над собой суд и покончил жизнь самоубийством, правда не с первой попытки.
В его круг входили молодые французские литераторы-фашисты, например Робер Бразийак — успешный романист и яркий публицист, утонченный эстет и декадент в духе модного тогда во Франции Габриэле Д’Аннунцио. Он был одним из первых историков кино и написал книгу о «великом немом», которую незамедлительно перевели в США, страстно любил советский кинематограф (его воодушевлял фильм «Мы из Кронштадта» Ефима Дзигана). Перу Бразийака принадлежит одна из самых интересных автобиографий 1930-х годов — «Наша довоенная эпоха» (1941). После того, что во Франции называют Освобождением, писателя приговорили к высшей мере наказания и расстреляли. Ныне его проза переиздается очень маленькими тиражами в небольших издательствах.
Есть и другие авторы, куда более важные для французской литературы, например Шарль Моррас, о котором мне также приходилось писать. Это была настолько колоссальная фигура, что даже появился термин «моррасизм», а влияние Морраса в 1930-е годы сравнивают с влиянием коммунизма. Он проповедовал мощную национальную идеологию, был главой движения «Французское действие», вдохновлявшего околофашистскую молодежь Франции. После войны он тоже был осужден, как и Бразийак, но из-за своего преклонного возраста и огромного авторитета отделался пожизненным сроком. Парадокс заключается в том, что Моррас, будучи французским националистом, всегда выступал против Германии, а в итоге был осужден за сотрудничество с ней.
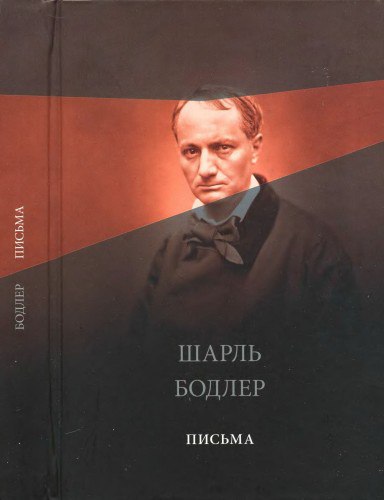 Как я вышел на всех этих французских писателей националистического толка? Наверное, через книгу о Шарле Бодлере, которая сложилась из ряда статей, посвященных отдельным сторонам творчества автора «Цветов зла». Поздние тексты поэта и его письма (в 2012-м мы с коллегами из СПбГУ выпустили том «Избранных писем» Бодлера) дают основания полагать, что к концу жизни он при всей своей сомнительной репутации декадента и космополита стал ощущать себя защитником «французского духа». Один из последних замыслов поэта был связан с книгой о Бельгии. Это книга против бельгийцев, которая в разных вариантах должна была назваться или «Раздетая Бельгия», или «Бельгия как она есть». Если бы книга сложилась, это было бы, наверное, одно из самых ксенофобных сочинений французской литературы.
Как я вышел на всех этих французских писателей националистического толка? Наверное, через книгу о Шарле Бодлере, которая сложилась из ряда статей, посвященных отдельным сторонам творчества автора «Цветов зла». Поздние тексты поэта и его письма (в 2012-м мы с коллегами из СПбГУ выпустили том «Избранных писем» Бодлера) дают основания полагать, что к концу жизни он при всей своей сомнительной репутации декадента и космополита стал ощущать себя защитником «французского духа». Один из последних замыслов поэта был связан с книгой о Бельгии. Это книга против бельгийцев, которая в разных вариантах должна была назваться или «Раздетая Бельгия», или «Бельгия как она есть». Если бы книга сложилась, это было бы, наверное, одно из самых ксенофобных сочинений французской литературы.
Работа над поздними текстами Бодлера вывела меня к целому ряду французских писателей XIX-XX веков, которые с большим или меньшим основанием могут быть причислены к литературному национализму, — это, разумеется, не какое-то отдельное течение, скорее определенная тенденция интеллектуальной жизни. К ней так или иначе относятся братья Гонкуры, отец и сын Доде, М. Баррес, П. Валери, Л. -Ф. Селин, Ж. Полан и т. д., вплоть до скандально знаменитого сегодня Р. Мийе.
Проклятая раса
Если вернуться к Прусту, то характерно, что в прошедшие юбилейные годы в свет вышли две весьма симптоматичные книги: «Пруст со стороны евреев» Антуана Компаньона, где воссоздается первая рецепция романов Пруста со стороны франкоязычной еврейской диаспоры в Европе, и «Пруст: прощание с еврейским миром» (фр. L’adieu au monde juif) Пьера Бринбаума, где исследуется довольно непростое отношение французского писателя к еврейству, при том что он сам был евреем по матери, хотя и воспитанным в католичестве.
Оба автора, которые дружны в жизни, при всех различиях в подходах и деталях сходятся в том, что у Пруста мы видим, с одной стороны, повышенное внимание к еврейству, с другой же — резко критический или ироничный взгляд на него. Например, связка еврейства и гомосексуализма — одна из сильнейших интриг романа «В поисках утраченного времени», причем мы понимаем, что речь идет о гомосексуализме и еврействе самого Пруста. Соединение этих вещей в одну — одна из интереснейших нитей всего романа. Среди черновых рукописей к книге «Против Сент-Бёва» есть большой фрагмент (он не вошел в русское издание книги) под названием «Проклятая раса» — наиболее развернутое размышление писателя на эту сложносоставную тему. Ожесточение политической позиции Пруста связано с Первой мировой войной, когда роман о любви и становлении писателя превращается в эпопею в духе «Войны и мира». То, как писать светский роман, Пруст определенно воспринимал сквозь призму прозы Толстого. Так что в книге о французском литературном национализме наряду с этюдом о Бодлере будет, даст бог, этюд о Прусте-политике.
В тени цветущих девушек
 Несколько лет назад в архиве прустоведа Бернара де Фаллуа были обнаружены ранние рукописи Пруста, которые издал профессор Страсбургского университета Люк Фрес в 2020 году. Мне посчастливилось работать над переводом этой странной книги, книги-призрака: «Таинственный корреспондент и другие ранее не публиковавшиеся новеллы» (Текст, 2021). «Горький» писал об этой публикации. Эти отрывки — довольно непростые, поскольку это именно черновики, в которых мы находим Пруста до Пруста. Перевод оказался для меня невероятным опытом — интереснейшим переводческим упражнением. Мне доводилось переводить много разных текстов — и сложных вроде «Феноменологии восприятия» М. Мерло-Понти, и довольно примитивных вроде «Нового духа капитализма» Л. Болтански, — но здесь были просто черновики: где-то слова были вычеркнуты, где-то находились вставки — это была реконструкция реконструкции. Тем не менее в этих ранних опытах есть потрясающие страницы, особенно про музыку, неопознанную любовь, страсти души. Там же можно обнаружить темы, о которых Пруст впоследствии будет говорить не так откровенно, например гомосексуальные отношения, представленные в нескольких новеллах; вместе с тем там есть одна вещь, «Сознание любви», где инверсивная страсть представлена через фантасмагорическую фигуру «полукошечки-полубелочки», по-своему предвосхищающую анималистические фантазии Ф. Кафки в духе «полукошечки-полуягненка» из притчи «Гибрид». В этих черновиках видно, что автор хочет об этом писать, но пока еще не знает каким образом. Поэтому, как мне кажется, эти записи достойны того, чтобы через них посмотреть на классического Пруста с другой стороны.
Несколько лет назад в архиве прустоведа Бернара де Фаллуа были обнаружены ранние рукописи Пруста, которые издал профессор Страсбургского университета Люк Фрес в 2020 году. Мне посчастливилось работать над переводом этой странной книги, книги-призрака: «Таинственный корреспондент и другие ранее не публиковавшиеся новеллы» (Текст, 2021). «Горький» писал об этой публикации. Эти отрывки — довольно непростые, поскольку это именно черновики, в которых мы находим Пруста до Пруста. Перевод оказался для меня невероятным опытом — интереснейшим переводческим упражнением. Мне доводилось переводить много разных текстов — и сложных вроде «Феноменологии восприятия» М. Мерло-Понти, и довольно примитивных вроде «Нового духа капитализма» Л. Болтански, — но здесь были просто черновики: где-то слова были вычеркнуты, где-то находились вставки — это была реконструкция реконструкции. Тем не менее в этих ранних опытах есть потрясающие страницы, особенно про музыку, неопознанную любовь, страсти души. Там же можно обнаружить темы, о которых Пруст впоследствии будет говорить не так откровенно, например гомосексуальные отношения, представленные в нескольких новеллах; вместе с тем там есть одна вещь, «Сознание любви», где инверсивная страсть представлена через фантасмагорическую фигуру «полукошечки-полубелочки», по-своему предвосхищающую анималистические фантазии Ф. Кафки в духе «полукошечки-полуягненка» из притчи «Гибрид». В этих черновиках видно, что автор хочет об этом писать, но пока еще не знает каким образом. Поэтому, как мне кажется, эти записи достойны того, чтобы через них посмотреть на классического Пруста с другой стороны.
Что касается того, как влияют открытия ранних записей Пруста на наше восприятие его творчества, то здесь показательным примером может быть осуществляемый ныне Еленой Баевской новый перевод романов Пруста. Это воистину грандиозное начинание. На сегодняшний день вышло три или четыре тома нового перевода, в котором учитываются те слабости, которые были в переводе Н. М. Любимова 1970-х годов, и те недостатки, которые были в переводе А. А. Франковского и А. В. Федорова 1930-х. Баевская делает более современный перевод, более изысканный, более элегантный. Возможно, даже несколько увлекается этим изяществом, когда называет второй том «Под сенью дев, увенчанных цветами». Меня такое название немного коробит, потому что речь идет о нимфетках рубежа веков, которые любят любить, любят одна другую, любят кататься на велосипедах и автомобилях, играют в спортивные игры. Мне по душе вариант первых русских переводчиков и критиков Пруста — простой, но не менее изящный — «В тени цветущих девушек».
Тем не менее начинание Елены Баевской можно только поддержать. Я и сам когда-то мечтал заново перевести всего Пруста. Мы с моей супругой Ольгой Волчек делали на рубеже 1990–2000-х годов примечания к переводу Любимова для издательства «Амфора». Но у нас было ограничение: мы не могли трогать перевод, даже на уровне исправления элементарных неточностей. Многие вещи в этих переводах продиктованы московской культурой 1970-х годов — это был перевод на язык этого времени и этого места. Это не плохо и не хорошо, просто так сложилось. Перевод же Франковского и Федорова осуществлялся исходно на дореволюционном русском, на языке высочайшей интеллектуальной культуры, и был в некотором роде конгениален языку Пруста, а местами даже его превосходил — по силе умозрения, ибо перевод может быть превосходнее оригинала, в смысле гегелевского «снятия» (Aufheben), поскольку неизбывно рефлексивен, все время оставаясь, правда, в тени оригинала: об этом прекрасно писал Г. Дашевский в статье «Пропасти перевода».
Декарт и рыцарь печального образа
 Несколько лет назад, работая над текстами Ш. Пеги, творчество которого также соотносится с литературным национализмом, я наткнулся на письма Рене Декарта, которые никогда меня не интересовали, как и литература XVII века вообще. Наметанный глаз сразу ухватил историю с «девушками в цвету»: речь идет о переписке философа с принцессой Елизаветой Богемской и королевой Швеции Кристиной. Из этой истории возникла книга «Гений кривомыслия. Рене Декарт и французская словесность Великого Века», которая только что вышла в свет. Не буду ее пересказывать, скажу лишь, что не хотел превращать философа в писателя — он и так считался, по авторитетному суждению Жана Шаплена, одного из отцов-основателей Французской академии, «самым красноречивым автором нашего времени». Наверное, наиболее провокативный ход в этой книге (не мне, конечно, судить, но все же) — попытка прочитать «Рассуждение о методе» как прототип романа воспитания, создававшийся с учетом моды на рыцарские романы и рецепции «Дон Кихота» во Франции в начале XVII века. Мольер и Гез де Бальзак, Лафонтен и Теофиль де Вио — вот литературные попутчики философа в этой книге. Наши философы, должно быть, возмутятся, но я пытаюсь также показать, что Декарт был одним из первых антиуниверситетских философов в европейской традиции. Например, «Метафизические медитации» он задумывает как перформанс avant la lettre: не просто выпускает книгу, но списывается с избранным кругом предполагаемых оппонентов, высылает им рукописи еще не изданного труда, просит выступить с возражениями, отвечает на них, и в итоге получается не просто книга философских медитаций, а огромный том с возражениями Гассенди, Гоббса или Мерсенна и ответами автора. Впрочем, каждое сочинение Декарта — не просто книга, а целое философское представление. Он же не был в строгом смысле университетским философом, как Кант, например. Впрочем, смерть Декарта, историю которой я рассказываю в конце книги, демонстрирует, что определенного рода упертость, граничившая с интеллектуальным аутизмом, роднила автора трактата «Страсти души» с философской братией: согласно легенде, заболевший в Стокгольме Декарт не подпускал к себе врачей, которые должны были назначить ему кровопускание, умоляя при этом: «Пощадите французскую кровь!» Чем не французский рыцарь печального образа?
Несколько лет назад, работая над текстами Ш. Пеги, творчество которого также соотносится с литературным национализмом, я наткнулся на письма Рене Декарта, которые никогда меня не интересовали, как и литература XVII века вообще. Наметанный глаз сразу ухватил историю с «девушками в цвету»: речь идет о переписке философа с принцессой Елизаветой Богемской и королевой Швеции Кристиной. Из этой истории возникла книга «Гений кривомыслия. Рене Декарт и французская словесность Великого Века», которая только что вышла в свет. Не буду ее пересказывать, скажу лишь, что не хотел превращать философа в писателя — он и так считался, по авторитетному суждению Жана Шаплена, одного из отцов-основателей Французской академии, «самым красноречивым автором нашего времени». Наверное, наиболее провокативный ход в этой книге (не мне, конечно, судить, но все же) — попытка прочитать «Рассуждение о методе» как прототип романа воспитания, создававшийся с учетом моды на рыцарские романы и рецепции «Дон Кихота» во Франции в начале XVII века. Мольер и Гез де Бальзак, Лафонтен и Теофиль де Вио — вот литературные попутчики философа в этой книге. Наши философы, должно быть, возмутятся, но я пытаюсь также показать, что Декарт был одним из первых антиуниверситетских философов в европейской традиции. Например, «Метафизические медитации» он задумывает как перформанс avant la lettre: не просто выпускает книгу, но списывается с избранным кругом предполагаемых оппонентов, высылает им рукописи еще не изданного труда, просит выступить с возражениями, отвечает на них, и в итоге получается не просто книга философских медитаций, а огромный том с возражениями Гассенди, Гоббса или Мерсенна и ответами автора. Впрочем, каждое сочинение Декарта — не просто книга, а целое философское представление. Он же не был в строгом смысле университетским философом, как Кант, например. Впрочем, смерть Декарта, историю которой я рассказываю в конце книги, демонстрирует, что определенного рода упертость, граничившая с интеллектуальным аутизмом, роднила автора трактата «Страсти души» с философской братией: согласно легенде, заболевший в Стокгольме Декарт не подпускал к себе врачей, которые должны были назначить ему кровопускание, умоляя при этом: «Пощадите французскую кровь!» Чем не французский рыцарь печального образа?
Под занавес можно вспомнить слова М. Хайдеггера, новейшую французскую биографию которого мы заканчиваем переводить вместе с О. Волчек. Анализируя европейскую историю XX века, он пишет: французы проиграли в 1940 году немцам именно потому, что не удержались на той высоте метафизики, куда вознеслись вместе с Декартом, основоположником последней, которую автору «Бытия и времени» так хотелось преодолеть, что он сделал ставку на национал-социализм. Характерно, что после 1945 года, пройдя через унижение чисток немецких университетов, Хайдеггер нашел поддержку и опору именно среди французских философов. Но это уже другая тема, большая и больная.