«Чума», или Евангелие ХХ века
О чем сегодня может рассказать знаменитый роман Альбера Камю
Ответ на вопрос о том, чем вызван сегодняшний книжный бум вокруг произведения, опубликованного в далеком 1947 году, на первый взгляд, очевиден. Буквальный смысл этого философского романа Альбера Камю — изображение эпидемии чумы в алжирском городе Оране — вызывает прозрачные ассоциации с сегодняшним днем. Однако тут необходима оговорка.
Сюжет «Чумы» построен в виде хроники, описывающей языком объективной летописи события, случившиеся в Оране в 194… году. Первые три цифры с многоточием вызывают ассоциации с другим страшным бедствием из недавнего прошлого — со Второй мировой войной.
Для Камю — одного из основоположников французского экзистенциализма и нобелевского лауреата по литературе — чума явилась емким символом, воплощающим не только конкретную болезнь, но и зло во всей его многоликости. Прежде всего, это отсылка к «коричневой чуме» — фашизму.
Типология стихийного бедствия
Для привлечения читательского интереса Камю выбирает неправдоподобную, выходящую за рамки здравого смысла, историю — рассказ об эпидемии чумы, разразившейся в середине XX столетия. Это нарушает историческую достоверность — к тому времени болезнь давно была истреблена.
Но через «чрезмерное» Камю стремится раскрыть типологию стихийного бедствия — будь это эпидемия, природная катастрофа или война. Замысел писателя подчеркивается эпиграфом из Даниэля Дефо: «Если позволительно изобразить тюремное заключение через другое тюремное заключение, то позволительно также изобразить любой действительно существующий в реальности предмет через нечто вообще несуществующее».
Движение романа подчинено ритму эпидемии. В хронике с объективной точностью воспроизводится поэтапное распространение болезни. В начале, по ночам, крысы появляются небольшими группами «от окраин до центра города» (здесь и далее цитируется русский перевод Надежды Жарковой). В последующие дни положение ухудшается: на улицах города, при свете дня, появляются полчища крыс.
 Но и жители, и городская администрация стараются не замечать грозных знаков надвигающейся катастрофы. Стремление населения спрятаться от очевидности обобщается писателем до универсальных стереотипов поведения. В подробном воспроизведении событий отмечаются первые случаи смертельных исходов. Но администрация по-прежнему не предпринимает никаких мер, чтобы, не дай бог, не посеять паники.
Но и жители, и городская администрация стараются не замечать грозных знаков надвигающейся катастрофы. Стремление населения спрятаться от очевидности обобщается писателем до универсальных стереотипов поведения. В подробном воспроизведении событий отмечаются первые случаи смертельных исходов. Но администрация по-прежнему не предпринимает никаких мер, чтобы, не дай бог, не посеять паники.
«Общественное мнение — это святая святых, никакой паники». Рассматривая историю как «развертывающийся во времени хаос», как циклическое повторение стереотипных ситуаций, Камю рассказывает типологию стихийного бедствия.
Но как только кривая смертности резко пошла вверх, было официально объявлено об эпидемии — и город закрыли для въезда и выезда. «Зачумленный» Оран оказался изолирован от остального мира. Первое, что принесло согражданам «новое качество» существования, — заточение и острое чувство изоляции от близких.
Снабжение было лимитировано, продажа бензина строго ограничена, у магазинов выстраивались очереди. Рестораны и кафе были заполнены. «Пили крепко. Одно кафе извещало публику, что чем больше пьешь, тем скорее микробов убьешь». Наряду со страхом в людях зрело страстное желание жить, как это бывает «в лоне больших катастроф».
Определяя движение от конкретного к вневременному, писатель создал мир замкнутого, герметичного пространства.
 Арнольд Бёклин, «Чума», 1898
Арнольд Бёклин, «Чума», 1898Символический образ зачумленного Орана, изолированного от всего мира, создается не только из повторения стереотипных ситуаций, но и из мозаики отсылок к историческим хроникам различных эпох: это и «зачумленные Афины», описанные Фукидидом в «Истории Пелопонесской войны», и «марсельские каторжники, складывающие трупы» из хроники «Чумы 1720 года в Марселе и во Франции» П. Л. Гафареля, и «погосты Милана», отсылающие к строкам из «Физиологии страстей» (1825) Ж. -Л. Алибера.
Эти ассоциации эмоционально соединяют события в Оране с «вечностным фоном». Отрезанный от мира Оран вбирает в себя все конкретные черты города, оказавшегося в зоне стихийного бедствия: черный рынок, предсказания, дефицит, «атмосфера страха, удушья, изгнания».
Эпидемия приобретала массовый размах, была введена ускоренная процессия похорон, о которой свидетельствовал круглосуточный дымок над печами крематория. Мифологизируя историю, Камю расширяет семантическое поле эпидемии, создавая прозрачные ассоциации с конкретно-историческим событием — Второй мировой войной.
«Чума» — емкий символ: это и метафора фашизма, и многоликость зла, и трагизм человеческого существования. В афоризме одного из персонажей романа содержится многозначность его толкования: «А что такое, в сущности, чума? Та же жизнь, и все тут».
Человек бунтующий
В этой ситуации на «грани» каждый из героев Камю делает свой свободный выбор — быть на стороне бедствия или Сопротивления ему. «Как только ворота города захлопнулись, все жители обнаружили, что угодили в одну и ту же западню, и что придется к ней приспосабливаться».
Даже парижский репортер Рамбер, застигнутый врасплох чумой и карантином, поначалу отчаянно пытавшийся вырваться на волю, в Париж, к любимой женщине, в конце концов осознал, что «стыдно быть счастливым в одиночку». «Непричастный» поначалу, он осознает свою причастность истории и ответственность за происходящее. «Это история касается равно нас всех».
Тарру, как и журналист Рамбер, тоже не из «этих мест». Но, в отличие от Рамбера, он без колебаний становится в ряды санитаров, чтоб «хоть как-то ограничить размах действия» чумы. Для Тарру «правильный путь» выбран без колебаний — сопротивление, «борьба с эпидемией», так как «существуют бедствия и жертвы, ничего больше».
Экзистенциальное прозрение Тарру в ситуации «на грани» приводит к осознанию трагических противоречий «чумы», проявляющихся как в сметающем все на своем пути потоке истории, так и в человеческой природе, «зараженной» микробом преступлений и прегрешений. «Мне известно, что каждый носит чуму в себе... И надо безостановочно следить за собой, чтобы, случайно забывшись, не дохнуть в лицо другому и не передать ему заразы».
Логика «трагического знания» придает сопротивлению Тарру оттенок безысходности: «Быть зачумленным весьма утомительно. Но еще более утомительно не желать им быть». Нежизнеспособность позиции Тарру проявляется в его смерти в самом конце эпидемии.
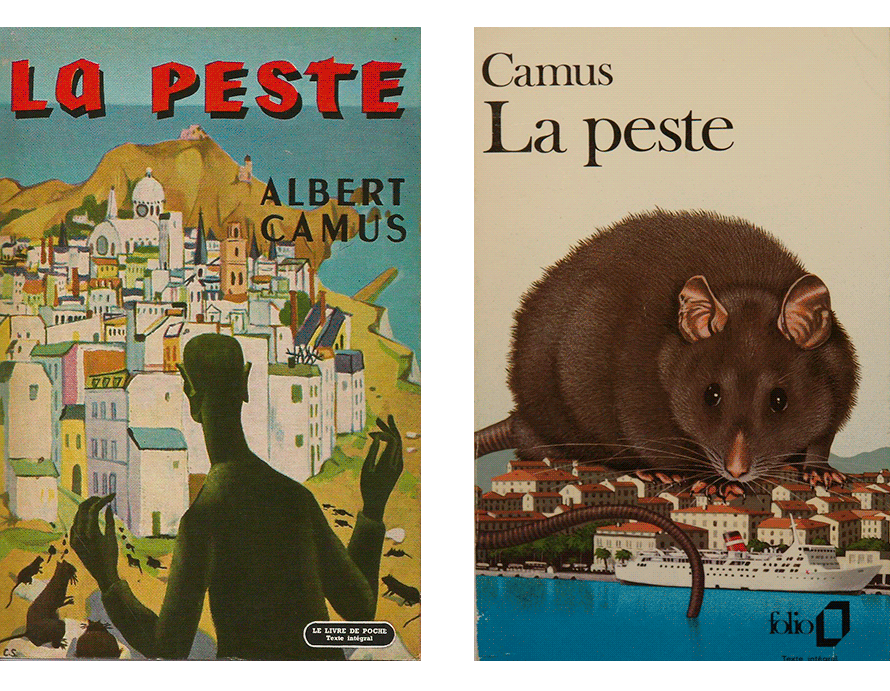
Бернар Рие, на которого возложена функция летописца оранской трагедии, относится как раз к той «категории врачей», для которых, в отличие от Тарру, контуры долга четко очерчены профессией: «сейчас есть больные, и их нужно лечить».
Рие взвалил на себя всю ответственность за спасение Орана — организацию санитарных дружин, налаживание карантинной дисциплины, лечение больных. Он выполняет элементарный долг врача, чтоб «уберечь от гибели как можно больше людей», несмотря на осознание беспредельной власти зла, вновь и вновь порождаемого историей.
Чума временно отступила, иссякла. Доктор Рие, возвращаясь по ликующим улицам Орана, знает, что победа над чумой временна, что радость людей всегда будет под угрозой, так как микроб чумы неистребим. Но, осознавая сизифов труд собственных усилий в противоборстве с эпидемией, Рие считает, что «надо быть сумасшедшим, слепцом или просто мерзавцем, чтоб примириться с чумой».
«Трагический стоицизм» героя Камю определяется очевидным «порядком вещей» в мире смыслоутраты, в мире «мертвого Бога» и «молчащих небес». Поэтому проповеди священника Панлю в зачумленном Оране, пронизанные христианской идеей примирения со страданиями, звучат для Рие как оскорбительное кощунство.
У Рие другое представление о любви — он не приемлет «мир божий, в котором истязают детей». Аллюзии со знаменитым изречением Ивана Карамазова — «если божья воля допускает, чтобы злодей мучал невинного ребенка, то я свой билет возвращаю» — становятся метафорой, эмоционально соединяющей историю чумы в Оране с историей человечества.
Бунт Рие, в отличие от бунта Тарру, лишен «вкуса к героизму и святости». Не верящий ни в бога, ни в историю, он обретает смысл жизни в любви и сочувствии к угнетенным: «Следуя законам душевной честности, он сознательно встал на сторону жертв и хотел быть вместе с людьми, своими согражданами — в любви, муках, изгнании». Мир без любви для Рие — это «мертвый мир».
Рие — новый герой Камю, в позиции которого уравновешиваются крайности — «тепло жизни и образ смерти» — и очерчиваются границы подлинной свободы, отстаивающей жизнь «щедростью любви». «Бунт может либо воплощать в себе щедрость и любовь, либо не быть вообще».
Люди на фоне чумы
 Иллюстрация: Edy-Legrand
Иллюстрация: Edy-LegrandПомощник доктора Рие, заурядный служащий мэрии Гран — подлинный представитель того «спокойного мужества», которое вдохновляло санитарные дружины добровольцев в их работе. Он сказал «да» борьбе с чумой, не колеблясь: «Это не самое трудное. Сейчас чума, но ясно, что с ней надо бороться».
Неудачник по службе, неудачник в семейной жизни, Гран одержим смешной страстью к сочинительству, «флоберовскими муками слова». В течение многих лет он пытается довести до совершенства фразу об «амазонке в Булонском лесу». Но фраза не дается, ускользает.
Упорство Грана, стремящегося к совершенству, является ироническим перифразом концепции творчества как героического подвижничества, как вызова хаосу мира, несмотря на осознание бесплодности своих усилий. «Флоберовские муки слова» — метафора усилий Оранского сопротивления: победа над чумой так же неизменно ускользает из рук администрации и врачей, как не дается Грану победа над непокорным словом.
Стилистика контраста, построенная на описании заурядности фигуры помощника Рие и смыслового значения его фамилии во французском звучании (grand — великий) раскрывает экзистенциальную сущность этого героя, который призван «подправить в творении все, что возможно подправить». «Заурядное» величие Грана воплощает беспредельную жизненную силу мифологического архетипа, отстаивающего жизнь и справедливость в борьбе со злом.
Санитарам чумы противопоставлен мелкий жулик Коттар. Чума, упразднившая все законы, «ему на руку». Коттар прекрасно чувствует себя в «зачумленном» Оране среди всеобщего ужаса. «Он был единственным человеком, который не выглядел ни усталым, ни унылым и скорее являл собой олицетворенный образ довольства».
Эпидемия для Коттара — родная стихия, наполняющая его чувством абсолютной свободы. Он предпочитает жить в «зачумленном» городе, нежели «быть арестантом». Этика вседозволенности освобождает его от бремени долга, от угрызений совести, превращая в сообщника чумы, одобряющего убийство детей и взрослых.
В позиции Коттара, олицетворяющего «слепоту сердца» и «нечистую совесть», Камю вскрыл опасность ницшеанского имморализма, отрицающего жизнь и поддающегося искушению зла: «Чума сильнее, — говорит Коттар, — и с какой стати я буду помогать людям, которые с ней борются».
Победа над чумой вызвала в Коттаре непреодолимое стремление вновь вернуть атмосферу всеобщего страха, отчаяния, уныния. В своем ожесточении и ненависти он пытается уничтожить, стереть с лица земли это всеобщее ликование, беспорядочно стреляя по толпе, веселящейся под окнами его квартиры.