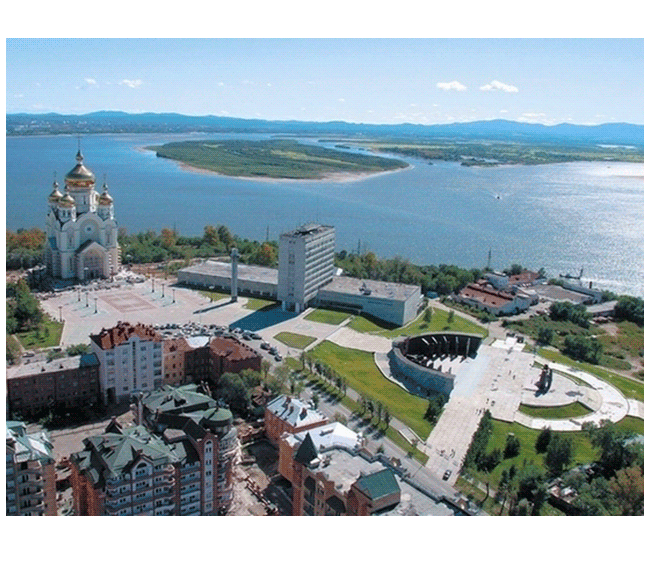«Что же эта Кафка делает с тобой!»
Леонид Бляхер — о парадной и непарадной литературах Хабаровска
Философ, социолог и писатель Леонид Бляхер оглядывается на литературное прошлое Хабаровска и находит там два города и два типа словесности: один — официальный, культивирующий идею форпоста на восточных рубежах страны, второй — местный, бунтарский, рассказывающий о Мире Великой реки. Очерк подготовлен в рамках совместного проекта «Горького» и Фонда Михаила Прохорова «Маленькая Россия».
Город Хабаровск — явление достаточно типичное для восточной окраины России. Он возник из военного форта Хабаровка, поставленного в середине XIX века в излучине Амура ротой солдат под командованием капитана Дьяченко. В 1890-е годы он получил статус города, став столицей вновь образованного Приамурского генерал-губернаторства. Но даже после этого продолжал сохранять черты форта, крепости. Именно военные оставались наиболее уважаемой прослойкой среди горожан. Офицерское собрание (ныне Художественный музей и Краевая филармония) оставалось главным центром местной культуры. Правда, к началу новой эпохи военных несколько потеснили чиновники и железнодорожники. Но дух строгости и упорядоченности продолжал сохраняться в улицах, домах, жителях Хабаровска.
Сегодня этот город красуется на открытках и пятитысячных купюрах, продвигается силами властного пиара и провластных СМИ. Но рядом с ним, почти с тех же давних пор, существует другой город с другой памятью. Возникнув, Хабаровск рос и втягивал в себя окружающие слободы, где проживали другие люди. Не военные и не чиновники — мастеровые, мелкие торговцы, авантюристы и домохозяева. Своей литературы у них не было как тогда, так и потом — вплоть до самых последних лет. Им вполне хватало фольклора. Но наличие двух разных, почти не соотносимых городов давало знать о себе на протяжении всей истории Хабаровска. Местное русское население, китайская и татарская (мусульманская) общины жили вполне мирно, вместе справляя религиозные и этнические праздники. На их основе и создавался уникальный синтетический фольклор. Конечно, до небывало интересного синтеза русской, монгольской и тунгусской культур, сложившегося в Забайкалье, местная городская культура не дошла, но оставалась довольно своеобычной. Хотя любопытства ни у местных, ни у заезжих краеведов она не вызывала. Для этого ей не хватало экзотики.
Впрочем, с культурной жизнью и в парадном городе в то время было не особенно гладко. По воспоминаниям Антона Чехова, в городе имелся самодеятельный театр и пара недурных певичек. О местной литературе классик не обмолвился. Возможно, таковая и была, но, видимо, в глаза не бросалась. Во всяком случае, говорить всерьез о литературной жизни еще не приходилось. Эстетические потребности населения вполне удовлетворялись полковыми оркестрами и местными авторами, писавшими в газету «Приамурские ведомости». Особенно богатого купечества здесь не было — основные воротилы жили во Владивостоке. Там же кипели страсти, бурлила и местная литературная жизнь. Хабаровск всему этому традиционно предпочитал тишину и порядок. Они-то и были взорваны в 1919–1920 годах.
Из крупных городов будущего Дальнего Востока меньше повезло, пожалуй, только Николаевску-на-Амуре, полностью уничтоженному командиром «Охотского фронта», анархистом Яковом Тряпицыным. Атаманщина в Хабаровске приняла самые страшные формы. Не мечтатель Григорий Семенов, укрепившийся в Чите и грезивший «русской империей Чингисхана», не учитель и депутат IV Государственной думы Иван Гамов, управлявший в Благовещенске, но откровенный грабитель Иван Калмыков овладел Хабаровском. Именно его стараниями была устроена грандиозная резня всех и вся, вызвавшая переход города на сторону красных партизан. События, развернувшиеся здесь, были мало похожи на Гражданскую войну как из «большой» общероссийской истории, так и из той истории, которая пишется в наши дни. И Февральская, и Октябрьская революции в Хабаровске и других крупных городах будущего Дальнего Востока были особыми, «телеграфными революциями» — когда прежний начальник представлял обществу нового со словами: «Господа, тут в Петербурге революция случилась...»
Противостояние же шло больше с представителями Колчака, пытавшимися мобилизовать приамурцев на «священную войну» (пожалуй, Колчак и был главным союзником советской власти в Сибири и на Дальнем Востоке, поскольку умудрился всего за год так восстановить против себя крестьян, что красные уже не казались им чем-то особенно плохим); то и дело вспыхивали местные схватки горожан и крестьян с казаками. Но так или иначе, в 1922 году ДВР (Довольно веселая республика) была ликвидирована, а к концу 20-х — уничтожены отряды тех самых «приамурских партизан», которые несколькими годами ранее «занимали города». Во времена ДВР партийный руководитель докладывал в Москву: «Народишко здесь дрянь. Опереться не на кого. Бедняков совсем нет». Теперь ситуация изменилась. Поскольку память о прошлом Восточной окраины сочли опасной и антисоветской (хотя крупная частная собственность там сохранялась до 1937 года), была сконструирована новая административная единица. Вместо непонятной, излишне свободолюбивой и независимой Восточной окраины Российской империи (Приамурского генерал-губернаторства) появился Дальневосточный край с центром в Хабаровске. В него вошли Якутия, Колыма и Чукотка, традиционно, по климату и типу хозяйствования, относящиеся к Восточной Сибири. На место бежавших после подавления Амурского восстания жителей в Хабаровск прибыли новые — большей частью военные и чиновники.
Как в любом крупном центре еще более крупного края, в городе на Амуре создается необходимая «культурная оболочка»: газеты, театр, филармония, педагогический и медицинский институты, радиостудия, союзы композиторов и писателей. Более того, выходит литературный журнал «Дальний Восток» (до 1946 года издавался под названием «На рубеже»).
С досоветскими классиками в Хабаровске было плохо. Они в лучшем случае проезжали мимо (Чехов, Гарин-Михайловский). Не так плохо обстояло дело с этнографами и краеведами, которые отчасти и заменили литераторов. Блестящие произведения Владимира Арсеньева, Павла Унтербергера, Льва Штейнберга и других заложили основы не только этнографии или исторической науки, но и литературы. Беда, однако, состояла в том, что исследователей не особенно интересовали русские крестьяне и горожане региона. Уникальная природа и местные экзоты стали главным объектом их описаний. Эта традиция сохраняется во многом и до сего дня. Если во времена Арсеньева «белыми пятнами» были территория и местные народности, то сегодня «белым пятном» остается население, сообщество, живущее на этой территории.
 Владимир Арсеньев
Владимир АрсеньевТем не менее постепенно формировались и ряды советских классиков — членов Союза писателей, сотрудничавших, как правило, с газетой «Тихоокеанская звезда». В их ряды вместе с местными писателями вошли Александр Фадеев и Аркадий Гайдар. То, что Фадеев большую часть жизни писал о Дальнем Востоке из прекрасного далека, никого особенно не смущало. Еще меньше кого-либо смущало то обстоятельство, что Аркадий Гайдар был командирован в Хабаровск, причем большую часть командировки пролежал в психиатрической лечебнице. В творчестве этих и некоторых близких к ним авторов сложился третий мотив, который, наряду с описаниями местных народов и природных красот, стал определяющим в литературе Хабаровска, — героическая борьба с белогвардейцами и иностранными интервентами.
В число городских классиков, безусловно, зачисляли и Всеволода Никаноровича Иванова, после возвращения из эмиграции проживавшего в Хабаровске. Это, пожалуй, наиболее сложная фигура. В парадной литературе продолжателей у него было немного, а вот созданные им произведения продолжали находить читателей. На страницах журнала «На рубеже» («Дальний Восток»), газет «Тихоокеанская звезда», «Набат молодежи» («Молодой Дальневосточник») публиковались стихи, статьи и фельетоны Дмитрия Нагишкина и Петра Комарова. В военные годы появились роман Николая Задорнова «Амур-батюшка», романы и рассказы Николая Рогаля и многих других авторов. Библиотека дальневосточного романа, издаваемая Рогалем, насчитывает 30 томов. В них перечень сквозных тем хабаровской литературы расширился. К этнографии, описанию природных красот и борьбе за установление советской власти добавилась идея Преодоления, особенно выпукло представленная в романе Задорнова, идея форпоста, региона-крепости, стоящего на страже восточных рубежей страны. Понятно, что все это была только одна — публичная, парадная — сторона жизни.
Впрочем, непарадная литература пока не складывалась. И дело не в том, что не хватало талантов, — сказывалась специфика советского освоения Дальнего Востока. С 1930-х годов была принята программа военного развития региона. По существу, советский Дальний Восток был производной от Дальневосточного военного округа. Бóльшая часть его жителей были приезжими, причем из самых разных частей СССР. Не только военные прибывали сюда на время и по долгу службы. На строительство огромных оборонных заводов и военных городков съезжались тысячи, десятки тысяч новых дальневосточников. Большая часть из них, отработав какое-то время, возвращались обратно. Да и сами писатели, получив известность и признание, предпочитали перебираться в иные, менее удаленные от Москвы города. В результате местная культурная среда просто не успевала сложиться. Ее заменяла официальная риторика, понятная и в высокогорных селениях на Кавказе, и в крохотных местечках Прибалтики. Идея Хабаровска — форпоста и крепости — прочно обосновалась не только едва ли не в каждом газетном материале и художественном тексте, но и в самосознании горожан.
 Для места временного проживания этого было вполне достаточно. Но постепенно ситуация в регионе стала меняться, и оказалось, что застроенный домами, заводами и памятниками, вполне благоустроенный город — пуст. Он не наполнен смыслами. По его улицам не ходят герои литературных текстов. В нем нет узнаваемых пейзажей, лиц, ландшафтов. Работать в таком пустом городе достаточно комфортно. А вот жить — нет.
Для места временного проживания этого было вполне достаточно. Но постепенно ситуация в регионе стала меняться, и оказалось, что застроенный домами, заводами и памятниками, вполне благоустроенный город — пуст. Он не наполнен смыслами. По его улицам не ходят герои литературных текстов. В нем нет узнаваемых пейзажей, лиц, ландшафтов. Работать в таком пустом городе достаточно комфортно. А вот жить — нет.
Стали формироваться первые неформальные кружки. Любители кинематографа собирались вокруг Эдуарда Корчмарева и его клуба «Киноглаз». Ценители литературы сходились на лекциях Юрия Подлипчука. Любомудры группировались вокруг Владимира Пятака. Идолом молодых поэтов стал Виктор Еращенко. Его совсем не парадная и очень личная поэзия стала глотком свежего воздуха в застоявшейся атмосфере официоза.
Потому что и вял, и жесток
Мир, наполненный грубым влечением,
А меня — можно взять на часок
Безотказностью и всепрощением,
Чтоб открылся, моложе младых
(Холостяцкая жизнь — она та еще):
На часок, без претензий иных —
Согласишься, возьмешь, догадаешься?
Или будешь, себе на уме,
Все поглядывать — делать, мол, нечего?
И, кусая ладони во тьме,
Ненавидеть — чужого, беспечного?
Что ж, прощай, не судьба. Для судьбы
Было много другого, вчерашнего,
А теперь — не желаю борьбы,
Брачных ноток, мучения зряшнего.
И хотел бы соврать — не совру.
Ото всякого трудного, прочного
Не пора ли на волю, к костру?
Храм построен и служба окончена!
Но, пожалуй, о появлении новой городской литературы провозгласила небольшая книжечка «Несчастная жизнь Байрама и Вольдемара», написанная в самом начале 1990-х годов «киргизом славянского происхождения» Валерием Еремеевым и его единочаятелем Владимиром Сополевым. И дело было даже не в литературных достоинствах книги. Скорее, шокировало, что и о таком можно писать. Причем писать узнаваемо, понятно:
Эх, хорошо, брагулькой похмелившись,
Идти по улице, где каждый третий пьян!
В свой коллектив родной, как в море, влившись,
Ты личной шхуны храбрый капитан.
Здесь каждый пятый — Левенбук и Лившиц,
Каждый второй — без шпаги Д’Артаньян,
Каждый четвертый, трижды повторивши,
В десятый раз свой щупает карман.
Неважно, где, но важно — в коллективе,
Куда — неважно, важно, что толпой.
Мы цифры в арифметике хмельной,
Колосья мы в качающейся ниве.
Вы, трезвенники, холодней зимы,
Мильоны вас, нас — тьмы, и тьмы, и тьмы...
Вслед за ними появляются многочисленные «самодеятельные поэты». Многие из них популярны до сих пор. Особо стоит выделить «деда Матвея» (Матвей Журавлев), ставшего городской легендой благодаря песне «Вдоль Амура белым парусом», которая сегодня считается неофициальным гимном города. Новое время всколыхнуло город. Даже одно его приближение стало ощущаться в словесности и — шире — в искусстве.
То, что сегодня привычно называется «лихими девяностыми», для хабаровчан было не только временем отъезда многих добрых знакомых, разрушения привычной идентичности (связанной с пребыванием на страже Родины), но и началом формирования того, что называется местным сообществом. Это был совсем не простой процесс. Первоначально людей объединяла посткатастрофическая идентичность. Прежний мир, такой привычный и понятный, рухнул. Но те, кто смог выжить в постапокалипсисе (а именно так воспринимались итоги перестройки), приобрели нечто особое — осознание своего единства. Не столько единства культуры, сколько единства места и судьбы, связанной с местом. Вдруг на руинах официальной культуры (национальной по форме и социалистической по содержанию) стали возникать совершенно невероятные еще вчера явления. Вышедший из состава государственной филармонии Дальневосточный симфонический оркестр под руководством еще одной городской легенды Виктора Зигфридовича Тица собирает полные залы. Музыкант и радиоведущий Юрий Вязанкин организует рок-фестивали, Вячеслав Захаров задает традицию фестивалей джазовых.
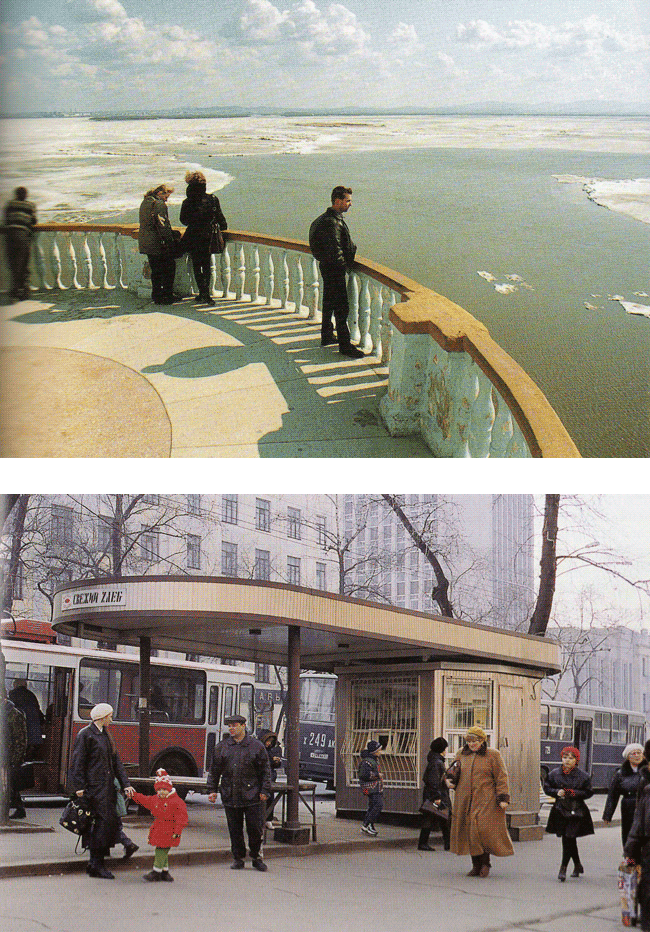 Другая теперь и литература. Она делается все более разнообразной, становится все ближе к жизни города. В эти и последующие годы пишет замечательные эссе-разговоры Александр Лепетухин. Исторические романы Николая Семченко укрепляют связь времен на берегах Амура. Роман-очерк пишет Станислав Глухов, поэтические вечера устраивает Людмила Миланич. Появляется все больше авторов. Они разные, но у них есть общее — осознание причастности к месту, времени, Миру Великой реки. Более разнообразными оказываются и способы встречи с читателем. Если прежде едва ли не единственным путем была публикация в журнале «Дальний Восток» или на страницах краевых газет, допускавших к себе литераторов, то сегодня это и огромный пласт самиздата, и вечера поэзии, устраиваемые в городских кафе, и даже поэтические турниры. Официальная поэзия и проза тоже никуда не делись, но сфера их бытования сузилась до нескольких десятков человек.
Другая теперь и литература. Она делается все более разнообразной, становится все ближе к жизни города. В эти и последующие годы пишет замечательные эссе-разговоры Александр Лепетухин. Исторические романы Николая Семченко укрепляют связь времен на берегах Амура. Роман-очерк пишет Станислав Глухов, поэтические вечера устраивает Людмила Миланич. Появляется все больше авторов. Они разные, но у них есть общее — осознание причастности к месту, времени, Миру Великой реки. Более разнообразными оказываются и способы встречи с читателем. Если прежде едва ли не единственным путем была публикация в журнале «Дальний Восток» или на страницах краевых газет, допускавших к себе литераторов, то сегодня это и огромный пласт самиздата, и вечера поэзии, устраиваемые в городских кафе, и даже поэтические турниры. Официальная поэзия и проза тоже никуда не делись, но сфера их бытования сузилась до нескольких десятков человек.
На первый план выходит не «общественная», а очень личная поэзия:
Наши дружбы из юности родом:
из шпаргалок на трудном экзамене,
из любовей, что время все заняли,
из портвейна неясной породы,
из прогулянных «правильных» лекций,
из прозрачных листков «самиздатовских»,
и еще не подавлены датами,
и еще без карьерных инфекций...
«А давайте, родные, накатим!» —
мы смеёмся про годы солидные
и про пенсии, ох, незавидные.
Как нежны облака на закате!..
(Марина Семченко)
Это совсем не значит, что исчезает социальная тематика. Совсем нет. Просто она из плакатной и листовочной становится человеческой, соразмерной моей и твоей жизни:
Говорила бабка: Жизь, она не сказка!
Засучи рукав-ка, засучи другой!
И скажи мне честно, кто такая Кафка?
Что же эта Кафка делает с тобой!
Ты не понимаешь, баба, ни бельмеса!
Кафка — это круто, Кафка — это он!
Дом перекрестила. Видно, всюду бесы,
Ну а этот Кафка — бесов почтальон!
Мужа расстреляли, он ведь был из лучших.
Как смогла ты выжить, как могла ты жить?
Утро наступило. Ярок солнца лучик,
А в моей планете бабушка лежит.
Голос твой охрипший и ворчливо-милый
Улетает в небо. Шарик голубой.
Сорняки исчезнут с бабкиной могилы.
Пусть читает Кафку кто-нибудь другой!
(Елена Добровенская)
Появляется городской андеграунд. Некогда хабаровские неформалы группировались в кафе «Бутербродная», воспроизводя стилистику ленинградского «Сайгона». Это было вторично для страны, но ново для города. Однако постепенно и неформальная поэзия Хабаровска обретает свое лицо, свой голос:
Моя профессия — медитация
На печатные знаки.
Когда я медитирую
На печатные знаки,
Я просветляюсь
До состояния драки.
Моя профессия — медитация.
Медитация на печатные знаки.
Я — не бездельник,
Я — экзистенциалист.
Во мне идет
мучительная
работа
духа.
(Сергей Мингазов)
Несколько иначе звучит голос неформальной поэзии в ее женском обличии:
Отпусти мою руку, мама.
Не надо меня тянуть.
Убеждать: добейся, выявись, покажись...
Не хочу
в эту адскую ртуть, в эту ****скую муть —
в эту вашу взрослую жизнь.
Ну не стоит, мам, —
толкать, уговаривать, торопить
да язвить,
что слишком себя жалею,
лелею и берегу.
Что, мол, хватит уже расти и добро пожаловать под софит.
Ну, допустим, выросла.
И что я теперь могу?
(Дарья Уланова)
В этот сложный, далеко не идеальный, но сложившийся мир вторгается далекое государство. Про то, что есть страна Россия, про то, что мы в ней живем, дальневосточники помнили всегда. Ведь большая их часть воспитывалась на идее защиты России. Но Россия — это Россия, а московские чиновники — это что-то другое. Иначе разве стали бы они мимоходом разрушать то, что десятилетиями кормило регион, что с таким трудом выстраивалось местными людьми? Постепенно главные отрасли экономики края переходили под крыши столичных холдингов. Их владельцы или вливались в новую элиту, или оказывались во всероссийском розыске. В любом случае, активная благотворительность, инвестирование в регион, где ты будешь жить, для богатых людей теряли смысл. На смену всему этому шла социальная политика государства.
Но люди, привыкшие «платить за себя», с огромным трудом примеряли на себя роль иждивенцев. Непривычно им в этой роли. Первым «рванул» Владивосток, где в 2008 году начались массовые протесты. Но это были «тучные годы», и пожар загасили деньгами. Началось «развитие Дальнего Востока», более заметное в СМИ, чем в самом регионе. Если же тут что-то и строится, то к нуждам местного населения оно имеет более чем косвенное отношение. На новых заводах работают «привезенные специалисты». Местные работники трудятся в лучшем случае охранниками. Особое озлобление вызывали бравурные отчеты чиновников на Днях Дальнего Востока в Москве о том, как здесь все «улучшили и углубили». В отличие от прежних лет, когда очередное мудрое новшество вызывало лишь шепот на скамейке у подъезда, теперь следует мгновенная литературная реакция. Леонид Лялин, не так давно ставший коренным москвичом, продолжает оставаться хабаровским Беранже. При этом именно локальное, местное хабаровские читатели считают настоящим. Оно густо замешано на смеси китайского, русского, эвенкийского. Оно живое и родное. Оно и есть Мир Великой реки, что связывает народы и эпохи, то скрываясь в подтексте, но определяя всю жизнь:
Уезжаю. Просто чтоб уехать.
Вытянуть хребет свой на восток.
Полдороги по-китайски шпрехать
и с лапшою сёрбать кипяток.
Дед-попутчик перца в миску кинет,
чаю с хризантемой мне нальет
и Россию, как занозу, вынет...
Только жизнь обратно запихнет.
С дырочкой монету дай мне, птица
райская с рубахи расписной.
Лао, цзынь!.. В провинции родиться.
Через всю страну проволочиться.
И остаться с этою страной.
(Ирина Батраченко)
Этот мир и оказался под угрозой. В 2018-м рваться стало едва ли не по всему региону. Во Владивостоке пожар смогли затушить новыми финансовыми вливаниями. В конце концов, на губернаторский пост выбрался одобренный в столице Олег Кожемяко. На Хабаровск денег не хватило, и здесь в пику «согласованиям» был избран Сергей Фургал. Был ли он идеальной кандидатурой? Наверное, нет. Но он стал завершающим штрихом становления самосознания людей в крае. Осознание богатства края и его несправедливого распределения, обида на федеральный центр, который упорно развивает «пустой регион», игнорируя интересы жителей, понимание отсутствия перспектив для себя и своих детей — все это сошлось в фигуре «народного губернатора». Потому его арест и стал толчком для полыхающих уже более двух недель митингов. И здесь — более, чем где-то — заявила о себе новая литература: не на страницах журналов, а на площадях, где люди поют песни и читают стихи о хабаровском протесте.