Что читать о Германии между мировыми войнами
История Веймарской республики, немецких мандаринов и Баварских Советов
По просьбе «Горького» Виталий Васильченко составил список научных исследований, публицистики и документальных свидетельств, посвященных межвоенной эпохе и Веймарской республике: постепенному разрушению демократических и культурных институтов, развитию пангерманизма и наступлению диктатуры.
1. Генрих Август Винклер. Веймар 1918–1933. История первой немецкой демократии. М.: РОССПЭН, 2013
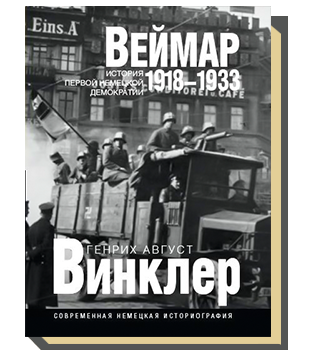 За четырнадцатилетний промежуток между Германской империей и Третьим рейхом в Германии происходят заметные сдвиги в культуре и эмансипация от реакционной имперской морали. Впрочем, триумф авангарда и становление экспериментальных наук мало волнуют немецкое население, страдающее от гиперинфляции, безработицы и национального унижения. Отношение к демократии в массовом сознании постепенно дрейфует ближе к отвращению и стыду: эта форма правления ассоциируется с непрекращающейся руганью в парламенте, чередой правительственных кризисов, оскорбительными условиями Версальского договора, аннексией Рурской области и расцветом радикальных политических программ справа и слева.
За четырнадцатилетний промежуток между Германской империей и Третьим рейхом в Германии происходят заметные сдвиги в культуре и эмансипация от реакционной имперской морали. Впрочем, триумф авангарда и становление экспериментальных наук мало волнуют немецкое население, страдающее от гиперинфляции, безработицы и национального унижения. Отношение к демократии в массовом сознании постепенно дрейфует ближе к отвращению и стыду: эта форма правления ассоциируется с непрекращающейся руганью в парламенте, чередой правительственных кризисов, оскорбительными условиями Версальского договора, аннексией Рурской области и расцветом радикальных политических программ справа и слева.
Основной вопрос, которым задается историк Генрих Август Винклер в своей книге (выпущенной на русском языке несправедливо скромным тиражом) «Веймар 1918–1933. История первой немецкой демократии» — как немецкая демократия сделала возможным приход Гитлера к власти? На первый план своего исследования Винклер выдвигает политику снизу и сверху. Тем не менее книга избегает ловушки редукционизма и отличается детальным анализом политической ситуации и общественных настроений в Веймарской республике: от наследия подавленной революции и проблемной конституции до хрупкой стабилизации, реальной угрозы гражданской войны и полной капитуляции государства.
Причиной заката Веймарской республики немецкий историк полагает отсутствие действующих институтов, препятствующих злоупотреблению властью; среди них он почему-то называет механизмы, которые бы ограничили волеизъявление большинства. Винклер уверен — у республики были шансы выжить и противостоять Гитлеру, если бы правительство смогло убедить немцев, что благополучное развитие Германии возможно лишь после признания конституции безусловной ценностью, нуждающейся в постоянной защите.
Вывод довольно неожиданный, учитывая, что историк в книге почти не касается дискуссий о будущем республики. Конечно, здесь Винклер не свободен от влияния Юргена Хабермаса и своего активного участия в знаменитом «споре историков», закончившемся победой концепций «конституционного патриотизма» и «консенсусной демократии». Его главный оппонент Эрнст Нольте, напротив, заявлял, что победа Гитлера была неизбежной — в первую очередь из-за опасений большинства немцев о возможности «красного поворота» (Эрнст Нольте. Европейская гражданская война (1917–1945). Национал-социализм и большевизм. М.: Логос, 2003).
Читайте также:
Хорст Меллер. Веймарская республика. Опыт одной незавершенной демократии. М.: РОССПЭН, 2010
Директор Института современной истории в Мюнхене (главного исследовательского центра Германии по изучению первой половины XX века) в своей небольшой работе представляет конвенциональную точку зрения сегодняшних немецких историков на Веймарскую республику. Как и Винклер, Меллер выступает в защиту противоречивой конституции, однако существования любого «окна возможностей» отрицает. По мнению историка, отречение Вильгельма II от престола, поражение в войне, прерванная революция и Версальский договор настолько раздробили немецкое общество, что объединить его смогла только тоталитарная диктатура Гитлера.
Альф Людтке. История повседневности в Германии. Новые подходы к изучению труда, войны и власти. М.: РОССПЭН, 2010
Издательство «Российская политическая энциклопедия» небольшими тиражами издает на русском важные книги по истории Германии. Книга Альфа Людтке — ключевого представителя немецкого направления истории повседневности — именно из таких. Благодаря своему методу Людтке обнаружил, что немецкие рабочие уже к началу 1930-х годов широко поддерживали национал-социалистические идеи.
2. Фриц Рингер. Закат немецких мандаринов. М.: Новое литературное обозрение, 2008
 На рубеже XIX и XX веков прогресс и стремительная индустриализация часто мыслятся угрозой идеалам и традиционным ценностям образованных и привилегированных классов. Интеллектуалы (в первую очередь представители университетской элиты) всерьез опасаются, что XX век отвергнет за ненадобностью предыдущие достижения культуры — и отправит на свалку истории ее носителей. Германия не стала исключением: к 1920-м годам немцы убеждены, что живут в эпоху всеохватывающего кризиса культуры и духа. Поэтому популярность «Заката Европы» Освальда Шпенглера (1918) — явление вполне закономерное.
На рубеже XIX и XX веков прогресс и стремительная индустриализация часто мыслятся угрозой идеалам и традиционным ценностям образованных и привилегированных классов. Интеллектуалы (в первую очередь представители университетской элиты) всерьез опасаются, что XX век отвергнет за ненадобностью предыдущие достижения культуры — и отправит на свалку истории ее носителей. Германия не стала исключением: к 1920-м годам немцы убеждены, что живут в эпоху всеохватывающего кризиса культуры и духа. Поэтому популярность «Заката Европы» Освальда Шпенглера (1918) — явление вполне закономерное.
«Закат немецких мандаринов» — переработанная докторская диссертация американского историка идей Фрица Рингера. Впервые изданная в 1969 году книга задала координаты для последующих исследований интеллектуальной истории и социологии образования (какое-то время Рингер проработал с Пьером Бурдье) и сегодня считается классической работой. В центре исследования Рингера — мировоззрение немецкого академического сообщества в период с 1890-х по 1930-е, когда одному поколению выпало пережить экономический подъем, индустриализацию, усиление пролетариата, Первую мировую, революцию, суматоху Веймарской республики и гиперинфляцию. Мандарины определяются Рингером как социально-культурная элита, обязанная своим статусом образованию, а не классовому происхождению; кроме университетских преподавателей, в эту категорию попадают врачи, учителя, госслужащие, адвокаты, министры.
Рингер показал, как страх перед массами и модернизацией внутри гумбольдтовской модели превращается в политический конфликт, разъедающий академическую среду. Исследовательский интерес автора сосредоточен вокруг умеренных и консервативных университетских кругов — и это главная удача «Заката немецких мандаринов» (как и причина скандала, сопровождавшего публикацию книги), которая объясняет, почему транзит от культурного национализма к национал-социализму у немецкой интеллигенции произошел настолько плавно.
Читайте также:
Эрик Кандель. Век самопознания. Поиски бессознательного в искусстве и науке с начала XX века до наших дней. М.: Corpus, 2016
Одна из наиболее революционных идей рубежа веков — психоанализ, оформляющийся в Вене в конце 1890-х. Нобелевский лауреат по медицине и физиологии Эрик Кандель (сам выходец из Вены, чья семья бежала после аншлюса в США) объясняет культуру модерна через Фрейда, Юнга и Адлера, а всю первую половину ХХ века — через достижения современной когнитивной психологии. Психоанализ и модерн развиваются параллельно пангерманизмом практически на соседних улицах. И последний во многом становится реакцией на них. Именно пангерманизм впоследствии ляжет в основу идейной платформы национал-социализма.
3. Томас Манн. Размышления аполитичного. М.: АСТ, 2015
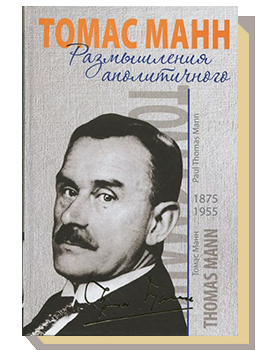 За полгода до поражения в Первой мировой немцы считают победу едва ли не свершившимся фактом. Брест-Литовский договор и неожиданный прорыв на Западном фронте только укрепляют эту уверенность. В действительности же на повестке дня уже стоит признание поражения. Тем чувствительнее реагируют немецкие интеллектуалы на столкновение с действительностью.
За полгода до поражения в Первой мировой немцы считают победу едва ли не свершившимся фактом. Брест-Литовский договор и неожиданный прорыв на Западном фронте только укрепляют эту уверенность. В действительности же на повестке дня уже стоит признание поражения. Тем чувствительнее реагируют немецкие интеллектуалы на столкновение с действительностью.
Манн начал писать философско-публицистические эссе, которые затем объединит в книгу «Размышления аполитичного», еще в 1914 году, однако самые полемические и неоднозначные отрывки заостряет прямо перед публикацией. В этой книге его репутация последовательного гуманиста дает сбой: он предстает пламенным сторонником зондервега и пророком консервативной революции, который всерьез противопоставляет мир высокой «музыкальной» немецкой культуры миру вульгарного рационализма остальной Европы. Заметную часть своих оппозиций для размышлений в лучших традициях спекулятивной философии истории Манн заимствует у Ницше. Консерватор, он в деталях проговаривает, насколько неприемлемы ему демократия, идеалы равенства и свободы, пацифизм, тупость обывателей и — в особенности — массовый человек. Любопытно, что в той же книге Манн размышляет о «Третьем рейхе» — будущем немецком государстве, которое находится по ту сторону как от «западных демократий, сопряженных с капитализмом», так и от «социалистической России». Основная предпосылка политических высказываний в «Размышлениях» — вера, что немцы (в отличие от большинства других европейских народов) менее других выродились в класс и массу.
Публицистика Манна — выразительный пример, как легко интеллектуалам потерять рассудок во время чрезвычайных исторических событий. В этом смысле российскому переводу, появившемуся в разгар конфликта на Донбассе, повезло. С другой стороны, «Размышления аполитичного» очень точно передают образ мысли, господствовавший в Германии того времени. Первая публикация запустила затяжную полемику в немецкой интеллектуальной среде — впрочем, практически забытую сегодня.
Читайте также:
Эрдмут Вицисла. Беньямин и Брехт — история дружбы. М.: Grundrisse, 2017
Совсем недавнее издание эссе руководителя архива Бертольта Брехта в Берлине, посвященное дружбе последнего с Вальтером Беньямином. Номинально сюжет книги Вицислы — о попытке Брехта и Беньямина создать журнал «Кризис и критика», чтобы оппонировать Мартину Хайдеггеру и университетским консерваторам слева. Попытка провалилась, однако на основе переписки, фотографий и прочих документальных свидетельств Вицисла создает выразительные и живые портреты двух левых интеллектуалов на фоне Веймарской республики.
4. Александр Ватлин. Советское эхо в Баварии. М.: Новый хронограф, 2014
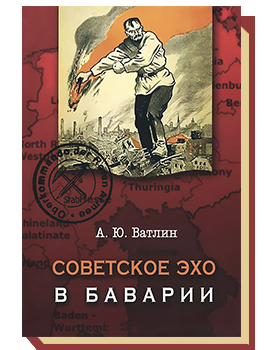 После Ноябрьской революции и поражения в войне разочарованные солдаты не спешат демобилизоваться и складывать оружие — так в Германии появляется городская армия, готовая в любой момент отыграться на просидевших в тылу. Ситуация действительно взрывоопасная: многие вернувшиеся с войны солдаты присоединяются к крайне правым или коммунистам, которые получают на исходе войны все большую поддержку. Новому социал-демократическому правительству удается подавить восстание спартакистов в Берлине и убить их лидеров — Карла Либкнехта и Розу Люксембург. Однако в Мюнхене все идет иначе: покушение на лидера местных левых провоцирует кровавые столкновения, которые заканчиваются установлением власти Советов. Советская Баварская республика просуществует меньше месяца, погрязнет во внутренних дрязгах и интригах, а затем быстро растеряет поддержку населения. Впрочем, это не помешает Баварским Советам стать ключевым политическим мифом, на котором заработает первоначальные политические очки НСДАП: практически вся будущая нацистская элита участвует в кровавом подавлении республики.
После Ноябрьской революции и поражения в войне разочарованные солдаты не спешат демобилизоваться и складывать оружие — так в Германии появляется городская армия, готовая в любой момент отыграться на просидевших в тылу. Ситуация действительно взрывоопасная: многие вернувшиеся с войны солдаты присоединяются к крайне правым или коммунистам, которые получают на исходе войны все большую поддержку. Новому социал-демократическому правительству удается подавить восстание спартакистов в Берлине и убить их лидеров — Карла Либкнехта и Розу Люксембург. Однако в Мюнхене все идет иначе: покушение на лидера местных левых провоцирует кровавые столкновения, которые заканчиваются установлением власти Советов. Советская Баварская республика просуществует меньше месяца, погрязнет во внутренних дрязгах и интригах, а затем быстро растеряет поддержку населения. Впрочем, это не помешает Баварским Советам стать ключевым политическим мифом, на котором заработает первоначальные политические очки НСДАП: практически вся будущая нацистская элита участвует в кровавом подавлении республики.
Публикация книги «Советское эхо в Баварии» профессора МГУ Александра Ватлина два года назад по недоразумению прошла незаметно — это редкий случай захватывающего академического исследования по европейской истории, написанного на русском языке. Ватлин описывает происходящее в Баварии как «революционный перфоманс» — немецкие Советы скорее напоминают Парижскую коммуну, чем Октябрьскую революцию. Книга показывает стихийную низовую самоорганизацию рабочих и солдат, агитацию богемных лево-радикальных художников и публицистов, митинги крестьян и феминисток. Ватлин не забывает ссылаться на свидетельства наблюдателей — Томаса Манна (стесняется носить меховую шапку), Адольфа Гитлера (в растерянности записывается в Красную армию Баварии) или Макса Вебера (жалеет о гибели старого мира). Кроме того, Ватлин убедительно доказывает, что слух о следе Советской России, на котором затем будет немало спекулировать Гитлер-политик, более чем преувеличены.
Читайте также:
Ред. Роберт Герварт, Джон Хорн. Война во время мира: Военизированные конфликты после Первой мировой войны. 1917–1923. М.: Новое литературное обозрение, 2014
Конец Первой мировой вовсе не безболезненно перетекает в «ревущие двадцатые»: Европу то и дело сотрясают революции, этнические столкновения, гражданские войны, войны за независимость и уличное насилие. Сборник статей под редакцией историков Роберта Герварта и Джона Хорна показывает, как научившиеся владеть оружием и убивать солдаты возвращаются домой, попутно меняя политический ландшафт Европы в двадцатые годы.
5. Йозеф Рот. Берлин и окрестности. М.: Ad Marginem, 2013
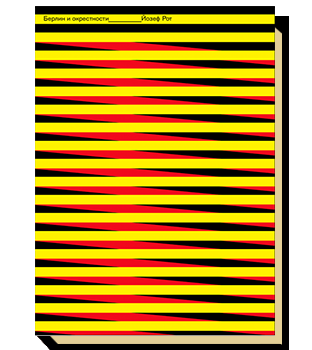 После распада Австро-Венгрии Вена впадает в глубокий социально-экономический кризис и буквально на глазах превращается из прогрессивной столицы модерна и психоанализа в провинциальный город небольшой новообразованной альпийской республики. Центр культурных экспериментов перемещается в Берлин: туда едут художники, писатели, архитекторы, талантливые врачи и юристы, авантюристы и богема. Слава Мюнхена как свободомыслящего города остается далеко позади: в Берлине женщины носят брюки и катаются на велосипедах, буржуа высмеивают религиозность и выступают за сексуальное раскрепощение, а гомосексуалы впервые открыто распространяют тематические журналы — тираж некоторых достигает 100 000 экземпляров.
После распада Австро-Венгрии Вена впадает в глубокий социально-экономический кризис и буквально на глазах превращается из прогрессивной столицы модерна и психоанализа в провинциальный город небольшой новообразованной альпийской республики. Центр культурных экспериментов перемещается в Берлин: туда едут художники, писатели, архитекторы, талантливые врачи и юристы, авантюристы и богема. Слава Мюнхена как свободомыслящего города остается далеко позади: в Берлине женщины носят брюки и катаются на велосипедах, буржуа высмеивают религиозность и выступают за сексуальное раскрепощение, а гомосексуалы впервые открыто распространяют тематические журналы — тираж некоторых достигает 100 000 экземпляров.
В эти годы австрийца Йозефа Рота знают в немецкоговорящих странах как одного из наиболее талантливых журналистов своего поколения. Социал-демократические взгляды, полемический репортажный стиль и язвительность обеспечили ему широкую читательскую аудиторию, а также сотрудничество с основными газетами Вены, Берлина и Праги. В 1920-х годах Рот переезжает в Берлин, чтобы стать корреспондентом «Франкфуртер Цайтунг». На страницах газеты он фиксирует недолгий период стабильности в Веймарской республике и ее последующее угасание: градостроительные и социальные эксперименты, проблемы беженцев и бездомных, уличный террор и финансовый кризис, подавленный Пивной путч, джазовые вечера и художественные выставки. В сборнике «Берлин и окрестности» собраны репортажи Йозефа Рота о повседневной жизни в республиканской столице — этим они ценны. Рот очень точно трактует общественные настроения и подмечает в будничной жизни Берлина перемены — в том числе, будущую диктатуру.
Читайте также:
Флориан Иллиес. 1913. Лето целого века. М.: Ad Marginem, 2013
Достаточно спорный обзор последних 12 месяцев перед Первой мировой известного немецкого журналиста. Посредством непривычного клипового нарратива (напоминающего сообщения телеграм-каналов) Иллиес создает из писем, анекдотов и слухов помесячную хронику жизни нескольких десятков (в большинстве своем немецких) художников, писателей, философов и политиков. Местами Иллиес откровенно преувеличивает и додумывает; кое-где его упражнения в светской хронике из жизни Шиле, Гитлера, Троцкого, Рильке, Юнгера, Шпенглера, Музиля и других откровенно раздражают. Половину вопросов к этой небольшой и талантливо написанной книге можно было бы снять, назови Иллиес свой метод documentary fiction. Впрочем, если отнестись к книге не очень серьезно — чтение выходит отличное.
Ханс Ульрих Гумбрехт. В 1926 году: на острие времени. М.: Новое литературное обозрение, 2005
Еще одну довольно непривычную реконструкцию эпохи выполнил профессор сравнительного литературоведения из Стэндфорда Ханс Ульрих Гумбрехт. Исследовательская интуиция его не подводит: сосредоточившись на 1926 году, Гумбрехт репортажным образом показывает Европу (и совсем немного Северную и Латинскую Америки) через пугающее разнообразие явлений: отношение Карла Шмитта к Лиге Наций, строительство железных дорог, бокс, гонки на велотреках, распространение кремации, забастовки рабочих, работа археологов и антропологов — и это далеко неполный список. Оставшиеся двести страниц Гумбрехт ищет эпистемологические основания для разговора об эпохе между мировыми войнами и объясняет соотношения коллективного и индивидуального через Лакана. Затем книга делает еще один неожиданный поворот — Гумбрехт рассуждает уже о Хайдеггере и режимах темпоральности. Спасибо, конечно, но к чему это все — не очень понятно.