Черновики «Черновиков Пушкина»
Об одной книге Генриха Сапгира
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
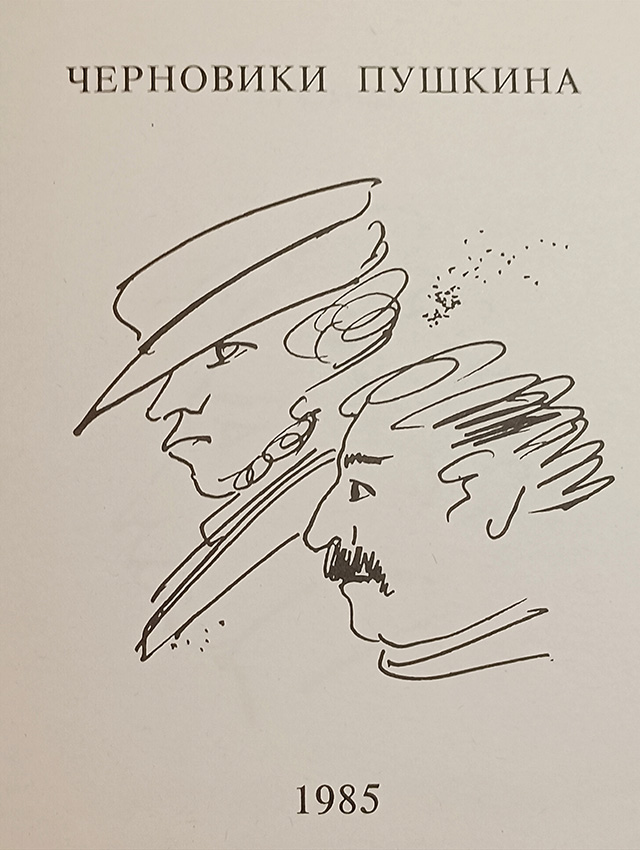 Черновик как зеркало реальности
Черновик как зеркало реальности
Речь пойдет о тексте, которого Сапгир не писал, но где все слова принадлежат ему. Если не иметь в виду центона, то это вообще готовая формула черновика, поскольку он всегда представляет собой продукт некоторой предварительной реконструкции — то есть именно такой текст, которого автор никогда не писал, но где все слова принадлежат ему.
В случае с Пушкиным один из наиболее известных примеров подобной реконструкции — пять начальных строк чернового стихотворения «О сколько нам открытий чудных...». Самому поэту здесь принадлежат только первые полторы, остальные — реконструкция Т. Цявловской. Сапгир достроил этот фрагмент до онегинской строфы — как бы от лица Пушкина, но не стесняясь и собственного присутствия. Этим стихотворением завершается часть I книги, начатой переводом написанных по-французски «Куплетов». В описании их черновика опять-таки возникает сам Генрих Вениаминович. Присутствие автора позволяет если не зарифмовать, то решительно сблизить начала и концы. Онегинская же строфа, адресуя читателя к пушкинскому роману, приводит на память не только финал его первой главы с намеком на описание черновика («Перо, забывшись, не рисует, / Близ неоконченных стихов, / Ни женских ножек, ни голов»), но и описание альбома Онегина, навсегда оставшееся в черновиках: «Среди бессвязного маранья / Мелькали мысли, примечанья, / Портреты, буквы, имена / И думы тайной письмена»). Ясно, что обращение к онегинской строфе (и вообще, и к строфе LIX в главе I в частности) верифицирует опыты подобного маранья у самого автора, тем более что совсем рядом (строфа LVII) упомянута созвучная с его фамилией река Салгир.
«Черновики Пушкина» принято рассматривать главным образом с точки зрения «креативной рецепции» (термин Елены Абрамовских), то есть дописывания пушкинских незаконченных фрагментов. Но поскольку сам исходный материал для такой рецепции был уже определенным образом собран, то черновик приобретает онтологический статус: сама реальность не может быть воспринята иначе, как в уже собранном согласно нашим вкусам и представлениям виде. И это не говоря о том, что на правах документа черновик относится к реальности первого порядка и только потом может рассматриваться как литературный факт.
В достаточно обширной критической литературе о Сапгире преобладает мнение, что поэт в своем творчестве прежде всего занимался исследованием возможностей поэтического языка, экспериментировал со средствами выражения, каждую новую книгу сознательно писал на новом формальном приеме и т. д. Андрей Ранчин пишет: «Он избегает непосредственного эмоционального высказывания, его поэзия — не лирична. Сапгир освобождает свои стихотворения от подчинения явной, очевидной теме: невозможно сказать просто, о чем они». Такая точка зрения справедлива, но это не означает, что в текстах нет скрытой темы, что ее нельзя никак извлечь и сказать: эти стихи вот о чем.
«Черновики Пушкина» — трехчастная структура, где каждая часть, как и многие книги поэта, действительно построена на отдельном приеме. Часть I «Стихи» — дописывание пушкинских стихотворных черновиков. Часть II «Музыка (вариации на тему)» — по преимуществу транспонанс (перестановка элементов) пушкинских прозаических фрагментов и их переложение свободным стихом. Часть III «Смесь» — серия литературных мистификаций, с очередным переложением прозы, но уже не свободным, а белым стихом.
1/3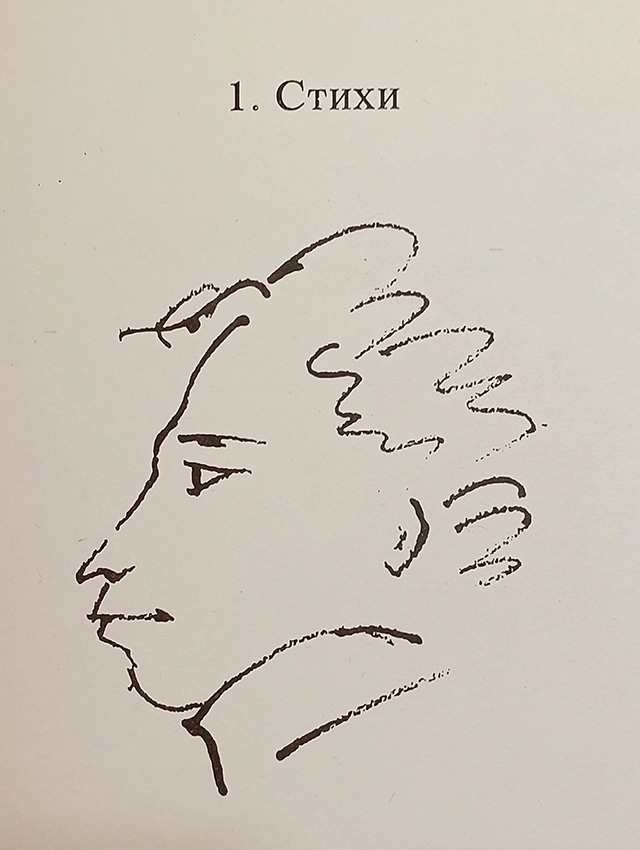 2/3
2/3 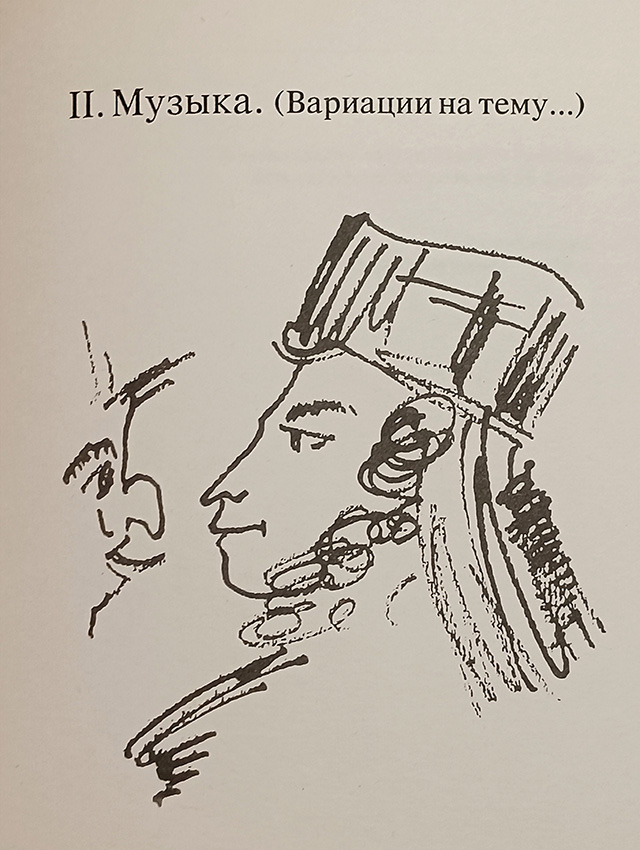 3/3
3/3 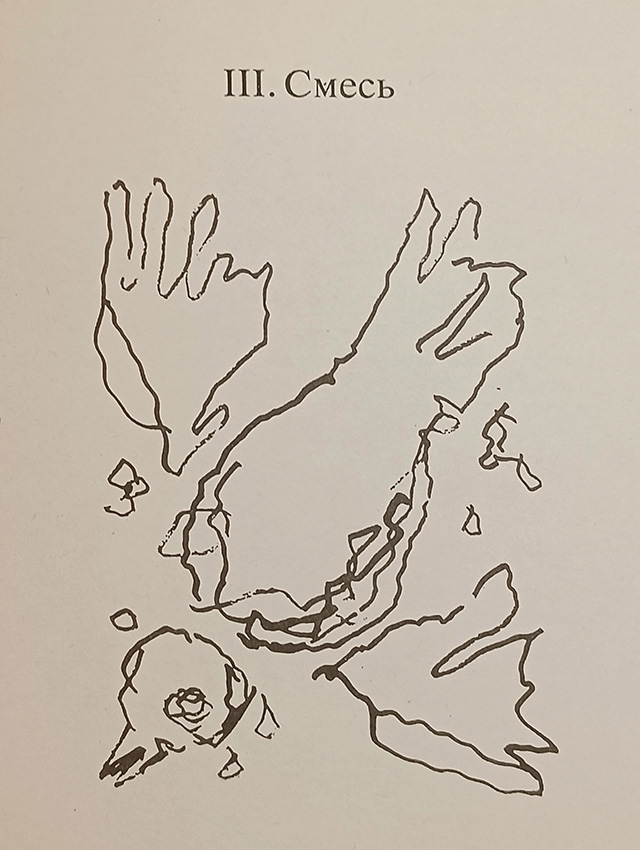
Название третьей части не просто отсылает к одноименному разножанровому разделу в дореволюционных периодических изданиях, но и дает понять, почему в отдельную часть не вынесены помещенные здесь «Песни села Горюхина» и вложенные в них «Дедовы песни»: песни ведь буквально и представляют собой смесь стихов и музыки. То есть прочитав все заголовки подряд как самостоятельное предложение, мы получили некий дополнительный смысл, явно не лишний в понимании целого. Но что если в книге скрыты и другие возможности сквозных прочтений? Подзаголовок в скобках «(вариации на тему)» намекает, что в части I какая-то тема уже прозвучала, иначе откуда бы взяться и вариациям. Как тут не вспомнить классическую, и тоже о Пушкине, «Тему с вариациями» Бориса Пастернака! Но что же это за тема и где она прозвучала? Наш ответ: тема судьбы, а конкретнее — любви и смерти. И прозвучала она в описаниях черновиков, если собрать их вместе и прочитать как слитный текст.
Основания для такой такой сборки дает явное присутствие в описаниях трех единств:
— единство условно жанровой маркировки: «(описание черновика)»;
— единство метра (хорей);
— единство строфики (восьмистишия).
О роли этих текстов вполне определенно высказался Массимо Маурицио в работе «Игра в классика...» (название, кстати, приводит на ум и другой, не менее уместный для нашего разговора роман Хулио Кортасара: «62. Модель для сборки»): «Описания служат своего рода комментариями к графическому облику оригинала, но не ограничиваются этим: они написаны не прозой, как обычно, а стихами и этим позиционируются как литературное — а не текстологическое — дополнение, как код к черновику, который иначе был бы неполон, раз состоит... не только из написанных слов. Изучение невербальных компонентов „Черновиков“ приводит к более глубокому пониманию незавершенного Пушкиным, подсказывает атмосферу, в которой они писались».
Все верно, но вообще-то стихотворное описание черновика вместо прозаического прежде всего указывает на его заведомую ненадежность. Даже в прозе описания сомнительны, в силу чего при них обычно публикуются факсимильно-транскрипционные представления (ФТП). «Черновики Пушкина» Сапгира легко можно было бы сопроводить в приложениях или комментариях такими ФТП. Ни сам автор, ни публикаторы на такое не пошли, возможно сочтя столь громоздкое научное сопровождение художественного текста неуместным. Но тем более отчетливо следует понимать всю условность стихотворных описаний черновиков, которые в первой редакции вместо ФТП сопровождаются рисунками Льва Кропивницкого, тоже весьма условными. Там, например, где говорится о пяти повешенных декабристах, художник изображает одного человека с револьвером (!) в руке и привязанным к спине крестом. Содействует ли это «более глубокому пониманию незавершенного» замысла, большой вопрос.
Текст, которого не было
Книге предпослан эпиграф из Блока: «...Веселое имя: Пушкин». Резонно предположить, что он указывает и на подход самого автора к произведениям первого национального поэта. На вопрос, для чего вообще производится чтение рукописей, С. Бонди давал всего два ответа: «поиски текста (окончательного или вариантов) и исследование процесса работы автора над текстом». Второе в художественном произведении едва ли осуществимо, и Сапгира вроде бы заботит первое. «Угадал, попал в „десятку“», — пишет он в заметке «Несколько слов к черновикам Пушкина». «Иногда — как озарение: кажется, попал в точку» — а это из «Заметки о французских стихах А. С. Пушкина», тоже в послесловии. Но в какую точку можно попасть, если, как мы видели, приходится уже на старте иметь дело с реконструкцией?
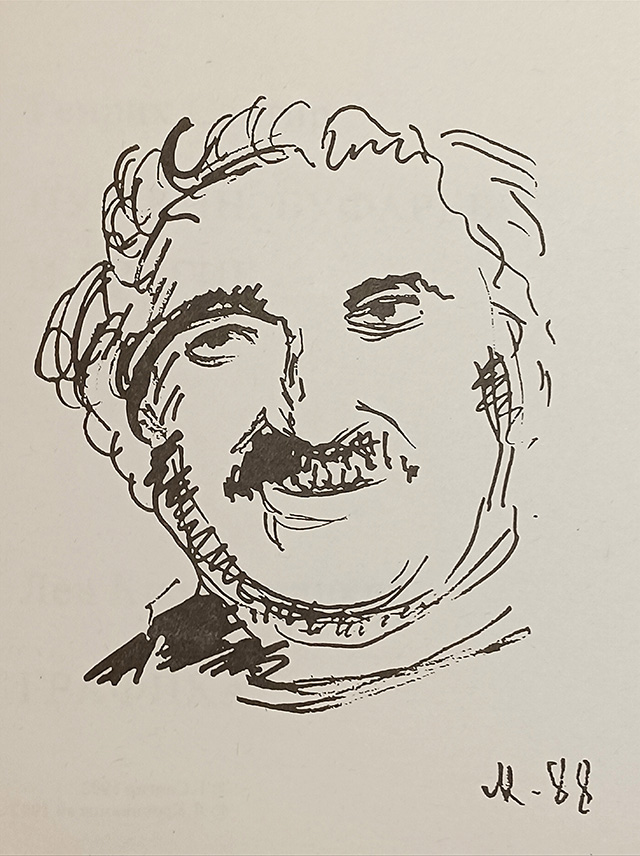 Портрет Генриха Сапгира
Портрет Генриха Сапгира«Черновики Пушкина» помещены в первом томе нового собрания сочинений Сапгира, озаглавленном «Голоса». Поэт и пушкинист Андрей Чернов писал о «Черновиках...», что это «амебейное (двуголосое) произведение, принадлежащее одновременно двум поэтам и двум эпохам». Снова все верно. Но верно и другое: Сапгир не просто объективирует Пушкина, он использует его как субстрат для совершенно монологического самовыражения, для высказывания о судьбах поэта и поэзии. И уж если так можно поступать с текстами «нашего всего», то тем более не возбраняется и с текстами Сапгира.
Предлагаемая ниже сборка описаний черновиков в виде самостоятельного текста — не более чем плод веселого читательского соучастия. Но как знать, может быть, тут скрыт некий ключ? Мы разместили все имеющиеся описания черновиков одно за другими и для компактности оформили в виде катренов, а не восьмистиший: характер рифмовки позволяет это сделать. Название, простите, добавили от себя.
Стихи о почерке и о судьбе
Почерк юношеский круглый, завитушки то и дело,
Стиль античных дортуаров, сквозь стихи темнеет сад…
Там сидел я ночью белой на скамейке опустелой,
Там на пустоши в тумане те дубы еще стоят.
Ты куда стремишься, почерк упоительный и хлесткий?
Всюду вымарки — досада, все зачеркнуто подряд.
Нарисована всё та же с гладкой греческой прической
И мужской брезгливый профиль, только что не говорят.
П заглавное с плюмажем, флеши, бреши и редуты.
И теснясь, сбиваясь, скачут через поле напрямик.
Под огнем ложатся строки, поворачивают круто.
Весь кипит, как поле битвы, и дымится черновик.
Справа — рукопись «Полтава», слева, ну совсем не дело,
Виселицу начеркала непослушная рука.
А вверху наглядно, крупно, сам себя повесил смело
С неизвестным совокупно на листке черновика.
У Онегина в бюваре позабыт листок почтовый:
Цифры, хвостики, крючочки не разгаданы досель.
И — цветок на обороте бледно-желтый и лиловый,
Из Тригорского, наверно, эта память — акварель.
Четвертушка грубой синей нелинованной бумаги.
Нарисована Психея, окриленные плеча.
Блеклый номер. После смерти опечатали бумаги,
Отчего остался с краю красный оттиск сургуча.
Выступая на недавних Сапгировских чтениях с докладом, на основе которого написана эта заметка, мы задали аудитории вопрос: «Какое хрестоматийное стихотворение напоминает вам это встроенный текст?» Ожидалось, что восьмистопный хорей сразу вызовет в памяти «Волшебную скрипку» Н. Гумилева, тем более что, помимо размера, совпадает и число строф (их шесть), и даже финальные рифмы:
Мальчик, дальше! Здесь не встретишь ни веселья, ни сокровищ!
Но я вижу — ты смеешься, эти взоры — два луча.
На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ
И погибни славной смертью, страшной смертью скрипача!
Как будто бы несомненна и тематическая перекличка: оба стихотворения повествуют о судьбе поэта, хотя решается она по-разному. В отличие от Гумилева, Сапгир не связывает смерть певца (скрипача) с его принципиальной внеположностью миру сему, где якобы нет ни веселья, ни сокровищ. Не связывает он ее и с тем, что, стоит пению на миг прерваться, «тотчас бешеные волки... в горло вцепятся зубами, встанут лапами на грудь» поэту. С чем связана эта тема, мы увидим далее, а пока что простимся с Гумилевым. Уважаемая аудитория о нем, увы, не вспомнила, так что, скорее всего, этот интертекст следует признать как минимум спорным.
О художественной цельности собранного нами текста тоже, наверное, можно спорить, но присутствие в нем сюжета сомнений не вызывает. Его развертывание поддержано в том числе сменой жанровых регистров: от изящных графологических наблюдений в экспозиции автор переходит к экфрасису в кульминации и полицейскому протоколу в финале. Кроме того, Сапгир формулирует вопрос, ответом на который и призван служить текст: «Ты куда стремишься, почерк упоительный и хлесткий?» А стремится он явным образом к смерти.
В первой строфе почерк определен как юношеский, круглый, с завитушками. Во второй он, делаясь хлестким, с одной стороны, превращается в сплошные вымарки, с другой — в рисунки. Именно их наличие позволяет считать описания черновиков экфрасисом. В третьей строфе слияние почерка и рисунка становится полным: у заглавного П возникает плюмаж, строки словно бы уворачиваются от огня, становясь изображением людской массы на поле боя.
В четвертой строфе, то есть ровно посередине текста, внимание повествователя переключается с почерка и рисунков на их носитель — бумагу, листок черновика. В пятой почерк замещается не поддающимися разгадке цифрами, хвостиками, крючочками, рисунки — вложенным цветком, бумага уточняется в качестве почтовой. Наконец, в финальной строфе листок становится четвертушкой, цифра — блеклым номером из жандармской описи, а носитель в качестве материала, не формы, дважды акцентирован тавтологической рифмой «бумаги».
Стихи очевидным образом размечают жизненный путь поэта, и, хотя сам Пушкин как человек в нем не появляется, почерк, понятное дело, «зеркало лица», тем более что это лицо целиком погружено в реальность первого порядка (бумага, сургуч и пр.). Это, конечно, позволяет расценивать описания как биографический комментарий к восстановленным черновикам. Но верно и обратное утверждение: черновики можно считать комментарием к их описанию, собранному в виде единого текста. Именно они в своей совокупности дают возможность понять, какая тема развивается в этом тексте, а при сравнении с остальными частями — и в книге в целом.
По возможности сжатый комментарий: первая половина
Дать развернутый комментарий, а тем более сравнительный анализ частей книги в рамках статьи не представляется возможным. Поэтому ограничимся очень беглыми замечаниями.
Первый катрен содержит описание перевода с французского вполне завершенного пушкинского стихотворения «Куплеты». Оно построено на эпифоре, которая в оригинале звучит так: Jusqu’au plaisir de nous revoire — т. е. буквально «до удовольствия нам увидеться снова» или просто: «До приятного свиданья». Перевод Сапгира — «Прощай, до нового свиданья». Слово «прощай» у него встречается 8 раз, у Пушкина — 2 раза. С большой буквы у Сапгира пишется Весна и Любовь (правда, всегда в начале строки), у Пушкина — Надежда. О любви Александр Сергеевич говорит: un oiseau de notre printemps — «птица нашей весны», с нею она и отлетает. У Генриха Вениаминовича сказано «Любовь волнует нас одна» вне прямой привязки к сезону, однако косвенная сохраняется: «Но к сожаленью, мы — не пташки». То есть получается, что любви все возрасты покорны, вот только сама она невозвратима. Как юность. Как сама жизнь.
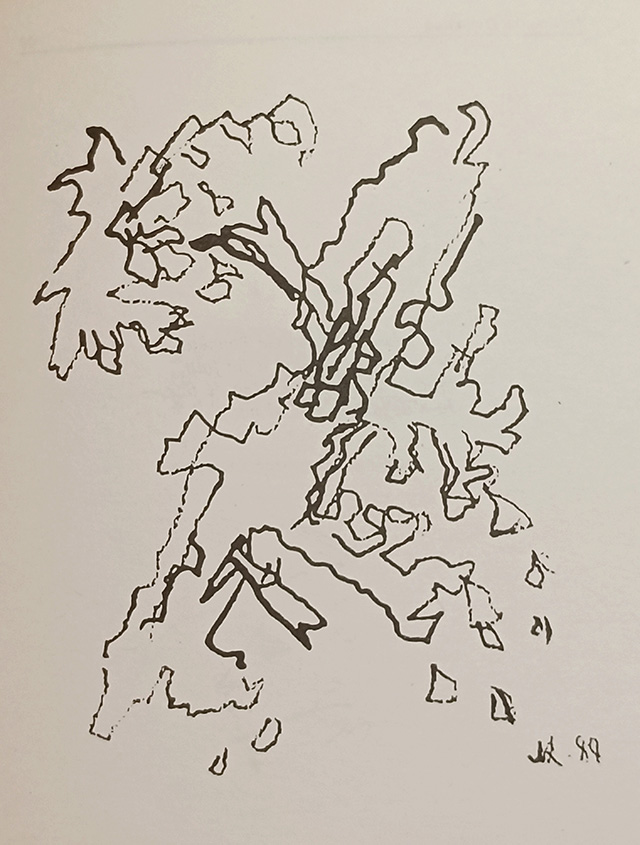 Ил. к описанию 1 («Почерк юношеский круглый…»)
Ил. к описанию 1 («Почерк юношеский круглый…»)В плане возрастной разметки пушкинской биографии ни в переводе «Куплетов», ни во всех шести катренах описаний нет ничего, кроме юности (Весны) и Смерти. Тут можно вспомнить слова Дж. Джойса о Пушкине («жил как мальчишка, писал как мальчишка и умер как мальчишка»). Или процитировать Е. Баратынского, которой недоумевал: «Естественно ли, что великий человек, в зрелых летах, погиб на поединке, как неосторожный мальчик?» Но лучше всего пару Юность и Смерть Сапгир поясняет сам в «Заметке о французских стихах А. С. Пушкина»: «Пятнадцатилетний лицеист уже понимает себя отлично и знает про себя почти все наперед» и «этот быстрый юноша уже прожил всю свою жизнь заранее».
Начала и концы сходятся в едином узоре судьбы. Между прочим, об этом писал еще А. Эфрос в классической работе «Рисунки поэта» (1933): «Необычайно ранняя зрелость пушкинского почерка укоротила, почти свела на нет развитие его графической манеры. Начала и концы так сближены, что его автографы кажутся созданными на протяжении какого-нибудь пятилетия, а не четвертьвекового промежутка 1812–1873». Почерк — не только зеркало лица, но и зерно судьбы.
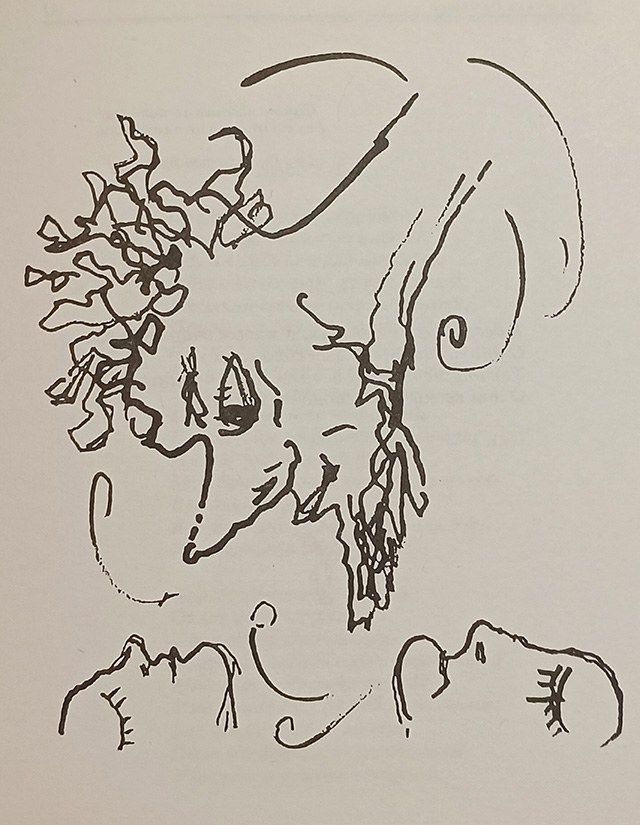 Ил. к описанию 2 («Ты куда стремишься, почерк…»)
Ил. к описанию 2 («Ты куда стремишься, почерк…»)Второе описание относится к черновику всего из одной строки: «Улыбка уст, улыбка взоров...» Впервые отрывок был опубликован П. Щеголевым в работе «Из разысканий в области биографии и текстов Пушкина». Там идет речь о 12 стихах чернового вступления (оно же эпилог!) к «Бахчисарайскому фонтану» («Исполню я твое желанье...»). Видимо, именно поэтому Сапгир дописал сразу 11 строчек. Среди прочего он сообщает: «Всюду вымарки — досада, / Все зачеркнуто подряд». Щеголев сообщал о том же, но в описании черновика указывал, что тот следует сразу за планом поэмы, а после «сбоку, наискось записан стих» — тот самый, об улыбке уст и взоров. Исследователь уточнял: «Есть еще рисунки: один, полустертый, трудно разобрать; остальные три — женские ножки в стремени». У Сапгира мы видим нечто иное: «Нарисована все та же с гладкой греческой прической...» Впрочем, это еще не ошибка и не дезинформация: рисунки головок и ножек наиболее распространены в рукописях Пушкина и с точки зрения графических пауз в процессе стихописания вполне взаимозаменяемы, хотя де-юре и обозначают верх и низ.
Брошенное вскользь указание «все та же» намекает как будто бы, что читатель может и сам догадаться, о ком речь. Но о ком? Указание подразумевает высокую частотность рисунка. По количеству портретов в рукописях Пушкина лидирует Елизавета Ксаверьевна Воронцова (30 набросков). Датировка черновика у Сапгира (1823) такой догадке не противоречит. Однако стихи с тем же успехом могут относиться и к Амалии Ризнич, и к Марии Раевской, и ни к кому конкретно.
Гадать тут можно сколько угодно: свобода авторского обращения с материалом понятна. Но вряд ли Сапгир не знал, что достроенная им до целого стихотворения строка относится к «Бахчисарайскому фонтану». А если так, то не мог он не помнить, что главная тема произведения — любовь и смерть.
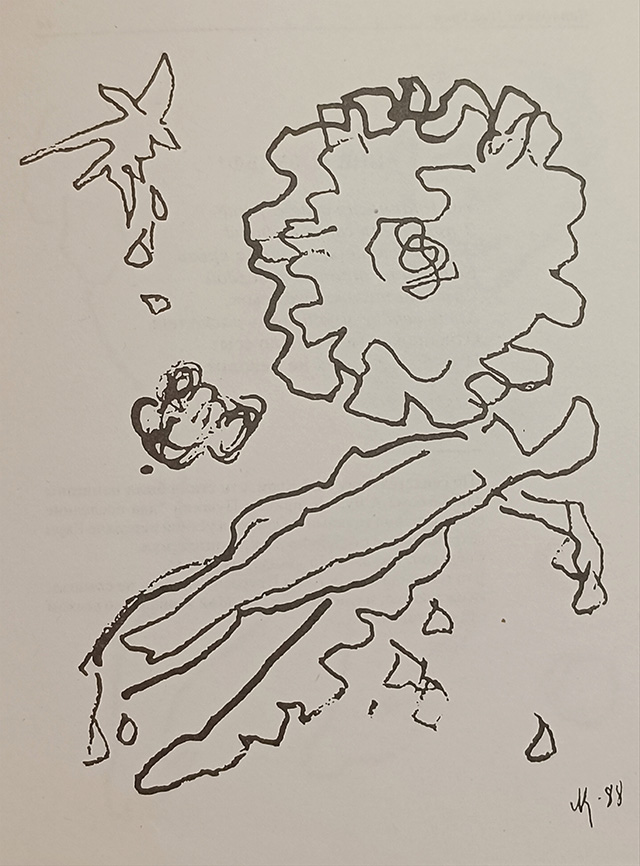 Ил. к описанию 3 («П заглавное с плюмажем…»)
Ил. к описанию 3 («П заглавное с плюмажем…»)Третье описание относится к черновику эротического содержания. Для мужского достоинства, которое Пушкин уподобляет змию, Сапгир находит игровое (бильярдный кий) и военное сравнения (хан Батый). Если вспомнить, что и со змием (драконом) тоже можно сражаться, не вызывает удивления, почему описание построено как батальная сцена: «Весь кипит, как поле битвы, / И дымится черновик...». У Сапгира в авторском послесловии это становится в том числе метафорой пушкинской скорописи и постоянных зачеркиваний («Черновики порой похожи на дымящееся поле битвы... Быстро-быстро перо чертит подряд все близкие эпитеты»). Но основное значение все-таки перевешивает: настоящие баталии обычно заканчиваются победой или смертью, любовные схватки не исключение.
В четвертом катрене описывается черновик «И я бы мог как шут на...» — это о восстании декабристов, конечно. Битва с Батыем (или змием) подхватывается упоминанием рукописи «Полтавы». Виселица сама по себе тут не выглядит уместной, но и семантике боя она не противоречит: в конце концов декабристы подняли вооруженное восстание. Попутно (в умолчании) возникает тема измены: мятежников осудили за госизмену, изменником в «Полтаве» изображен гетман Мазепа. Далее эта тема будет артикулироваться открыто, но уже исключительно в связи с супружеской жизнью, хотя и в нее (тут уже снова по умолчанию) вплетается политика и даже фигура государя, как известно, тесно связанного с историей последней дуэли поэта.
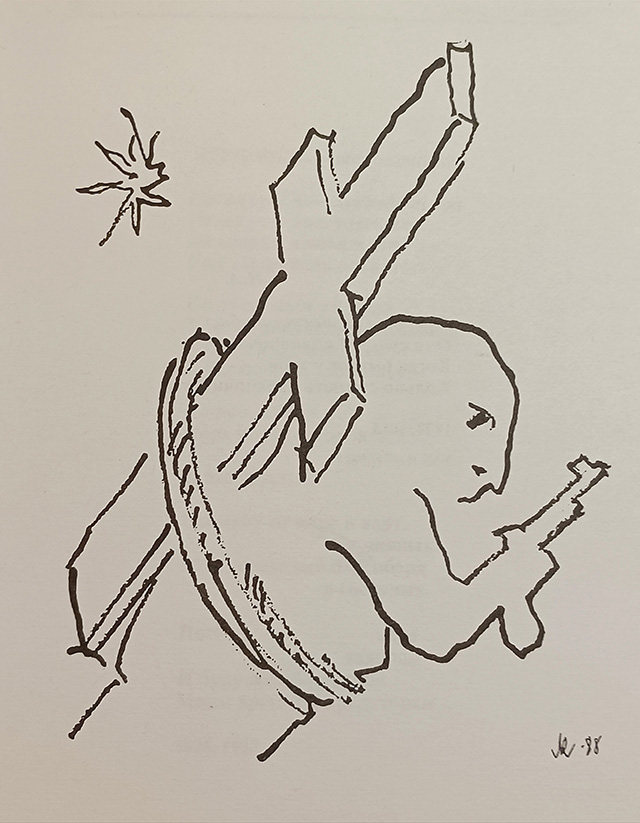 Ил. к описанию 4 («Справа — рукопись “Полтава”…»)
Ил. к описанию 4 («Справа — рукопись “Полтава”…»)Интересно, что рисунки повешенных в рукописи «Полтавы» (1828) есть, а вот отрывка «И я бы мог как шута на...» — нет! Здесь Сапгир уже дезинформирует читателя, тем более что Пушкин себя нигде не вешал, да еще «совокупно с неизвестным». В черновиках поэмы, помимо пятерых казненных декабристов, есть изображения троих повешенных (это, по мнению Т. Цявловской, чучело Мазепы с двумя сообщниками), двоих повешенных (оба повернуты к зрителю спиной) и просто повешенного. Но даже в отношении этого одного нельзя говорить об автопортрете (вместо лица там череп), разве что о наибольшей автобиографичности изображения, что, кстати, и сделал А. Эфрос.
Сапгир не просто снова предстает ненадежным рассказчиком. Он в очередной раз заявляет тему любви, измены и смерти, хотя датировку дает по отрывку 1826 года. Дело в том, что мрачные мысли Пушкина два года спустя, осенью 1828-го, были связаны не только и не столько с восстанием декабристов, сколько со следствием по делу об авторстве «Гавриилиады»: из-за нее поэт вполне мог отправиться на каторгу в Сибирь. А это уже не просто эротика: это история супружеской измены, причем на самом-самом верху. Выше некуда.
Все еще сжатый комментарий: вторая половина
К описанию пятого черновика рассказ о почерке замещается разговором о листках, т. е. предмете, бумаге. Происходит нечто вроде отчуждения фигуры поэта. Одновременно Сапгир от авторской речи переходит к переложению стихами чужой прозы, а именно описаний пушкинских черновиков, которые содержатся в книге И. Шляпкина «Из неизданных бумаг А.С. Пушкина» (1903). Автор на них ссылается дважды, так что игнорировать этот источник нельзя.
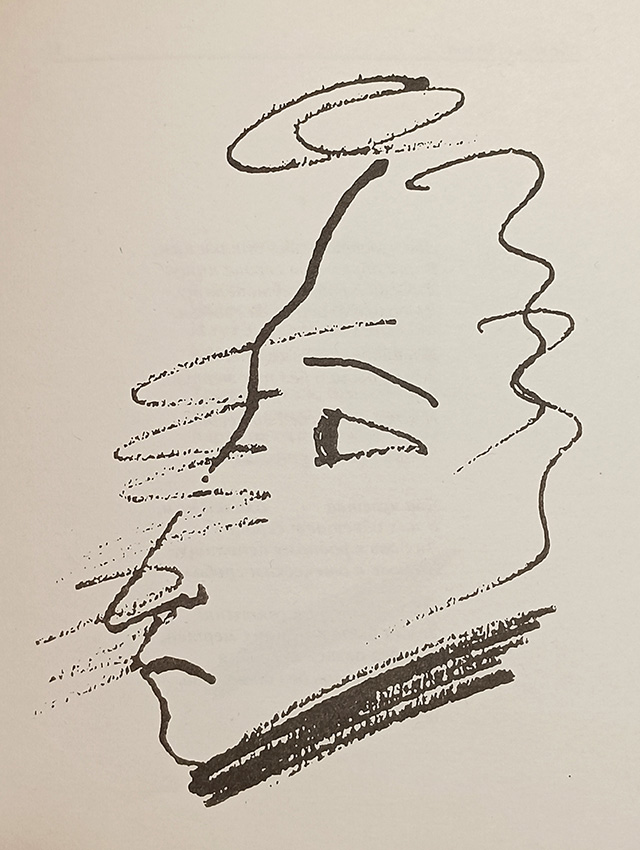 Ил. к описанию 5 («У Онегина в бюваре…»): стилизованный автопортрет Пушкина из черновой рукописи «Бахчисарайского фонтана»
Ил. к описанию 5 («У Онегина в бюваре…»): стилизованный автопортрет Пушкина из черновой рукописи «Бахчисарайского фонтана»Вот что мы читаем у Шляпкина: «На оторванной, по-видимому от какого-нибудь письма, грубой линейной бумаге, помеченной красными чернилами цифрой 45. Чернила поблекли. На обороте начало рисунка акварелью, цветок иван-да-марья (Viola tricolor prat.) с двумя лиловыми и тремя желтыми лепестками».
Этот прозаический отрывок переложен Сапгиром в стихи не только в пятом, но и в финальном, шестом описании, причем в порядке, обратном тому, который присутствует в только предъявленном фрагменте текстологической прозы. Сначала читатель видит оборот:
И — цветок на обороте бледно-желтый и лиловый,
Из Тригорского, наверно, эта память — акварель.
Только потом появляется лицевая сторона: «Четвертушка грубой синей нелинованной бумаги... Блеклый номер...»
Самое смешное, что листок с акварелью позабыт в бюваре не у кого-нибудь, а у самого Онегина. Под звездочкой сделано примечание: «Не у того — героя одноименного романа, а у другого Онегина (Александра Федоровича Отто), жившего в Париже и в прошлом веке и на рубеже веков, страстного собирателя пушкинианы». Даже если ничего не знать об этой фигуре, немыслимо допустить, чтобы листок какой угодно бумаги, так или иначе связанный с Пушкиным, мог быть позабыт в бюваре у страстного собирателя!
Но и это еще не все. Сапгир говорит сначала о черновике стихотворения «Когда так нежно, так сердечно...», потом о «Шотландской песне». У И. Шляпкина описан совершенно другой черновик, им же впервые полностью и опубликованный:
Все в жертву памяти твоей:
И голос лиры вдохновенной,
И слезы девы воспаленной,
И трепет ревности моей,
И славы блеск, и мрак изгнанья,
И светлых мыслей красота,
И мщенье, бурная мечта
Ожесточенного страданья.
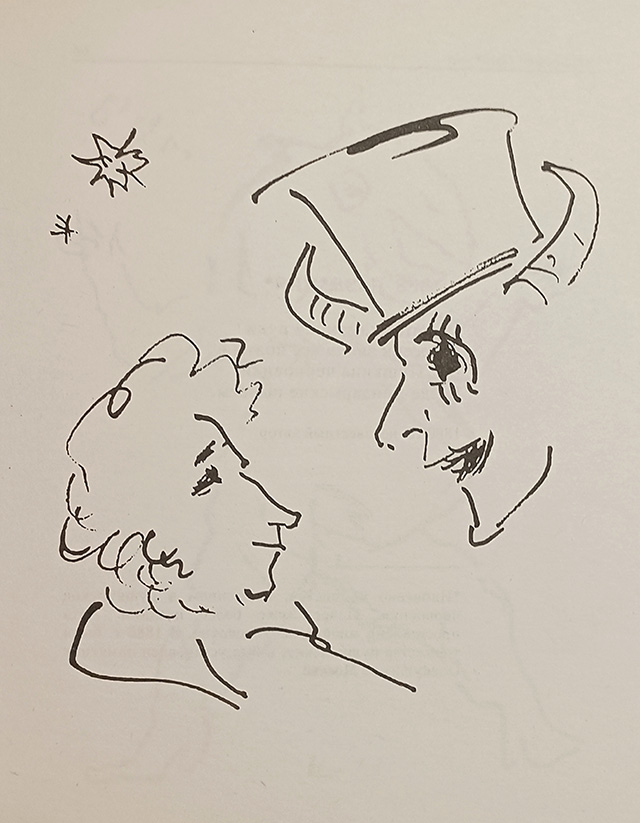 Ил. к описанию 6 («Четвертушка грубой синей…»)
Ил. к описанию 6 («Четвертушка грубой синей…»)Это еще раз к вопросу о достоверности описаний. Но чем ближе к финалу, тем менее важна Сапгиру текстологическая достоверность и, наоборот, все большую важность приобретает содержательная, которую обеспечивает в том числе «Шотландская песня». В тексте оригинала во всех вариантах встречается слово cuckold (cuckold face, old cuckold, blind cuckold etc.), а это ведь не что иное, как синоним французского cocu из окаянного пасквиля, отчасти похожий на него по звучанию и написанию. Значение понятно — «рогоносец».
Важно и то, что «Шотландской песне» предшествует «Баллара» на известный сюжет о доже и догарессе (без описания черновика). Елена Абрамовских отмечает, что среди многочисленных вариантов дописывания этого отрывка Сапгир единственный предложил вариант с кровавой развязкой: «По ступеням с гулким стуком покатилась голова...» Почему? Сапгир — далеко не самый кровожадный поэт. Он, конечно, мог следовать Байрону, чья драма «Марино Фальеро, дож венецианский» заканчивается тем же падением отсеченной головы на Лестницу Гигантов. Но дело в другом, и верный ответ дает сама же исследовательница: «Трагическая история Марино Фальери (у Сапгира дожа зовут Марио Фальеро. — П. Р.), вступившегося за честь молодой жены и погибшего, естественно ассоциируется с полутора последними годами жизни Пушкина...» Таким образом, снова заявляет о себе история любви и смерти. Она продолжится и в последующих частях книги «Черновики Пушкина», но это уже предмет отдельного разговора. Конечно, о любви говорится и в тех пушкинских черновиках, что остались у Сапгира без описания. Но тема любви и смерти проведена именно в их описаниях в части I, прочитанных как самостоятельный встроенный текст. Это мы и попытались показать.
Сумма оппозиций
В своем «Введении в поэтику Сапгира...» Ю. Орлицкий пишет, что художественный мир поэта предстает в виде «совокупности оппозиций, актуализируемых и снимаемых в процессе развертывания как отдельных его текстов и книг, так и творчества в целом». Описания черновиков наглядно демонстрируют работу таких оппозиций.
Это обратимость начала и конца, подлинника и варианта. Это превращение комментирующего текста в комментируемый и рамочного повествования — во вложенное. Попутно двухголосое, диалогическое повествование у нас на глазах становится безусловно монологическим: вольность обращения Сапгира такова, что невозможно рассматривать Пушкина только как собеседника — это еще и предмет описания, и даже, напомним, субстрат высказывания.
Единство текстовой и затекстовой реальности в описаниях черновиков напоминает нам еще об одной драматической оппозиции — утонченной литературной игры и самого прямого биографического, жизненного содержания. Ю. Лотман писал о «Евгении Онегине» Пушкина, что в нем «подчеркнутая литературность повествования парадоксально разрушает самый принцип литературности и ведет к реалистической манере», и за обнажением приема обнаруживается «не релятивизм романтической (сегодня бы мы сказали „постмодернистской“. — П.Р.) иронии, а правда простой жизни и точного смысла». Примерно о том же говорит М. Альтшуллер в отношении «Маленьких трагедий»: «Принципиальная обобщенность, всечеловечность поставленных проблем подчеркнута нарочитой литературностью сюжетов» (см. М. Альтшуллер. Пушкин. Кюхельбекер. Грибоедов. СПб: «Пушкинский Дом», 2022).
Так и в «Черновиках Пушкина» Сапгира: всечеловечность любви и смерти наглядно предъявлена в форме веселой и умной игры с черновиками и их описаниями.