«Человек он был великий и страшный»
К 110-летию со дня рождения Константина Симонова — о написанных им «Размышлениях о И. В. Сталине»
Bundesarchiv, Bild 183-F1019-0039-001
Ровно 110 лет назад родился поэт и писатель, киносценарист и общественный деятель, военный корреспондент времен Великой Отечественной Константин Симонов. Творчество его давно и хорошо изучено, однако одна, самая поздняя его книга, возможно, нуждается сегодня в дополнительном внимании. Симонов обдумывал ее почти два десятилетия, а надиктовать успел за полгода до смерти. Об этой книге — «Глазами человека моего поколения. Размышления о И. В. Сталине» — материал Алексея Деревянкина.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Среди всего, написанного Константином Симоновым, его последняя книга «Глазами человека моего поколения. Размышления о И. В. Сталине» стоит особняком. Вынесенное в заглавие слово «размышления» точно отражает ее содержание: назвать записи Симонова воспоминаниями было бы неверно. Это книга-исповедь: Симонов стремился не просто рассказать об эпизодах своей жизни, прямо или косвенно связанных со Сталиным, но и проанализировать свое к нему отношение, вспомнить, каким и почему оно было и как менялось в 1930-е, 1940-е, начале 1950-х и в первые годы после смерти вождя — при этом постаравшись преодолеть соблазн «приписать себе тогдашнему сегодняшние твои мысли и чувства».
Симонов задумал «Размышления» задолго до того, как они были написаны. По разным причинам он все никак не начинал работу над книгой. И то, что в последний год своей жизни, будучи уже тяжело болен, Симонов отложил другие незаконченные проекты и взялся за размышления о Сталине, показывает, какое значение он придавал этой теме.
В прошлом году минуло четверть века со дня смерти Сталина, а между тем мне трудно вспомнить за все эти теперь уже почти двадцать шесть лет сколько-нибудь длительный отрезок времени, когда проблема оценки личности и деятельности Сталина, его места в истории страны и в психологии нескольких людских поколений так или иначе не занимала бы меня…
— пояснял Симонов, открывая книгу.
Желание Симонова понять личность Сталина и его роль в истории стало особенно острым в конце 1950-х, когда Симонов начал работу над романом «Солдатами не рождаются», одним из героев которого стал Верховный главнокомандующий. Подпитывался этот интерес и потоком читательских писем, которые Симонов получал на протяжении двадцати лет, с первой публикации «Живых и мертвых» и до конца жизни: «если не каждое третье, то по крайней мере каждое четвертое письмо так или иначе… касалось темы: Сталин и война».
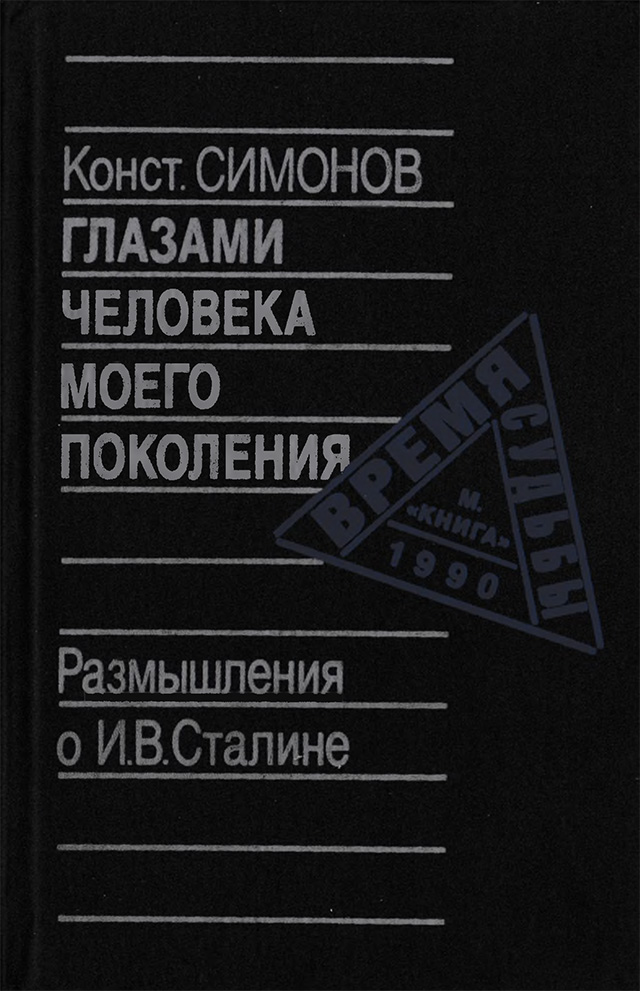
«Размышления» подводили итог этой работе мысли: Симонов продиктовал текст книги в феврале — апреле 1979 года, меньше чем за полгода до смерти. Вычитать и отредактировать рукопись он уже не успел; этот труд взял на себя критик Лазарь Лазарев, который подготовил записи к изданию. В 1988 году «Размышления» были опубликованы в журнале «Знамя» и в том же году — отдельным изданием с внушительным даже по меркам тех лет тиражом — 400 тысяч. В 1990-м — еще 800 тысяч.
Собственно размышления о Сталине составляют первую часть книги. Она заканчивается серединой 1950-х годов, то есть временем между смертью вождя и XX съездом КПСС. Вторую часть, «Сталин и война», Симонов завершить не успел, поэтому она составлена из подготовительных материалов, которые он собирал много лет. Основное ее содержание составляют записи бесед Симонова с крупными советскими военачальниками: Жуковым, Коневым, Василевским, Исаковым. Интересен и доклад «Уроки истории и долг писателя», который Симонов прочел на пленуме Московского отделения Союза писателей в преддверии 20-летия Победы: несмотря на довольно сдержанную критику, которой Симонов подверг роль Сталина в Великой Отечественной войне, опубликовать этот текст в печати удалось лишь в годы перестройки.
Книга обстоятельна: в ней около 500 страниц. События, о которых рассказывает Симонов, порой приводятся с мельчайшими подробностями, однако эта педантичность не вызывает ощущения нудности. Первым упоминаемым событием из истории страны становится смерть Ленина — Симонову тогда было 8 лет. Затем следует рассказ про арест отчима и переезд в Москву (1931 год). В то время, признается Симонов, «правота Сталина, который стоял за быструю индустриализацию страны и добивался ее, во имя этого спорил с другими и доказывал их неправоту… была для меня вне сомнений».
В 1937–1939 годах газеты освещали процесс над Тухачевским, Егоровым и другими высокопоставленными командирами Красной армии.
Так же, как большинство, наверное, людей… я думал тогда, что процесс над Тухачевским и другими военными, наверное, правильный процесс. Кому же могло понадобиться без вины осудить и расстрелять таких людей, как они, как маршалы Егоров и Тухачевский, заместитель наркома, начальник Генерального штаба… они в моем юношеском сознании были цветом нашей армии, ее командного состава, кто бы их арестовал и кто бы их приговорил к расстрелу, если бы они были не виноваты? Конечно же, не приходилось сомневаться в том, что это был какой-то страшный заговор против Советской власти. Сомневаться просто не приходило в голову, потому что альтернативы не было — я говорю о том времени: или они виноваты, или это невозможно понять.
Так же Симонов воспринял и другие политические процессы тех лет. Однако уже к тому времени относятся первые, очень смутные ростки противоречий в его отношении к Сталину. Быть может, конкретным толчком к этому стал «совершенно неожиданный и как-то не лезший ни в какие ворота» арест Михаила Кольцова в конце 1938 года.
Ни понять этого, ни поверить в это — в то, что он в чем-то виноват, было невозможно или почти невозможно. И в общем, в это не поверили, надо сказать это так же без преувеличений, как я без преуменьшений говорил о других случаях, когда верили, и легко верили.
Следующим событием, которое хоть и не внесло «сколько-нибудь заметной трещины» в представление Симонова о Сталине, но все же «тряхануло» его, стало подписание с Германией пакта о ненападении в августе 1939-го — ведь вплоть до того момента советская пропаганда носила явный антифашистский характер. Умом Симонов понимал необходимость договора с Гитлером, но все же не мог примириться со смутными ощущениями:
Все вроде было так, а все-таки что-то было и не так, какой-то червяк грыз и сосал душу… мы из-за договора о ненападении… из кого-то одного стали кем-то другим.
Чувство «внутренней душевной стесненности» усиливалось по мере завоеваний Германии в Европе:
Они оставались теми же, кем были, — фашистами, но мы уже не имели возможности писать и говорить о них вслух то, что мы о них думаем.
Такие же неосознанные сомнения вызвала у Симонова советско-финляндская война 1939-1940 годов: «было нечто, мешавшее душевно стремиться на эту войну… так, как я стремился, даже рвался попасть на Халхин-Гол в разгар событий, которые могли перерасти в войну с Японией».
И все же, признается Симонов, хотя «было и такое, о чем можно было и следовало думать до XX съезда, и оснований для этого было достаточно», эти ростки тогда так и остались на уровне подсознательных смутных ощущений, были задавлены «в результате где-то трусости, где-то упорного переубеждения самого себя, где-то насилия над собой, где-то желания не касаться того, чего ты не хочешь касаться даже в мыслях». И еще потому, что в массовом сознании все успехи и «хорошие» начинания тех лет — индустриализация, освоение Арктики, военная помощь Советского Союза Испании и Монголии — связывались прежде всего с именем Сталина как руководителя государства. Подкупала и манера вождя просто держаться и говорить ясно и последовательно: кадры с его выступлениями можно было увидеть в кинохронике.

После Великой Отечественной войны Симонов несколько раз встречался со Сталиным. Чаще всего это были заседания по вопросу присуждения Сталинских премий в области литературы и искусства. Быть может, самая интересная часть книги — рассказ об этих встречах. Вести записи на совещаниях у Сталина было не принято, но Симонов всякий раз составлял стенограмму на следующий день. Он включил в «Размышления» эти записи, снабдив их, где нужно, дополнительными комментариями и воспоминаниями.
Эти записи предельно подробны и передают нам не только то, о чем говорилось в кабинете вождя, но и любопытные детали о характерах и манере общения участников совещаний (прежде всего самого Сталина) и атмосфере, в которой те проходили.
Когда Фадеев стал читать письмо, Сталин продолжал ходить, но уже не там, а делая несколько шагов взад и вперед вдоль стола с нашей стороны и поглядывая на нас… Сталин ходил, слушал, как читает Фадеев, слушал очень внимательно, с серьезным и даже напряженным выражением лица…
До этого с самого начала встречи я чувствовал себя по-другому, довольно свободно в той атмосфере, которая зависела от Сталина и которую он создал. А тут почувствовал себя напряженно и неуютно. Он так смотрел на нас и так слушал фадеевское чтение, что за этим была какая-то нота опасности — и не вообще, а в частности для нас, сидевших там.
Записи Симонова и комментарии к ним ценны еще и тем, что раскрывают перед нами историю литературного процесса тех лет и взгляды Сталина на политику в области искусства. Сталин рассматривал присуждение премий прежде всего как политическое дело, и не раз бывало так, что достойная в художественном отношении книга получала отвод, в то время как произведение слабое, но политически актуальное могло быть удостоено даже премии I степени.
…зашла речь о книге Василия Смирнова «Сыновья»… Сталин сказал задумчиво:
— Да, он хорошо пишет, способный человек, — потом помолчал и добавил полувопросительно, полуутвердительно: — Но нужна ли эта книга нам сейчас?!
В этом можно найти свой, пусть и не бесспорный, резон; и все же Симонов жаловался на противоречивость сталинских указаний и на то, что причудливые повороты логики вождя не всегда удавалось объяснить соображениями политической целесообразности:
Чем дальше, тем труднее было приводить у себя в голове в какую-то систему, сколько-нибудь похожую на единую систему, то, что он требовал от критики, от литературы… мозги иногда лопались от этих по-своему честных стараний совместить несовместимое.
Бенедикт Сарнов, автор четырехтомного труда «Сталин и писатели», одна из глав которого посвящена Симонову, предполагает, что ответ на мучившие писателя вопросы лежит на поверхности: мол, многие казавшиеся странными ходы Сталина объяснялись простыми капризами его не слишком совершенного вкуса; не глубиной мысли вождя, а напротив, ее грубостью и примитивностью. Возможно.

О том, какое значение Сталин придавал премии своего имени, говорит то, что он сам прочитывал все выдвинутые произведения и не только непременно участвовал в заседаниях, но и оставлял за собой последнее слово, фактически предоставляя всем остальным, даже главе Союза писателей, лишь право совещательного голоса.
— И все-таки я считаю, что премию роману надо дать, — сказал в заключение Сталин, относившийся к возражениям Фадеева терпеливо и с долей любопытства.
Услышав это, Фадеев впервые, кажется, за все время оторвал от трибунки свои вцепившиеся в нее руки, беспомощно развел ими в стороны и упрямо, не желая согласиться с тем, что роману Коптяевой надо дать премию, сказал: «А это уж ваша воля». И немножко подержав свои, беспомощно и удивленно раскинутые руки в воздухе, опять вцепился ими в трибунку.
Впрочем, на этих заседаниях со Сталиным спорили нечасто.
Случались и забавные истории. Обсуждался фильм «Адмирал Нахимов»:
— Вот есть письмо, товарищ Сталин.
— От кого?
Жданов назвал имя очень известного и очень хорошего актера.
— Что он пишет?
Он пишет, сказал Жданов, что будет политически не совсем правильно, если его не включат в число актеров, премированных по этому фильму, поскольку он играет роль турецкого паши, нашего главного противника, и если ему не дадут премии, то это может выглядеть как неправильная оценка роли нашего противника в фильме, искажение соотношения сил. Не поручусь за точность слов, но примерно так изложил это письмо Жданов.
Сталин усмехнулся и, усмехаясь, спросил:
— Хочет получить премию, товарищ Жданов?
— Хочет, товарищ Сталин.
— Очень хочет?
— Очень хочет.
— Очень просит?
— Очень просит.
— Ну раз так хочет, так просит, надо дать человеку премию, — все еще продолжая усмехаться, сказал Сталин. И, став вдруг серьезным, добавил: — А вот тот актер, который играет матроса Кошку, не просил премии?
— Не просил, товарищ Сталин.
— Но он тоже хорошо играет, только не просит. Ну человек не просит, а мы дадим и ему, как вы думаете?
После войны появились новые сигналы неблагополучия. Таковыми стали антисемитские кампании, о которых Симонов как высокопоставленный литератор — заместитель Генерального секретаря Союза писателей и главный редактор «Нового мира», а после «Литературной газеты» — хорошо знал: ведь многие из них касались именно литературы. Это и закрытие еврейских издательств и газет, и аресты писателей, писавших на идише, и кампания против театральных критиков — «антипатриотов» и «космополитов»…
Но «все это, однако, не складывалось в нечто планомерное и идущее от Сталина». Практически до самой смерти вождя отношение Симонова к нему оставалось «почти некритическим». Лишь дело врачей что-то сдвинуло в сознании:
Среди этих врачей с еврейскими фамилиями был человек, которого я прекрасно знал лично, — профессор Вовси… В виновность его я просто не мог поверить. Да и вообще все это не вызывало веры, казалось чем-то чудовищным, странным.
Вскоре после смерти вождя Берия предпринял любопытную акцию: членов и кандидатов в члены ЦК КПСС (в число вторых входил и Симонов) пригласили в Кремль для знакомства с документами, свидетельствовавшими о непосредственном участии Сталина в деле врачей.
Было очень страшно прочесть те документы, свидетельствовавшие о начинавшемся распаде личности, о жестокости, о полубезумной подозрительности…
Однако и этого было недостаточно, чтобы в один момент перевернуть отношение Симонова к Сталину, — учитывая то, что он, по выражению Сарнова, глубже, чем некоторые другие литераторы, «вмерз в лед сталинской „полярной преисподней“. Поэтому и размораживался, оттаивал он медленнее». Сам Симонов писал в «Размышлениях»:
Мое сегодняшнее отношение к Сталину складывалось постепенно, четверть века… своего отношения к Сталину в те три года [1953–1956] я не могу точно сформулировать: оно было очень неустойчивым. Меня метало между разными чувствами и разными точками зрения по разным поводам.
Книга Симонова ценна для нас и как исторический документ, и как свидетельство мужества самого писателя. Мужества, я бы сказал, двойного: во-первых, немалая воля требовалась уже для того, чтобы существенно переосмыслить свое отношение к вождю — от того самого «почти некритического» до отрицательного, хотя Симонов до конца жизни продолжал признавать за Сталиным большие заслуги:
Хочется надеяться, что в дальнейшем время позволит нам оценить фигуру Сталина более точно, поставив все точки над «i» и сказав все до конца и о его великих заслугах, и о его страшных преступлениях. И о том, и о другом. Ибо человек он был великий и страшный.
О том, как непросто Симонову давалось это переосмысление, он рассказал в стихотворении начала 1956 года (конечно, тогда он и не пытался его напечатать):
Редактор просит выстричь прочь
Из строчек имя Сталина,
Но он не может мне помочь
С тем, что в душе оставлено.Уж тут не до искусства,
Плохие ли, хорошие,
На то они и чувства —
Они к костям приросшие.
И во-вторых, нужно было найти в себе волю под запись рассказать о том, к чему привели раздумья. Никому не приятно признавать свои заблуждения. Симонов сделал это, хотя и дозированно: он прямым текстом писал, что ему стыдно за фальшивую конъюнктурную пьесу «Чужая тень» и полученную за нее Сталинскую премию, за свое участие в борьбе с низкопоклонством перед Западом, за памфлет про Югославию времен вражды с Тито (от написания которого он, впрочем, отказаться не мог, как и от многого другого). Но в то же время за написанное в ноябре 1941-го стихотворение
Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?
Ты должен слышать нас, мы это знаем:
Не мать, не сына — в этот грозный час
Тебя мы самым первым вспоминаем…
Симонов стыда не испытывал, резонно поясняя: да, ему на склоне лет было бы приятнее думать, что у него таких строк не было — однако когда он их писал, они абсолютно искренне выражали то, что он чувствовал той военной осенью.
Несмотря на стремление Симонова максимально честно разобраться в своем отношении к Сталину, «Размышления» все же оставляют ощущение некоторой недоговоренности: как будто Симонов в чем-то так и не смог признаться даже самому себе. Некоторые недомолвки видны уже при внимательном чтении текста, некоторые — при сопоставлении его с другими документами. Вот, например, в самом конце первой части Симонов постулирует:
Я не был заядлым сталинистом ни в пятьдесят третьем, ни в пятьдесят четвертом году, ни при жизни Сталина.
В это можно было бы поверить, если бы буквально страницей раньше Симонов не рассказал, как через две недели после смерти вождя опубликовал в своей «Литературной газете» передовую статью «Священный долг писателя», в которой говорилось:
Самая важная, самая высокая задача, со всею настоятельностью поставленная перед советской литературой, заключается в том, чтобы во всем величии и во всей полноте запечатлеть для своих современников и для грядущих поколений образ величайшего гения всех времен и народов — бессмертного Сталина.
Как совместить этот факт с фразой «я не был заядлым сталинистом»?
Можно было бы совместить, если бы, например, Симонов получил указание на такую публикацию из ЦК и, будучи внутренне с ним несогласным, не смог пойти против партийной дисциплины. Но Симонов честно пишет, что напечатал статью исключительно по собственному почину, и никакого указания не было; напротив, Хрущев остался настолько недоволен таким возвеличиванием Сталина, что даже вознамерился убрать Симонова из редакторов (правда, потом поостыл).
Другой пример. Симонов несколько раз вскользь упоминает о «зловещей кампании» по борьбе с критиками-антипатриотами, но не останавливается на ней подробно. Один раз в связи с этим делом Симонов весьма критически отзывается о «литературном палаче» Анатолии Софронове (фигуре, надо сказать, действительно одиозной). Из написанного складывается впечатление, будто сам Симонов к этой истории касательства не имел.
Но это, к сожалению, не так. В марте 1949 года в ЦК ВКП (б) было отправлено письмо:
В связи с разоблачением одной антипартийной группы театральных критиков Секретариат Союза советских писателей ставит вопрос об исключении из рядов Союза писателей критиков-антипатриотов…
(дальше перечисляются девять фамилий, в большинстве своем — еврейские). И подписи: Симонов, Софронов.
Скорее всего, это прошение, в отличие от мартовской статьи 1953 года, как раз-таки родилось вследствие прямого указания сверху. И Симонову (который сам по себе никаким антисемитизмом не страдал) подписать письмо пришлось по должности, как первому заместителю отсутствующего по каким-то причинам Фадеева. В таких условиях отказ от подписи был самоубийственен. Но дело-то не в письме, а в том, что и тридцать лет спустя Симонову не хватило духу признаться в своем, пусть и вынужденном, участии в той кампании. Неужели не помнил?
Я пишу это не в осуждение Симонова. Но ведь книга не только о Сталине — она и о самом Симонове. И не обратить внимание на такие вещи, свести все к простой фабуле «со временем переосмыслил свое отношение к Сталину и повинился в своих грехах» означало бы упростить и исказить рассказ о попытке Симонова разобраться в самом себе.
Прошение в ЦК, которое я процитировал, иллюстрирует важную мысль: Симонов как литературный функционер был частью системы и вынужден был играть по ее правилам. И в этой системе он был куда меньшим ортодоксом, чем многие другие: не сомневаюсь, что он не испытывал ни малейшего удовольствия, подписывая то письмо и другие, подобные ему (другие, к сожалению, тоже были). Давид Самойлов отзывался о Симонове:
Либерал — он всегда либерал. Он делает добро, покуда это ему ничем не грозит, фрондирует до первого окрика.
Но при всем уважении к Давиду Самуиловичу тон этих строк не кажется мне верным. Во-первых, в сталинские годы даже и для такой фронды требовалась определенная смелость. Во-вторых, при всей своей встроенности в систему Симонов часто действовал на грани дозволенного, предпринимая довольно отважные поступки. Только приняв «Новый мир» в 1946 году, он берется печатать не слишком обласканных властью авторов: в 1946-м в журнале выходит рассказ Андрея Платонова (что, кстати, вызвало волну критики, и в следующий раз Платонова напечатать уже не дали), а в 1947-м — несколько стихотворений Заболоцкого; тогда же на первой своей встрече со Сталиным Симонов набирается смелости и просит у вождя разрешения опубликовать рассказы Зощенко — и это меньше чем через год после постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград», заклеймившего Зощенко как «пошляка и подонка литературы»!
Мало того, в том же 1947-м Симонов пытается напечатать стихи Пастернака — не оставляя стараний даже некоторое время после того, как сама «Правда» выступила с критикой «аполитичной и индивидуалистической позиции Б. Пастернака». (В итоге Симонову все же пришлось отступить.) А в 1966 году, когда группа деятелей науки и искусства составляет Брежневу Письмо двадцати пяти против реабилитации Сталина, Симонов не присоединяется к нему, но направляет первому секретарю личное письмо с протестом. Это тоже было отважно: в тюрьму Симонова, конечно, не посадили бы, но навредить в литературной деятельности вполне могли.
Евгений Евтушенко писал о Симонове в своей антологии «Строфы века»:
Я видел Симонова на траурном митинге в марте 1953 года, когда он с трудом сдерживал рыдания. Но, к его чести, я хотел бы сказать, что его переоценка Сталина была мучительной, но не конъюнктурной, а искренней. Да, из сегодняшнего времени эта переоценка может казаться половинчатой, но не забудем того, что когда-то в оторопевших глазах идеологического генералитета эта страдальческая половинчатость выглядела чуть ли не подрывом всех основ.
Впрочем, и эта половинчатость не всем приходится по душе. В одном из неосталинистских блогов я недавно наткнулся на восхитительную в своем абсурде мысль: мол, никак не мог такую книгу написать лауреат шести Сталинских премий, автор строк
Нет слов таких, чтоб ими описать
Всю нестерпимость горя и печали.
Нет слов таких, чтоб ими рассказать,
Как мы скорбим по Вас, товарищ Сталин!
Не мудрствуя лукаво, блогер объявляет «Размышления», от первой до последней страницы, фальсификацией: якобы написал их Лазарь Лазарев, много лет изучавший творчество Симонова и сумевший мимикрировать под его стиль.
Хотелось бы, конечно, пожелать этой действительно глубокой и непростой книге более вдумчивых читателей.