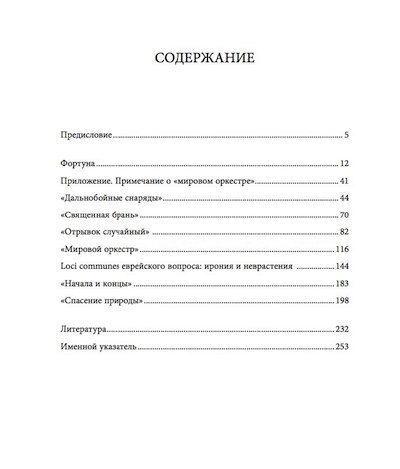«Блок-революционер был воспитан правоконсервативно»
Аркадий Блюмбаум о революционности, антисемитизме и мистицизме автора «Двенадцати»
Почему вы начали заниматься идеологическим контекстом произведений Блока?
Поэтика давно перестала меня интересовать, для меня это направление исчерпало себя. Чтобы заниматься чем-то, вы должны быть уверены, что у этого есть будущее, что еще не все сделано. Не очень интересуют меня и работы, описывающие внутрилитературные ряды: «вот здесь Баратынский процитировал Вольтера, а здесь обратился к тому-то», мне неинтересно (за очень редкими исключениями) их читать, хотя и приходится по долгу службы. То, чем я занимаюсь, я давно не называю филологией, это история. Я историк. Есть люди, которые занимаются историей литературы, есть те, которые занимаются историей экономики. Я занимаюсь интеллектуальной историей. Мой материал — литература, но я не могу сказать, что я зациклен на этом предмете. Современная литература за редкими исключениями, вроде Зебальда, меня не очень занимает, и вообще мне давно кажется, что литература сильно переоценена. Поэтому мои интересы сдвигались последние годы в сторону интеллектуальной истории, истории идей. Так и возник этот проект. Кроме того, меня очень интересует контрпросвещенческая традиция, реакция на то, что мы называем модерностью, Новым временем. Тексты Блока я люблю, поэтому мне было вполне комфортно работать именно с этим материалом. Конечно, он мог быть и другим, однако если бы я совсем не любил этого поэта, ничего бы не получилось. Я исхожу из того, что заниматься следует теми текстами, о которых тебе интересно думать. Так сошлось несколько линий: с одной стороны, ощущение того, что некоторые исследовательские направления являются неактуальными, с другой — интерес к контрпросвещению, а произведения Блока оказались очень удобным материалом.
Лет десять-двенадцать назад я начал читать Лео Шпитцера, и это стало для меня большим открытием — в частности, на меня огромное впечатление произвела его работа 1942 года об исторической семантике «ambiance». Мода на структурализм и установка на продуцирование новых теорий в определенной степени затмили авторов 1920–1950-х годов. Когда теория начала буксовать, уже в 1990-е, стало интересно, а что же было до того. Я с увлечением читал этих авторов: Шпитцера, Эрнста Канторовича, Эрнста Роберта Курциуса, Артура Лавджоя, Эдгара Цильзеля, Френсис Йейтс, Уильяма Хекшера —людей, отодвинутых, как мне кажется, в какой-то момент в сторону модой, что, вообще говоря, нормально. Интерес к доструктуралистским или неструктуралистским авторам я сегодня замечаю и у некоторых коллег. Для занятий интеллектуальной историей чтение Канторовича, Шпитцера или Йейтс оказывается существенней чтения Леви-Стросса. Мне в моей работе интересны именно эти исследования, структурирующие для меня интеллектуальную историю, чего нам не даст никакой структурализм, который антиисторичен by definition. Кстати, не исключено, что именно в этом и были его прелесть и новизна. Но вы начинаете смотреть рядом и обнаруживать еще кучу авторов, не получивших широкого признания, и некоторая радость открытия была дана мне во время работы над книгой. Если говорить о ныне живущих, очень хочется упомянуть Мартина Рюэля, автора блестящей книги о месте Возрождения в немецком историческом воображении, или Марка Антлиффа, написавшего замечательную книгу о рецепции бергсонианства французским художественным авангардом.
Вы пишете в книге, что Блок изначально сторонился общественной жизни. Что и в какой момент изменилось для него?
Случились русско-японская война и революция 1905 года. Политика вторгается в жизнь, причем так сильно, что ее больше невозможно игнорировать. Если бы эти события не произошли, у нас была бы не только другая история России, но и другая история русской литературы и модернизма в частности. Вторжение политики было настолько сильным, что люди, дистанцированные от нее, были вынуждены пересмотреть свои взгляды и как-то реагировать на это. Было бы странно, если бы этого не произошло. У Блока могли быть разные реакции на происходящее, но общественное уже никогда не уйдет из сферы его внимания. Ему пришлось адаптировать свою изначальную позицию к тому, что происходило. Понадобились какие-то интеллектуальные ресурсы (о которых я собственно и пишу в книге), чтобы вписаться в этот новый контекст.
Специалисты по русскому модернизму много пишут о роли войны с Японией и первой русской революции, но в массовом представлении переломным моментом является 1917 год. О некоторых авторах говорят: «он поверил в революцию, но потом разочаровался в ней», в том числе и о Блоке.
Это эффект 1917 года, который в каком-то смысле закрывает от нас события, значимые для людей 1900-х годов. События 1904–1907-го — то, что коренным образом изменило все, и мироощущение людей в том числе. С одной стороны, это чудовищное поражение русской армии, оказавшееся триггером для революции; затем — опыт самой революции и революционного насилия. Что касается Блока, то он никогда не разочаровывался в революции, он разочаровался в большевиках. С середины 1919 года никаких иллюзий у него уже не было. Блок одновременно говорит о рабовладельце Ленине и рабовладельце Милюкове, то есть его не устраивают большевики, но он не желает победы и их противникам. Он разочаровался в большевиках прежде всего потому, что они начали строить государство. Люди того поколения, к которому принадлежал Блок, пережили страшное разочарование в государстве (хотя и не только) из-за Первой мировой войны.
В этом неприятии государства при желании можно увидеть анархическую тенденцию?
Блоку не нравилось государство, которое он видел. Безусловно, в этом ощущаются некие анархические тенденции, но довольно своеобразные. Если вы мыслите революцию как революцию против секулярного, либерального, рационального XIX века (а он мыслил ее именно так), она по определению оказывается нерациональной, безумной и мистической. Революционер должен быть безумцем, только тогда ему удастся уничтожить этот сократический, выражаясь по-ницшеански, рациональный мир. И он должен быть мистиком, то есть тем, кто живет в иных, нефеноменальных времени и пространстве. Здесь важно представление о революции как о религиозном экстазе, о событии, которое происходит по воле иных миров. Революция как религиозный экстаз блокирует государственность. Государственностью занимаются либеральные поверенные вроде Цицерона. А революция — возвращение не к государственности, а к природе, как говорит Блок. Экстатические моменты, когда гасится любая рефлексия, это и есть самая большая ценность.
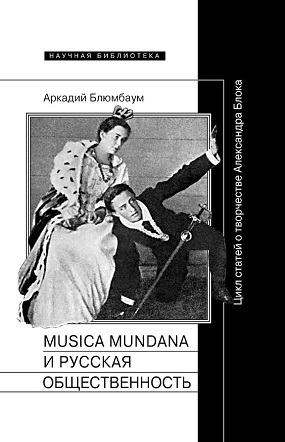 Что поменяли политические события 1900-х годов? Есть замечательная цитата из дневника Марии Андреевны Бекетовой, которая привыкла к совершенно другому племяннику. Вдруг, по-моему, в 1906 году, Блок начал рассказывать ей о социализме, отвержении индивидуализма, о социальном вопросе, и Марию Александровну все это совершенно потрясло: «Вот, до чего мы дожили», — говорит она. Это был абсолютный переворот, потому что ранний Блок, видимо, был настроен вполне монархически — во всяком случае, он был далек от мира прогрессивного студенчества, интересовавшегося общественностью. Далек, если не сказать враждебен.
Что поменяли политические события 1900-х годов? Есть замечательная цитата из дневника Марии Андреевны Бекетовой, которая привыкла к совершенно другому племяннику. Вдруг, по-моему, в 1906 году, Блок начал рассказывать ей о социализме, отвержении индивидуализма, о социальном вопросе, и Марию Александровну все это совершенно потрясло: «Вот, до чего мы дожили», — говорит она. Это был абсолютный переворот, потому что ранний Блок, видимо, был настроен вполне монархически — во всяком случае, он был далек от мира прогрессивного студенчества, интересовавшегося общественностью. Далек, если не сказать враждебен.
Чего, собственно говоря, хотела гимназия эпохи Александра III? Ее создатели, если я правильно понимаю, размышляли так: мы вам даем культуру в обмен на то, что вы не будете заниматься политикой. Очень многих это страшно раздражало: какая культура, когда народ страдает! Но одновременно появляются другие люди, в том числе будущие символисты. Они говорят: «Нет-нет, давайте нам культуру, античную литературу и побольше, а политика нам не нужна, нас вполне устраивает государь». Но такие события, как русско-японская война и первая революция, не дают возможности дистанцироваться от политики. Были, конечно, отдельные сложные исключения — например, Кузмин, который придерживается той же антиполитической точки зрения и в 1934 году, насколько я понимаю. Причем эта установка сочетается у него с неприязнью к любой «общественности» и вполне черносотенными политическими симпатиями – такова могла быть оборотная сторона этого предпочтения культуры политике. Хотя и Кузмин в 1905 году испытывает влияние событий — в частности, становится членом Союза русского народа. То есть и он в это время не такое уж исключение.
Для Блока, для Брюсова, для Белого сохранить дистанцию к политике в 1905 году оказалось невозможным. Что они получили от XIX века? Расовое мышление и социальный вопрос. При этом социальный вопрос — это уже события, которые буквально происходят на улице. А после революции в России впервые в истории появляется публичная политика: парламент, дело Бейлиса и пр. И на все это Блок реагирует, очень по-разному, но почти все время.
Чего же хотело поколение Блока?
Не поколение, а скорее группа людей объявила: хватит вашего позитивистского, либерального, секулярного XIX века, этого мира чеховской «Дамы с собачкой» — отвратительной интеллигентской обывательщины (представьте себе московские фрагменты этого рассказа). И в эти серость и пошлость вдруг входит Владимир Соловьев, а затем происходит революция. Белому и Блоку приходится адаптировать к этим условиям правоконсервативный габитус, впитанный ими. Идя навстречу большевикам в 1917 году, Блок видел в них и в революции поход против секулярного XIX века. Нам это кажется довольно странным, но Блок был человеком, впитавшим в себя антипросвещенческий пафос. Я думаю, ему было все равно, что большевики эксплицитно апеллировали к просвещению. Парадоксальная штука: Блок-революционер был воспитан правоконсервативно. Многие вещи такого рода и проговариваются. Обращение Блока к «Выбранным местам» Гоголя не случайно, или, например, его резкая неприязнь к Белинскому. Ведь для него большевистская революция — революция как бы против Белинского. Против тех, кто уничтожал, как Блок считал, культуру — очень важный конструкт, между прочим. Когда Блок говорил «либералы», он имел в виду общественную русскую интеллигентскую традицию, включавшую очень разных людей. Это словоупотребление еще эпохи 1890-х годов. Зинаида Гиппиус, вспоминая о начале литературной деятельности Мережковского, говорила, что либералы не могли печатать в своих журналах тексты, которые были посвящены религии, то есть под либералами понимались общественно-ориентированные литераторы. И это, конечно, не стоит соотносить с тем, как историки описывают либерализм. Либералы для Блока — рациональные, «беззвездные», то есть мистически индифферентные люди, пришедшие приблизительно в 1860-х годах. Именно они и олицетворяли для него XIX век.
Блок пытался фиксировать или анализировать перемены, происходившие в его взглядах?
У Блока, насколько я понимаю, были моменты, когда эта ретроспекция очень его интересовала, он же начал писать комментарии к своим ранним стихам, но не закончил. Блок никогда не отказывался от «Стихов о Прекрасной даме», они были для него самым главным событием. Ведь как поэт выстраивал свой биографический нарратив: мистическое откровение в юности, утрата этого контакта с иномирным, возвращение его в старости, и это несмотря на то, что вообще его позиция до 1909 года достаточно сильно менялась. А в 1909–1910-х появляется более-менее знакомый нам Блок — тот Блок, которого мы видим и в 1917 и 1918 годах. Мистика оказывается самой главной для него вещью. Вопрос заключался в том, как вписать в революционный контекст мистику. Когда я только начинал работать над этим проектом, я все время вспоминал замечательную фразу Шарля Пеги о том, что «все начинается мистикой и кончается политикой». Это точно то, что происходит с Блоком (и не только с ним). Он может высказываться и антимистически — это бывало, но, когда начинаешь анализировать тексты, понимаешь, что это-то и есть самое главное. Вопрос заключается в том, куда и как он в состоянии это вписать.
Вы довольно подробно пишете об антисемитизме Блока, о теме, которую специалисты затрагивают довольно редко…
Блок воспроизводит общие места, выработанные во второй половине XIX века. Да, он человек расового мышления, и еврейство воплощает для него начало максимально нетворческое, как оно и представлено у Дрюмона, Вагнера, Чемберлена и т.д. Эта проблематика оказывается для Блока очень существенной. Он проговаривает совершенно обыденные на тот момент общие места, которые воспроизводил и Белый, и кто угодно. И это необходимо описывать. Попытки стыдливо отвести глаза от антисемитской проблематики непродуктивны, потому что без этого нельзя понять ни XIX, ни ХХ век, вот в чем дело. У нас есть ошибочное представление о том, что это неприятная вещь, которую мы в состоянии обойти. В своей книге я пытаюсь показать, что для Блока — это одна из самых важных вещей. Расовая проблематика была импортирована в Россию из Германии, Англии и Франции. К концу XIX века это становится или могло стать частью интеллектуального багажа образованного русского человека. Появление еврейства на европейской интеллектуальной и политической сцене и одновременно расового дискурса — главный вопрос рубежа веков. Это в немалой степени касается реакции на модерность — а именно неоднократно проговаривавшейся связи, соотнесенности еврейства и Нового времени. На рубеже веков один из возможных историко-идеологических нарративов, описывавших появление Нового времени, включал в себя еврейство как творца модерности. Если вы настроены контрпросвещенчески, вы реагируете на еврейство как на воплощение этих рационалистических тенденций, которые оцениваете как крайне разрушительные.
Первая часть «Истоков тоталитаризма» Ханны Арендт, то есть та, которая посвящена антисемитизму, — это текст, исторически обращенный в XIX век, потому что рассматривать антисемитизм без сказанного в позапрошлом столетии невозможно. И если мы действительно хотим понимать этих людей, мы должны описывать их антисемитизм. Когда В.Н. Орлов публиковал блоковские записные книжки и дневники, он купировал антисемитские фрагменты. Занятно, что исследователь оставил при этом полонофобские высказывания. «Дворника я не принял, он поляк наглый, с такой-то я говорить не хочу, она полька грязная». Ничего не поделаешь, у нас нет другой истории. Более того, мы же знаем, что некоторые люди символистского круга — Эммилий Метнер, например — вполне дожили до 1930-х годов и Гитлера поприветствовали. Конечно, они многого не знали, но, с другой стороны, есть письмо Эллиса Метнеру, 1911-го, кажется, года, в котором он говорит: «Вспоминаю наш разговор на даче и как вы сказали, что целые расы надо уничтожать». Такие чеховские декорации: подмосковная дача, белые летние пиджаки, чай, скука, мухи и милые разговоры об уничтожении неполноценных рас.
Одна из целей, стоявшая передо мной, — в известном смысле деэкзотизировать материал, с которым я работал, чтобы его можно было описывать как часть европейской культуры.