Бесконечные веселые шествия и самостийные карнавалы
Дискуссия о книге Альбина Конечного «Былой Петербург»
Каждую неделю на станции «Говорит Москва» выходит передача Ирины Прохоровой «Культура повседневности», в которой обсуждаются новые книги и прирастающие к ним смыслы. Сегодня мы публикуем расшифровку беседы о книге Альбина Конечного «Былой Петербург. Былой Петербург. Проза будней и поэзия праздника».
Ирина Прохорова: Сегодня мы поговорим о повседневной жизни в Петербурге XIX века, отталкиваясь от книги, которая называется «Былой Петербург: проза будней и поэзия праздника». Поговорим мы об этом прежде всего с автором книги Альбином Михайловичем Конечным, литературоведом, историком культуры, специалистом по истории Петербурга. Второй наш гость — Лев Оборин, поэт, литературный критик, редактор серии «Культура повседневности» и проекта «Полка».
Альбин Михайлович, я сразу сошлюсь на цитату, принадлежащую Владимиру Николаевичу Топорову, который, обсуждая, как складывается литературный миф Петербурга, отмечал, что «при обзоре авторов, чей вклад в создание петербуржского текста наиболее весом, бросаются в глаза две особенности: исключительная роль писателей — уроженцев Москвы, а именно — Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Григорьев, Ремизов, Андрей Белый, и отсутствие петербуржцев по рождению фактически до заключительного этапа — Блок, Мандельштам, Вагинов». Как закоренелая москвичка я помню, что всегда, когда я приезжала в Ленинград, а потом и в Петербург, мне казалось странным, что миф о Петербурге — это такой мрачный, загадочный, чиновный Петербург, мистический и холодный. Хотя мне всегда казалось, что это скорее очень веселый, эклектичный, авангардный город, и никакого мрачного оттенка я никогда не замечала. Но я турист. Я хотела вас спросить, насколько литература отражает дух Петербурга, с вашей точки зрения, или скорее скрывает суть жизни города? Мои впечатления ложны? Или все-таки литературный миф настолько мощен, что иногда затмевает куда более сложную ткань жизни города?
Альбин Конечный: Я согласен со второй точкой зрения. Действительно, именно москвичи сделали огромный вклад в понимание того, что такое Петербург и что такое петербуржский миф. И, конечно, огромную роль здесь сыграл Владимир Николаевич Топоров — просто уникальный знаток Петербурга. Я, к сожалению, с ним не был знаком, но переписывался, сейчас даже эти письма опубликованы в «Литературном факте». Миф о Петербурге действительно отражает реальность города. Но я хотел бы вот что еще сказать. Как представляли Петербург, как думали о нем? Например, зачитаю вам цитату, на что же похож Петербург. Булгарин, хорошо знакомый с европейскими городами, в 1838 году в очерке «Характер Петербурга» утверждал: «А что такое Петербург? Точно так же особый мир, особая планета и притом планета самая оригинальная. Из всех столиц европейских Петербург оригинальнее прочих потому именно, что в нем находятся все оригинальности не только других столиц, но и второстепенных городов России, Англии, Франции и Германии, и что эти оригинальности не сливаются, а, напротив, обозначены». А по мнению Герцена, оригинального и самобытного в Петербурге ничего нет: «Петербург — воплощение общего отвлеченного понятия столичного города. Петербург тем и отличается от всех городов европейских, что он на все похож». Поэтому миф, что Петербург — это Северная Венеция, это совершенная мифологема. Но я бы сказал, что петербуржцев на самом деле нужно называть не горожанами, а островитянами, потому что мы все живем на островах, и куда-то мы уплываем — плывем, плывем, но не доплывем. Мне даже когда-то снился сон в 70-х годах, что Васильевский остров оторвался и его прибило к берегам Альбиона. И, кстати говоря, эта тема, что петербуржцы — островитяне, проходит и в поэзии. Например, у Александра Блока есть стихотворение «Острова», у Пушкина есть строки о том, что «волна плеснула в острова», и, наконец, стихотворение Шефнера, где он пишет прямо: «Мы — островитяне». И, между прочим, Александр Городницкий тоже говорит: «Я родился на Васильевском, поэтому считаю себя островитянином».
Лев Оборин: Когда говорят о мифах и о том, что Петербургу парадному, фасадному, имперскому противостоит Петербург дворов-колодцев и каналов, рек, Петербург-марево из романа Андрея Белого, я в первую очередь вспоминаю не дворы-колодцы и не окраины, а Петербург, увиденный сверху, с крыши. Вот Петербург крыш, по-моему, очень сильно противостоит Петербургу фасадов, и в этом даже есть какая-то тайна, которую он сообщает человеку, достаточно любопытному, чтобы пойти чуть дальше, чем по туристическим маршрутам.
Ирина Прохорова: В книге «Былой Петербург» много цитируется Николай Анциферов, человек, заложивший начала реального краеведения. Он писал о том, что «быль и миф Петербурга остаются неотделенными и, может быть, неотделимыми, и в истории Петербурга одно явление природы приобрело особое значение, придавшее петербургскому мифу совершенно исключительный интерес, — это наводнение». Может быть, вы расскажете, как это стихийное бедствие сформировало часть мифологии и вообще самосознания петербуржцев?
Лев Оборин: Я думаю, что это еще одна вещь, которая роднит Петербург с Венецией и ее знаменитой аква альта, которая тоже иногда достигает угрожающих масштабов, хотя и не таких разрушительных, как в 1824 году в Петербурге. Не знаю, насколько правильно судить город и любить город за его катастрофы и за вещи, которые все-таки достаточно серьезно до сих пор угрожают, хотя, насколько я знаю, там долгое время строились очень серьезные сооружения, сдерживающие этот напор дамбы, и время от времени появляется тревожная информация о том, что они все засорились, о том, что их надо чистить, о том, что они уже не выдерживают и, возможно, скоро Петербург опять зальет. Но, конечно, эти катаклизмы оставили настолько серьезный культурный след, что память о страданиях волей-неволей сглаживается, а «Медный всадник» Пушкина остается. Мы в первую очередь уже думаем о том, что происходило тогда, вспоминая историю о том, как плавают гробы, и о том, как граф Хвостов пел «Несчастье невских берегов».
Ирина Прохорова: Как свидетельствовал Владимир Соллогуб, «в нашей жизни Нева играла большую роль, и день наш располагался по ее норову». Мы вообще, наверное, стали забывать, насколько люди XIX века зависели от прихоти природы. Пушкин писал, что собирался поехать в Петербург из деревеньки, а начался ледоход, таянье снегов и все прочее, дороги затопило — вот сижу, жду, пока паводок сойдет. Это совсем другое ощущение пространства, места, возможности.
Лев Оборин: Мы помним, что в «Обломове» это очень важный конфликт — Нева не дает героям перебраться с одного места на другое, и, собственно, жизнь пошла в другую сторону.
 Наводнение в Петербурге, 1824
Наводнение в Петербурге, 1824Ирина Прохорова: В данном случае интересно, как Нева выстраивала стиль жизни города, о чем Альбин Михайлович и пишет в книжке «Былой Петербург». Альбин Михайлович, а как складываются различные ритуалы и праздники вокруг Невы? Вот со времен Петра I — Крещение, день преполовения, то есть вскрытия реки ото льда, и так далее. Мне кажется, это очень интересные вещи, которые можно сейчас увидеть в каком-то уже остаточном виде — никогда не думаешь о том, откуда они идут, а они закладываются тогда.
Альбин Конечный: В этом смысле нас можно сравнить с Наполи, где люди живут на краю, и они веселятся. Мы не веселимся, хотя тоже живем на краю. На самом деле, помимо угроз, Нева сыграла огромную роль в жизни города. Скорее она являлась в облике праздника. Все праздники проходили на Неве. В XVIII веке проходили знаменитые масленичные гуляния, которые растягивались от Смольного собора до Петровской площади, и на них собирался весь город, это был большой праздник. Потом Нева играла важную роль, когда открывалась навигация. Тогда это был такой большой праздник, люди собирались у Невы, видели, как вся церемония разворачивается на их глазах, когда комендант Петропавловской крепости едет ко дворцу, чтобы спросить соизволения на открытие навигации, за ним тянутся лодки, и вот наконец открывается навигация. Потом, конечно, праздник Крещения, тоже очень значимый. Еще был праздник преполовения — у стен Петропавловской крепости шла служба. Потом праздник Крещения, когда иордань вырубалась прямо напротив Зимнего дворца, и туда спускался весь двор по специальной лестнице. Как вы знаете, в Эрмитаже есть такая иордановская лестница. Вот по этой лестнице сходили к купели. А народ стоял, за этим наблюдал, а потом ему разрешали прийти набрать воды. И, наконец, был такой очень любопытный праздник, который назывался рекостав, когда замерзала Нева и жители Васильевского острова и Петроградской стороны не могли попасть на работу. Их это очень радовало — они собирались дома, играли в карты, пили пунш и ждали, когда лед встанет — тогда можно снова отправиться на службу.
Ирина Прохорова: Еще один очень важный момент — то, что уже стало визитной карточкой Петербурга. Это белые ночи, разумеется. Иностранцы-путешественники всегда поражались — маркиз де Кюстин и многие другие говорили, что это удивительно — можно читать и писать без свечей, и это преподносилось или как невероятное, прекрасное зрелище, или как тревожное — в зависимости от того, как люди это воспринимали. Но ведь на самом деле ночные гуляния вдоль Невы и вообще по городу начинаются в XIX веке, и до сих пор есть развлечение — приехать во время белых ночей и полночи гулять по городу. Этот ритуал пережил все катаклизмы ХХ века — ничего с этим не сделать. Если я правильно прочла в вашей книжке, тогда в российских гостиницах почему-то не принято было вешать шторы, и, соответственно, в белые ночи было слишком светло, чтобы можно было уснуть.
Альбин Конечный: Это предназначалось для петербуржцев — для тех, кто привык любоваться белыми ночами. А об иностранцах не думали.
Ирина Прохорова: Лев, я хотела у вас уточнить. Очень важный раздел книги посвящен складыванию культуры дачной жизни. Я не знала, пока не прочла книжку, что на самом деле эта традиция пошла из Петербурга и до Москвы дошла намного позже. Может быть, вы об этом расскажете?
Лев Оборин: Москва, насколько я знаю, в принципе была более дачной. Когда мы читаем, например, Тургенева, его рассказы о Москве, то там как сельские поданы места, которые сейчас вполне близко к центру. Да, в Петербурге, конечно, люди разъезжались как из столицы. Например, в книжке Веры Мильчиной о Париже рассказывается, как парижане летом тоже разъезжались по предместьям и дачам. Насколько я понимаю, в Петербурге была схожая история, и это описывалось еще в сборнике «Физиология Петербурга», где мы читаем юмористические заметки о летнем времяпрепровождении и гулянии, часто сопряженном с дождем и нехорошей погодой. Дача дает возможность попасть немножко в другое место, немножко уйти от упорядоченной, квадратной, чиновной жизни.
 «Вид на Стрелку Васильевского острова от Петропавловской крепости». Федор Алексеев, 1810
«Вид на Стрелку Васильевского острова от Петропавловской крепости». Федор Алексеев, 1810Ирина Прохорова: Но правильно ли я понимаю, что все-таки играли роль еще и санитарные условия? Москва была ведь такой столицей усадеб, где много садов, парков, то есть выезжать-то было долгое время и ни к чему. А Петербург был структурирован совершенно по-другому.
Альбин Конечный: Петербург был коммунальный город. В его доходных домах жить было практически невозможно. Отхожее место находилось на лестнице, или в лучшем случае во дворе выгребная яма стояла. Приезжали золотовозы, которые все это выгружали и увозили. Жутко антисанитарные условия, поэтому в Петербурге время от времени вспыхивала холера. И горожане, чтобы спастись, выезжали на дачу. И тут интересны наблюдения Булгарина о том, что благодаря дачам Петербург разделился на два города — зимний и летний, где были свои обряды и обычаи. В городе все зажато, все строго, по струнке, а на даче делай что хочешь. Тот же купец, приезжая на дачу, переодевался в гражданское платье, закуривал сигарку, чувствовал, как он движется к прогрессу.
Ирина Прохорова: На дачах царила более демократическая атмосфера, и там складывается своя культура — театры, новые знакомства. Надо сказать, что, читая это, я была поражена, как, например, политические режимы приходят и уходят, а бытовые вещи передаются по наследству. В книге вы рассказываете о дачном быте, описанном хроникерами в конце XIX — начале ХХ века, который за 100 лет как будто и не изменился. Я зачитаю: «Для детей младшего возраста вешались маленькие качели, гамаки, строились теремки с детской обстановкой. Дети занимались и развлекались, играя в большой мяч, серсо, волан, катая большое колесо, охотясь за бабочками с сеткой. Наиболее распространенными детскими играми того времени были горелки, палочка-выручалочка, пятнашки, городки, казаки-разбойники». В половину из этих игр, я помню, играли мы на дачах. То есть этот дачный стиль и уклад жизни оказывается поразительно стойким.
Альбин Конечный: Да, и он повлиял на городскую культуру. Например, велосипед ведь появляется на даче, граммофон появляется на даче, маленький театр появляется на даче.
Ирина Прохорова: Это действительно интересно — влияние дачной жизни на городскую. Но я хотела еще поговорить о народной зрелищной культуре, которая мощно развивалась в Петербурге и оказывала большое влияние на верхние этажи культуры. Может быть, Альбин Михайлович, вы расскажете о гуляниях на балаганах, о низовой культуре, которая мощно цвела в течение всего XIХ века и стала затухать в конце XIX века из-за действий властей, которые считали, что это недостойная культура, что нужно что-то более высокое.
Альбин Конечный: Я бы скорее начал с того, как балаганная культура повлияла на высокую культуру. Например, когда в балагане Лемана ставили «Последний день Помпеи» с роскошными декорациями, декораторы Императорских театров приходили и просили помощи: как вы это сделали? То есть это повлияло и на сценографию Императорских театров. Потом светские забавы в Царском Селе, где строились катальные горы, были перенесены в народную культуру. А вот кружение экипажей вокруг балаганов и так далее — они превращали это зрелище в театр, то есть зрители одновременно становились и наблюдателями друг за другом. Так что очень многое в высокой культуре было взято с площади.
Ирина Прохорова: Вы замечательно описываете, как Христиан Леман, который выступал со своим балаганом, придумывал невероятные технологические новшества, которые потом перенимались в театрах. И, например, меня потрясла история с картиной Карла Брюллова, которая сначала выставлялась в Париже и ее еще не видели в наших городах, но уже в балаганах по ней ставили постановки. Это поразительно, и это мне напомнило старую историю о том, что утром в газетах, а вечером в куплетах. То есть на самом деле в питерском балагане так все и происходило.
Лев Оборин: В 1830 году в балаганах ставится сцена из «Бориса Годунова», который, как мы помним, был несценическим произведением и долгое время не был поставлен, по крайней мере полностью. Но, опять же, в балаганах сцены из пушкинской трагедии вполне можно было увидеть и при жизни Пушкина, и видел их не бомонд, который ходил в театр.
Ирина Прохорова: Но ведь, несмотря на снобское отношение элиты к этому, современники описывают, что и благородное сословие с удовольствием посещало балаганы. Альбин Михайлович, может быть, вы тоже немножко об этом расскажете? Потому что очень интересно, как низовая культура привлекала и высшие классы.
Альбин Конечный: Пример тому — Оболенский, который говорил, что самое впечатляющее зрелище, которое он видел, это когда на Масленице сходились все сословия: какой-нибудь правовед, какой-нибудь купчишка, какой-нибудь торговец, чиновник, и все радовались этому веселью, потому что было просто веселье. Как писал Блок, балаган — это театр, где нужно просто радоваться, а никакой морали там быть не должно.
 Балаганное представление на Исаакиевской площади Санкт-Петербурга. Рисунок Тимме, 1858. Источник
Балаганное представление на Исаакиевской площади Санкт-Петербурга. Рисунок Тимме, 1858. ИсточникИрина Прохорова: Театроведы в конце XIX века писали, что происходит быстрое и почти повсеместное умирание чисто низового театра и создание театра псевдонародного, приспособление господствующих приемов исполнения, вещественного оформления и драматической литературы ко вкусам городских низов. То есть в конце XIX века начинается попытка, грубо говоря, просвещения людей, попытка заменить площадную культуру моралистической и псевдонародной. Насколько это увенчалось успехом?
Альбин Конечный: Чиновники организовали попечительство народной трезвости, они решили устраивать праздники в рабочих районах — при заводах, фабриках и так далее. Все эти зрелища не имели никакого успеха, и народ валил в общедоступные увеселительные сады, где можно было развлекаться как хотелось — смотреть какую-то чертовщину, отрывки из оперетт и так далее. Люди предпочитали заплатить побольше на 10 копеек и увидеть настоящее зрелище.
Ирина Прохорова: Вот это морализаторство и, я бы сказала, попытка подменить народную культуру псевдонародной, к сожалению, стали прозой жизни в советское время, когда начали снимать «народное» кино, не имевшего никакого отношения к реальной народности. Но мы можем увидеть, что странным образом это все равно не сработало. И, как ни странно, в 90-е годы можно было наблюдать возрождение стихийной народной культуры: в Петербурге были бесконечные веселые шествия, какие-то карнавалы самостийные. Можно ли считать, что на самом деле эта традиция низовой культуры подспудно пережила этот контролируемый псевдонародный процесс?
Альбин Конечный: В какой-то степени она ушла, например, в кабаре, понимаете, переместилась уже на более высоком уровне, но все равно. Кстати, ведь кинематограф впервые показали на гуляниях — не в кинотеатрах. Впервые братьев Люмьер увидели в балагане.
Ирина Прохорова: Кстати говоря, вы отмечаете, что на самом деле раннее кино и строилось по балаганной структуре с ее гэгами. Это действительно низовое искусство, перешедшее в новые технологические рамки и дальше развивающееся долгое время под влиянием именно балаганной культуры.
Лев Оборин: Именно поэтому многие люди начала ХХ века считали, что кино — это какой-то ужас, это потворство самым низменным смеховым инстинктам человека. Вот эти все политые поливальщики и, как писал Чуковский, «бега тещ» — это то, что считалось искусством грядущего Хама. Еще Ходасевич в гораздо более поздние времена писал об «идиотствах Шарло», то есть Чарли Чаплина. Они просто не увидели начала кинематографа как серьезного искусства. Да, он очень долго сохранял связь с сугубо развлекательным искусством.
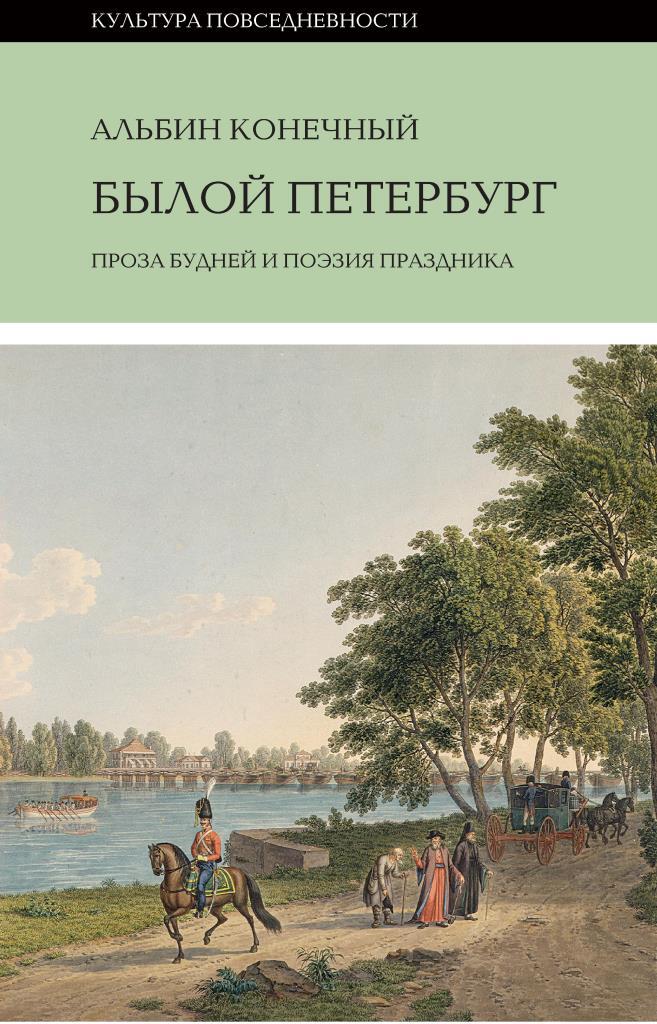 Ирина Прохорова: Я хотела бы вернуться к тому, как складывалась повседневность в Петербурге XIX века. Альбин Михайлович, очень важное место в вашей книжке занимает рассказ о Николае Анциферове, который был одним из основателей идеи экскурсий, просвещения и интереса к Петербургу и его повседневности. Краеведение в 30-х годах было разгромлено, и была попытка заменить его идеологическим рассказом о революционном движении, рабочем классе и так далее.
Ирина Прохорова: Я хотела бы вернуться к тому, как складывалась повседневность в Петербурге XIX века. Альбин Михайлович, очень важное место в вашей книжке занимает рассказ о Николае Анциферове, который был одним из основателей идеи экскурсий, просвещения и интереса к Петербургу и его повседневности. Краеведение в 30-х годах было разгромлено, и была попытка заменить его идеологическим рассказом о революционном движении, рабочем классе и так далее.
Альбин Конечный: Я хотел бы начать с Гревса, потому что он был основателем этой школы, по сути дела. Он своих учеников, к которым относился и Анциферов, возил, например, в Италию, и он говорил: прежде, чем изучать город, нужно забраться куда-нибудь высоко — на колокольню, на холм, понять эту структуру сверху, а потом спуститься вниз и уже постепенно осваивать пространство. В общем, это все пошло от Гревса. И после революции многие люди, которым было дорого прошлое, стали создавать такие организации, как экскурсионный институт, чтобы пропагандировать именно прошлое среди студентов и для всех интересующихся. И так же возникло общество «Старый Петербург», которое тоже этим занималось и которое тоже было в результате разгромлено. Их попытки оказались неудачными, но они все равно оставили свой след.
Лев Оборин: Тут сразу вспоминаются истории Довлатова о параллельных краеведах, которые промышляли тем, что говорили, что сейчас они покажут настоящую могилу Пушкина, когда приезжали в Пушкинские горы, или сейчас расскажут что-то подлинное об отношениях Петра с лошадью и змеей, и все эти замечательные анекдоты про доверчивых иностранцев, к которым подходили и говорили: сейчас мы вам расскажем не то, что вам говорит официальный экскурсовод. Так что я думаю, что параллельное паракраеведение будет процветать всегда — точно так же, как существуют сейчас экскурсии по мистическим местам, диггерские экскурсии по метро и тому подобные вещи.
Ирина Прохорова: Мне кажется, что очень важный момент — это возрождающийся интерес к локальной истории, начавшийся с 90-х годов и сейчас очевидный, к индивидуальной истории. Про Петербург в данном случае мне судить сложнее — все-таки тут богатая традиция краеведения. Мы можем считать, что возрождающийся интерес к локальной истории, в том числе к истории города, это такой позитивный момент постижения истории города и страны? Альбин Михайлович, как вы считаете?
Альбин Конечный: Трудно ответить на этот вопрос. Все-таки я думаю, что петербуржцы не забывают свое прошлое, возвращаются к нему — оно дорого для них. Это наша генетическая база.