Автор и его мерцающая смерть
Об одном заочном споре Мишеля Фуко с Роланом Бартом
22 февраля 1969 года Мишель Фуко выступил на заседании Французского философского общества в Коллеж де Франс. Тема не самая обычная для него: не власть, не дискурс, не история безумия или наказаний, даже не методология исторического знания, ключевые работы по которой Фуко публиковал как раз в эти годы («Слова и вещи» вышли незадолго до того, «Археология знания» в тот момент уже находилась в печати). Его пригласили обсудить филологическую проблему — категория автора художественного и нехудожественного текста. На фоне зарождающегося французского постструктурализма, свежих статей и книг Жака Деррида, Юлии Кристевой, Ролана Барта эта тема была животрепещущей. И Фуко тоже не смог обойти ее стороной — и заочно поспорить с Бартом. О подробностях этой дискуссии — и проблематике странной смерти Автора в целом — рассказывает Николай Поселягин.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Ролан Барт. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Пер. с франц. под ред. Г. К. Косикова. М.: Прогресс, 1989
Мишель Фуко. Что такое автор? // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности: Работы разных лет / Сост., пер. с франц., коммент. и послесл. С. Табачниковой под общ. ред. А. Пузырея. М.: Касталь, 1996
Автор не умер, потому что нерожденное умереть не может. Автора никогда и не существовало, а существуют только структуры текста и дискурса. Что-то подобное услышали не очень внимательные участники семинара 22 февраля 1969 года — к неудовольствию Мишеля Фуко, который только что прочел лекцию не об этом.
Предыдущие три года Автор художественного текста умирал настойчиво и неоднократно. У Жака Деррида он оказался замещен процессом письма, у Юлии Кристевой — бесконечным рядом произведений, складывающихся в литературную традицию и мерцающих в данном тексте (интертекстуальность), а Ролан Барт так и вовсе опубликовал знаменитую статью-приговор «Смерть автора». (Почему, кстати, в заголовке «автор» со строчной буквы, хотя Барт пишет о романтической фигуре Автора-творца, — вопрос с редактору марсельского литературного журнала «Manteia», где манифест был впервые напечатан.) У Фуко был свой взгляд на проблему, и спустя год после Барта он поделился им в докладе «Что такое автор?». Его пригласили выступить на заседании Французского философского общества как автора, — автора вышедшей за три года до этого и ставшей бестселлером книги «Слова и вещи».
Но прежде чем говорить о концепции Фуко, надо погрузиться в контекст проблемы — в кого превратился автор (или Автор) художественной литературы к 1969 году? Тем более что погружение в исторический контекст одобрил бы и сам Фуко. Все-таки кризис этой категории наступил задолго до конца шестидесятых — автор умер задолго до Барта, хотя поначалу мало кто это заметил.
В определенном смысле кризис фигуры Автора начался еще в конце XVIII века, одновременно с зарождением романтизма. С одной стороны, романтики утвердили того самого Автора с заглавной буквы — либо как абсолютно свободного творца, кто создает художественное произведение исключительно собственной волей, согласно своей идее, идеалам и замыслу, не подражает никому и лишь отталкивается от предшественников да гордо возвышается над презренной толпой; либо же как современного пророка, кто смиренно транслирует волю и замысел Бога или идеализированного народа. Литературный текст во всех случаях не самоценен: это просто лирический дневник, прозрачный медиум, пассивно отражающий кого-то внешнего — будь то автор, Бог, дух народа в романтическом национализме или позже социальные классы и общественно-исторические формации в марксизме.
С другой стороны, основатель филологии в современном смысле Фридрих Август Вольф в 1795 году поставил гомеровский вопрос: а существовал ли вообще такой автор, как Гомер? Или это просто мифическая фигура, условное имя, а в действительности «Илиада», «Одиссея» и гомеровские гимны — это плод коллективного творчества многих поколений певцов, аэдов и рапсодов, причем каждое из этих произведений создавалось в пределах собственной, отдельной традиции? Народ творил их сам, и какой-то отдельный автор — и тем более Автор — ему, по сути-то, и не нужен.
С середины XIX века различные эстетические течения начали постепенно реабилитировать текст и его самоценность, а в 1910–1920-е годы к ним подключились и филологи-теоретики — русские формалисты, американская новая критика, ранние структуралисты и многие другие. Автор при этом все чаще отходил на второй план — впервые процесс начался, видимо, в эстетике французских символистов, а модерн и особенно авангард развили его еще сильнее. Например, для новой критики биография создателя второстепенна — главное, чтобы произведение было достаточно талантливо, наполнено глубокими смыслами и, как следствие, канонично; существовал ли индивидуальный Гомер или нет, это по большому счету мало что меняет.
Еще сильнее текстоцентричный пафос присущ русскому формализму, точнее раннему ОПОЯЗу, — филологическим авангардистам. Если, согласно афоризму Виктора Шкловского из статьи «Искусство как прием», «искусство есть способ пережить деланье вещи, а сделанное в искусстве не важно», то и фокус будет делаться на процессе письма, а не на создателе произведения. Есть текст и есть читатель — текст влияет на читателя, заставляет его по-новому осмыслить мир вокруг себя, производит деавтоматизацию его восприятия (то, что Шкловский обозначает как остранение), и это делают внутренние структуры текста, а не человек, его написавший. В самом радикальном виде автор вообще оказывается внутри текста. Борис Эйхенбаум в статье «Как сделана “Шинель” Гоголя», опубликованной вместе с «Искусством как приемом», описывает гоголевскую интонацию при чтении повести — и эта интонация становится таким же приемом, как и все прочие. Голос Гоголя равноправен иронии или неожиданным эпитетам, а сам Гоголь важен для структур произведения лишь как внутритекстовая категория, а не как реальный исторический персонаж, живший в 1809–1852 годах и написавший «Шинель». Чуть позже, правда, пришел Юрий Тынянов и вернул социологическое измерение в методологию ОПОЯЗа, тем самым частично реабилитировав и исторического автора, однако основной фокус все равно остался на литературном произведении, его языке и принципах его конструкции. В русском формализме автор еще сильнее превратился во внутреннюю категорию художественного текста, чем у Вольфа или в американской новой критике.
В это же время схожие процессы протекали и в структурализме — а когда Роман Якобсон привнес в него идеи ОПОЯЗа, логика Фердинанда де Соссюра соединилась со взглядами ранних Шкловского и Эйхенбаума. Впрочем, структуралисты вполне приходили к аналогичным выводам и без помощи русских формалистов: Барт, опираясь на семиологию Соссюра, писал в статье 1966 года «Введение в структурный анализ повествовательных текстов»:
Между тем в действительности — по крайней мере, на наш взгляд — повествователь и его персонажи по самой своей сути являются «бумажными существами»; автор (физический) текста ни в чем не совпадает с рассказчиком; знаки рассказчика имманентны самому рассказу и, следовательно, в полной мере поддаются семиотическому анализу; но, чтобы утверждать, будто и сам автор (громко заявляющий о себе, прячущийся или растворяющийся в своих персонажах) обладает «знаками», которыми усеивает произведение, придется допустить, что язык личности как бы описывает ее собственные приметы, вследствие чего автор превращается в суверенного субъекта, а рассказ — в инструментальное выражение этой суверенности: структурный анализ не может принять такого допущения; для него тот, кто говорит (в самóм повествовательном произведении), — это не тот, кто пишет (в реальной жизни), а тот, кто пишет, — это не тот, кто существует.
Итак, здесь уже наглядно и без оговорок разводятся порознь несколько текстовых категорий. Есть повествователь — рассказчик, говорящий в тексте, — именно его мы слышим и читаем. Он может совмещаться с персонажем — точнее, одна и та же фигура выступает попеременно то как персонаж, то как рассказчик, нарратор. Когда главный герой «Моби Дика» говорит: «Зовите меня Измаил», — он в этот момент является нарратором; когда же он плывет на корабле «Пекод» и спасается в катастрофе, то действует как персонаж; а когда он рассказывает нам, читателям, о своих приключениях, то снова превращается в рассказчика. Повествователь транслирует все дискурсы текста — но не он их на самом деле сочиняет, не он создает саму ситуацию рассказывания. Это делает внутритекстовый субъект, субъект письма — сформулированный Бартом по аналогии с субъектом языка в структурализме и очень похожий на внутритекстового автора у раннего Эйхенбаума. Это не реальный писатель, а текстовая инстанция; реальный же создатель художественного произведения остается за рамками.
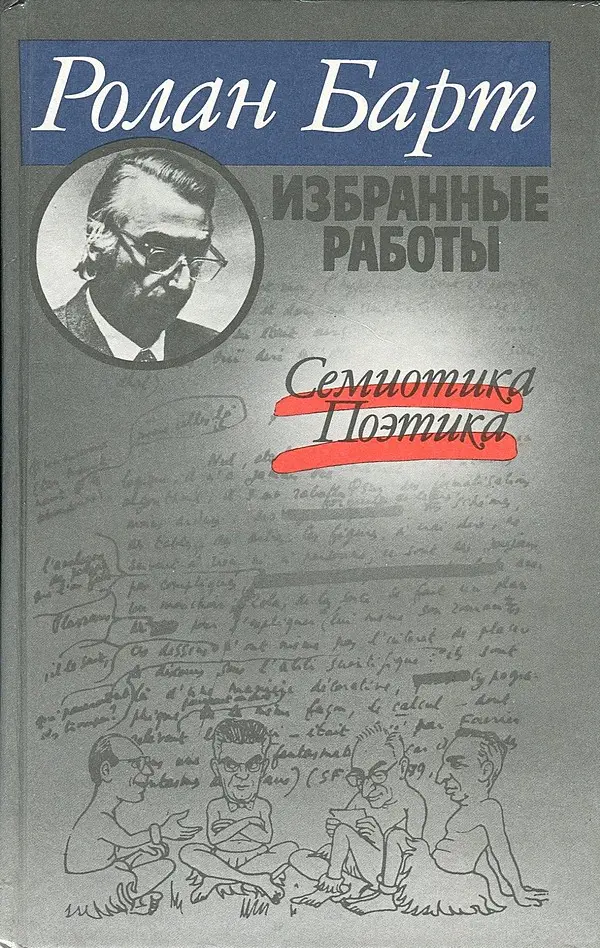
Хотя опубликованная спустя два года, в 1968-м, статья «Смерть автора» считается одним из первых манифестов постструктурализма и постмодерна, категорически порывающая со структурализмом и остальными философскими и научными направлениями первой половины XX века, но здесь видно, что ее основной посыл — это вообще-то логичное продолжение того, что Барт описал в строго структуралистском «Введении в структурный анализ повествовательных текстов». Романтическая фигура доминантного Автора по-прежнему остается за кадром, только теперь Барт отключает ее от текста не вскользь, а демонстративно. Смысл литературного произведения создается не в голове реального исторического деятеля (в которую мы не можем залезть по определению), а в самом письме — дискурсах текста, разворачивающихся перед читателем. Именно текст вступает в диалог с читателем — точнее даже не текст, а письмо, поскольку оно не статично, а сообщает каждому читателю что-то свое. Единственная категория, «отвечающая» за создание письма, — это так называемый скриптор, возникающий одновременно с письмом и внутри него, т. е. тот самый субъект письма, внутритекстовый автор:
Для тех, кто верит в Автора, он всегда мыслится в прошлом по отношению к его книге; книга и автор сами собой располагаются на общей оси, ориентированной между до и после; считается, что Автор вынашивает книгу, то есть предсуществует ей, мыслит, страдает, живет для нее, он так же предшествует своему произведению, как отец сыну. Что же касается современного скриптора, то он рождается одновременно с текстом, у него нет никакого бытия до и вне письма, он отнюдь не тот субъект, по отношению к которому его книга была бы предикатом; остается только одно время — время речевого акта, и всякий текст вечно пишется здесь и сейчас.
Романтический Автор авторитетен и авторитарен, он доминирует над читателем, принудительно навязывая ему «единственно верный» способ прочтения текста. Чаще это делает даже не сам писатель, а литературный критик, школьный учитель или университетский профессор, объясняющие, «как правильно» читать текст, и откуда-то точно знающие, что хотел сказать автор. Структуралистский скриптор демократичен — это всего лишь рука, которая держит перо, и не более того. Он создает дискурс, однако смыслами наполняет его читатель:
Так обнаруживается целостная сущность письма: текст сложен из множества разных видов письма, происходящих из различных культур и вступающих друг с другом в отношения диалога, пародии, спора, однако вся эта множественность фокусируется в определенной точке, которой является не автор, как утверждали до сих пор, а читатель.
Впрочем, (идеальный) читатель у Барта — это такая же внутритекстовая категория, как и скриптор:
Читатель — это то пространство, где запечатлеваются все до единой цитаты, из которых слагается письмо; текст обретает единство не в происхождении своем, а в предназначении, только предназначение это не личный адрес; читатель — это человек без истории, без биографии, без психологии, он всего лишь некто, сводящий воедино все те штрихи, что образуют письменный текст.
Идеальный читатель создает пространство свободы для реального читателя. Теперь обычные люди могут не чувствовать себя ущербными, потому что чего-то не понимают в тексте, или вовсе отключенными от элитарной литературы, — скриптор и письмо не предполагают элитарности, исключают навязывание реальным читателям чьих-то чужих ценностей и иерархий, а идеальный читатель дает возможность наделять прочтенный текст любыми смыслами, которые придут им в голову.
Это очень демократичная позиция. И именно с нее начинается бартовский отход от структурализма. Ведь в такой системе координат автор оказывается не просто внутритекстовым персонажем (каким он бывал неоднократно и раньше) — главное, что теперь автор становится просто не нужен. Его присутствие не обязательно — текст можно интерпретировать и без него. В 1966 году у бартовского внутритекстового автора еще была какая-никакая субъектность, а вот у скриптора образца 1968 года этой субъектности уже нет. Самостоятельный и свободный субъект теперь только один — читатель, и именно он создает систему значений и смыслов, а она может быть какой угодно, ведь все реальные читатели разные, а категория идеального читателя вмещает в себя любые, самые неожиданные и радикальные интерпретации. Пока парижские студенты в мае 1968-го устраивали забастовки и пытались поднять политическую революцию, Барт совершал свою собственную революцию в литературе.
Отмечу еще один момент из «Смерти автора». Категория (якобы реального) автора для Барта исторически обусловлена:
Фигура автора принадлежит новому времени; по-видимому, она формировалась нашим обществом по мере того, как с окончанием средних веков это общество стало открывать для себя (благодаря английскому эмпиризму, французскому рационализму и принципу личной веры, утвержденному Реформацией) достоинство индивида, или, выражаясь более высоким слогом, «человеческой личности». Логично поэтому, что в области литературы «личность» автора получила наибольшее признание в позитивизме, который подытоживал и доводил до конца идеологию капитализма.
С этим тезисом Фуко, пожалуй, согласился бы, хотя в остальном он смотрит на фигуру автора иначе. Нет, конечно, не потому что он внезапно полюбил капитализм или позитивизм, а потому что значимость автора для текста и читателя, по его мнению, гораздо выше, чем считает Барт. И дело тут именно в исторической обусловленности.
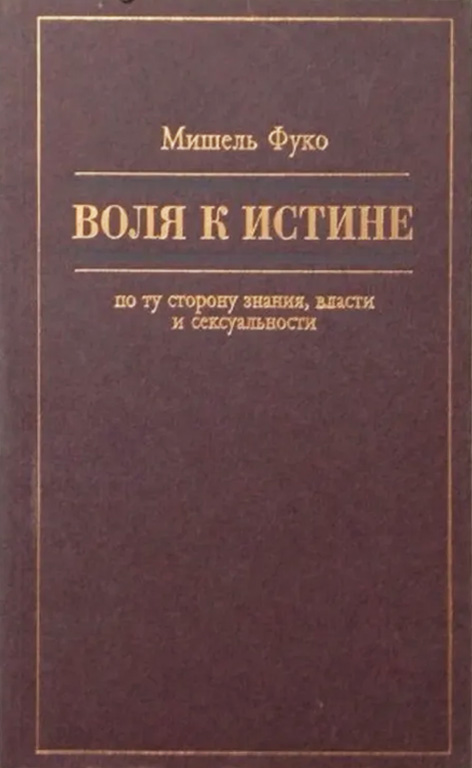
На семинаре Французского философского общества Фуко, как я упоминал выше, оказался как автор «Слов и вещей» — монументального исследования, как на протяжении Нового времени эволюционировали французская и общеевропейская философская, научная, политическая и художественная мысль. Это слишком широкий охват для того, чтобы обращать внимание на отдельных авторов (в основном философов и ученых), хотя Фуко их неоднократно цитирует, но они для него лишь примеры, иллюстрирующие масштабную эволюцию дискурсов. Точнее, картин мира — эпистем, — присущих Западной Европе от позднего Ренессанса до XIX века, меняющихся со сменами эпох (собственно, смена эпох по Фуко и маркирует обновление эпистемы) и выражающихся в дискурсах. Каждой эпохе и каждой эпистеме присущи свои собственные дискурсивные логики. Эпистемы и их дискурсы обуславливают то, как люди в данную эпоху видят мир, взаимодействуют друг с другом, какие научные, философские, политические теории формулируют и какие социальные и политические порядки строят. Авторы художественных текстов, получается, будут точно так же отражать особенности «своей» эпистемы, как и авторы научных трудов, политических манифестов и философских трактатов. Индивидуальность отдельного сочинителя в такой оптике меркнет на фоне всесильного дискурса. Казалось бы, чем не Барт? Тем более что с пересказа концепции смерти Автора Фуко и начинает свою лекцию.
А дальше происходит интересное. Фуко слишком историк, чтобы свести проблему авторства исключительно к порядкам дискурса: он помнит, что, помимо дискурсивных категорий, есть еще и индивиды, настоящие исторические личности. Чтобы тексты маркиза де Сада не выглядели ворохом бумаг, интересных разве что психоаналитику и криминалисту, нужна фигура самого де Сада. Издавая полное собрание сочинений Ницше, нужно ли остановиться только на его философских трактатах и письмах — или публиковать счет из прачечной, если он тоже записан его рукой? Отмечу, что это уже рука не бартовского скриптора и не Гоголь-как-прием: Фуко тут говорит о вполне реальном Фридрихе Вильгельме Ницше, жившем внутри его собственной, реальной человеческой повседневности. Что конкретно среди письменных источников, оставшихся от этого человека, нам важно, а что нет, и почему?
Тем временем Фуко продолжает задавать тяжелые вопросы: а «Тысяча и одна ночь» — это одно произведение или нет? Снова замечу, что ответом на этот вопрос, по-видимому, будет то, как мы, читатели, договоримся между собой: будем ли мы представлять себе сборник персидских и арабских сказок и новелл как нечто цельное, скомпилированное единым автором в соответствии с единым замыслом, или как-то иначе. И здесь начинается негласная полемика Фуко с Бартом:
Так что недостаточно утверждать: обойдемся без писателя, обойдемся без автора, и давайте изучать произведение само по себе. Слово «произведение» и единство, которое оно обозначает, являются, вероятно, столь же проблематичными, как и индивидуальность автора.
Но это не значит, что Фуко просто предлагает вернуться к XIX веку и категории Автора-творца. Как раз наоборот: он солидарен с тем, что автор художественного произведения — это внутритекстовая категория, которая существует отдельно от реального автора и может с ней не совпадать. Точнее, не совпадать с фактами биографии исторической личности, но не с фактами авторства как таковыми, от которых зависит образ автора в представлении читателя:
…конечно же, если бы выяснилось, что Шекспир не родился в доме, который сегодня посещают, то это изменение, разумеется, не нарушило бы функционирования имени автора. Однако если было бы доказано, что Шекспир не написал сонетов, которые принимаются за его сочинения, это было бы изменением совсем другого рода: оно оказалось бы совсем не безразличным для функционирования имени автора. А если бы было установлено, что Шекспир написал Органон Бэкона просто потому, что произведения Бэкона и сочинения Шекспира были написаны одним автором, это было бы уже таким типом изменения, которое полностью меняло бы функционирование имени автора.
Категория письма в том виде, как ее понимает Барт в «Смерти автора» (а до него — тоже не называемый напрямую — Деррида в книге «О грамматологии»), по мнению Фуко, неявно предполагает присутствие того самого Автора, которого его коллеги так настойчиво пытаются свергнуть. Нужно не просто отказаться от этой категории — никуда она не денется, ведь она присутствует в тексте и читатель ее там ищет, она безусловно влияет на восприятие текста, хотим мы того или нет. Вместо этого надо понять, зачем она вообще нужна тексту и читателю, и реконструировать, как такая ситуация сложилась исторически.
Фуко предлагает следующий тезис, чем-то перекликающийся с американской новой критикой. Автор (точнее было бы сказать, образ автора) — это функция дискурса, но функция важнейшая. Ее роли — классификация, оценка и наделение текста тем или иным статусом. Неважно, существовал ли Гомер как биографическая личность или нет, — главное, в современной цивилизации есть образ Гомера, объединяющий собой «Илиаду» и «Одиссею», и то, как мы воспринимаем обе поэмы, во многом зависит от того, как мы представляем себе имя Гомера. Это имя наделяет данные тексты статусом классика — если бы их сочинила нейросеть в прошлый четверг, то вряд ли бы они оставались для нас столь же важными, даже если бы совпадали буква в букву. Поэтому же так важно, с другой стороны, кто прав в «шекспировском вопросе»: шекспироведы или конспирологи, приписывающие авторство трагедий Фрэнсису Бэкону. Не из-за того, что личность бывшего лорда-канцлера и основателя британского эмпиризма вызывает у нас больше пиетета, чем личность актера театра «Глобус» (хотя у многих конспирологов, возможно, именно из-за этого), а потому, что тем самым трагедии Шекспира помещаются в иной интеллектуальный контекст — прочитываются и интерпретируются внутри него. А вот юридический контракт, например, не интерпретируется по-разному в зависимости от имени того, кто его составляет, и вообще такого контекста не требует — в результате и имени автора у него нет.
В Средневековье, по Фуко, дело обстояло иначе: авторство было значимо не для художественных, а для научных и философских текстов (можно также добавить — богословских), потому что имя автора — гарант авторитетности текста. Другими словами, функция та же, но применялась к другому корпусу текстов. Научный факт или философский тезис был значим не сам по себе, а потому что о нем рассказал Плиний-старший или его вывел Аристотель. Художественные же тексты не обладали достаточным статусом, чтобы претендовать на авторитетность — и, следовательно, на индивидуальное авторство.
Около XVII–XVIII веков, по Фуко, ситуация меняется: авторитетность науки начинается базироваться на иных основаниях, для которых фигура автора уже не важна. Истина больше не зависит от того, кто ее открыл. Если мы и называем по-прежнему какой-нибудь физический эффект или теорему именем первооткрывателя, то просто в знак уважения; роль автора-функции это имя больше не играет. Зато функция-автор появляется и начинает доминировать в художественных произведениях (а также в философских и любых других, где образ творца остается значим, даже в биографических предисловиях к научным книгам). Именно она в последние несколько столетий создает статус и ценность текстов для нас, читателей.
По мнению Фуко, литература Нового времени заимствует эту функцию из средневековой христианской традиции, тем самым «освящая» статус текста и поднимая его престиж и значимость в глазах читателя. У святого Иеронима он обнаруживает рассуждения о четырех критериях «подлинности», т. е. принадлежности некого корпуса текстов единому автору. Автор, по Иерониму, — это тексты с определенным постоянным уровнем ценности (более слабые и незначительные исключаются из корпуса), они непротиворечиво связаны между собой единой концепцией, образуют стилистическое единство и датированы определенным историческим моментом (исключаются произведения, в которых описываются события после смерти биографического автора).
Разница между Иеронимом и литературой Нового времени – в том, что средневековый святой все-таки отсылает к конкретным историческим фигурам, в то время как современная литература создает отвлеченный образ автора, альтер эго писателя, более или менее далекое от реального создателя произведения. Функция-автор создает символическую связь между живым автором и его образом, который читатели реконструируют из текста.
Итак, автор-функция — это наша читательская проекция. Обобщая взгляды Фуко, можно сказать, что автор — это не субъект собственной биографии, а повествовательная инстанция, которая нужна, чтобы считать текст а) осмысленным, б) сообщающим нам некие уникальные сведения, в) литературным, г) значимым или нет — т. е. высокостатусным (канон) или низкостатусным, который и читать-то не стоит, и д) относящимся к определенным историческим контекстам. Пункт «в» я добавил от себя, поскольку Фуко не ограничивается художественными дискурсами. Для него имена основателей больших теоретических и идеологических традиций («учредителей дискурсивности»), такие как имена Маркса или Фрейда, тоже обладают признаками функции-автор. Тут уже речь у Фуко заходит не об отдельных корпусах текстов, а о целых пластах культуры: они придумали эти традиции, сделали их возможными. В результате Маркс = субститут марксизма, пусть сколь угодно далекого от самого Маркса и его трудов, а Фрейд = субститут психоаналитической традиции, даже когда она яростно критикует своего отца-основателя и всячески от него открещивается. Фуко выстраивает мостик от разговора об авторе к концепции эпистемы.
С идеями Фуко можно спорить — а с его историческими построениями и обобщениями даже нужно. Ценность его в другом: он, как и Маркс с Фрейдом, предложил такую точку зрения, которая помогает обобщить предыдущих теоретиков и одновременно позволяет увидеть проблему по-новому, в новом ракурсе. Он, разумеется, не закрыл проблему и не дал окончательные ответы на волнующие вопросы, да он и не стремился к этому. Но когда мы сегодня снова сталкиваемся с этими же вопросами, возвращение к взглядам Фуко и их критическое переосмысление стимулирует нас продолжать интеллектуальный поиск. Об аналогичном возвращении и переосмыслении говорит и сам Фуко ближе к концу доклада, рассуждая о Фрейде.
Поль-Мишель Фуко умер 25 июня 1984 года. Фуко как функция одноименного дискурса по-прежнему жив и продолжает вести полемический диалог с интеллектуальной традицией. А теоретики следующих поколений, споря с ним и отрицая его, тем самым продлевают его жизнь.