«„Архипелаг ГУЛАГ“ был интереснее „Лолиты“»
Читательская биография поэта Всеволода Емелина
«Книжечки беленькие, книжечки красненькие»
Чтобы ребенок читал, надо чтобы и родители читали. Я из читающей семьи советских служащих, отец с матерью следили за новинками: вышла «Бессонница» Александра Крона [1977, роман советского писателя и драматурга (1909–1983) — прим. ред.] — читали, обсуждали. Семья имела возможность доставать любые книжки, легально выходившие в СССР. Мать была секретарем крупного чиновника, заместителя Косыгина, и ему раз в месяц приносили список с новинками главных издательств. Сам он книг не читал, мать ставила за него галочки, поэтому дома была большая библиотека, постоянно пополнявшаяся (и кроме того, она пользовалась услугами кремлевской библиотеки, брала книги на дом). Читать я начал довольно поздно, первую книжку прочитал летом между первым и вторым классом на даче, случайно на нее наткнулся — «Безумство храбрых» Василия Ардаматского [1962, роман советского журналиста и писателя (1911–1989) — прим. ред.], про то как во время войны советские пленные на германском заводе саботажничали. То есть детских книг я не читал, только слушал, начал сразу со взрослых. По-настоящему меня перевернула книга Александра Полещука «Звездный человек» [1957, повесть советского писателя-фантаста (1911–1989) — прим. ред.], там пионеры разоблачают инопланетного шпиона. Я был человек увлекающийся, объявил, что литература — это только фантастика, с презрением относился к тем, кто читал про Шерлока Холмса. Еще через несколько месяцев мне попалась «Попытка к бегству» Стругацких, и тут я уже окончательно подсел. У меня есть стихотворение, в котором я упоминаю серию, где многое из этого выходило:
Книжечки беленькие, книжечки красненькие
В детстве стояли на полочке,
«Библиотека современной фантастики»…
Красные и белые тома, отечественные и зарубежные авторы, двадцать пять томов вышло, мы их получали по подписке. В общем, со второго-третьего класса меня от книг было не оттащить: очень любил Брэдбери, хотя это, в общем, не совсем фантастика, Шекли, Лема. Продлилось это увлечение где-то класса до восьмого-девятого. Стругацких я честно читал потом, как только они прорывались в каком-нибудь журнале «Знание — сила», очень внимательно отслеживал.
Очень вовремя, лет в тринадцать, я взял дома с книжной полки нашего дома томик Блока из «Большой библиотеки поэта». Святое дело книжному мальчику начать читать «Стихи о прекрасной даме» в период полового созревания. Так я и влез в поэзию, начал с Блока и Маяковского. На фантастике досидел до восьмого-девятого класса и начал постепенно переходить на реализм. Алексей Толстой мне понравился, он же лихо пишет, граф-то наш красный. «Хождение по мукам», рассказы с большим удовольствием читал. Началось с фантастики, с «Аэлиты» и «Гиперболоида инженера Гарина», а потом и «Петр Первый» — конечно, он нудный довольно, но я и его одолел. Потом, уже в девятом классе, началась эпоха, как положено, Хемингуэя и Ремарка, они тогда были очень модны (хотя Ремарк — положа руку на сердце и не считая «На западном фронте без перемен» — совершенно детский писатель). «Он закурил свой крепчайший „Кэмел”, поднял воротник куртки, старая рана в боку, выпил третий стакан кальвадоса и решил, что сегодня все-таки напьется по-настоящему». Как-то очень хотелось жить такой жизнью. По-моему, тот же Вайль с Генисом в книжке про шестидесятые, «Мир советского человека», писали, что свитер, выпили — очень многие попытались реализовать это в советской действительности и стали настоящими пьяницами.
«Для меня чем больше было запрещено, тем лучше»
Когда пришло время думать о продолжении учебы, с направлением определились мои трезвомыслящие родители. Я бы очень хотел стать писателем, но они спокойно мне говорили, что писатель, филолог — это не профессия. Ты не поступишь в университет, надо знать язык, а еще надо понимать, что там каста, грубо говоря. Дети филологов становятся филологами. То, что ты много книжек прочел, совершенно не повод тебя туда взять. Тем более, ты прочел их много по сравнению с твоими двоечниками в классе, а с точки зрения настоящих культурных семей ты можно сказать читал совсем не то и совсем не о том. Да и потом, это не профессия, баловство, кончишь учителем в школе. Ты хочешь стать учителем в школе? Понятно, нет. В общем, я под всем этим шестидесятническим хемингуэевским влиянием пошел в МИИГАИК (Московский государственный университет геодезии и картографии). Геодезия и картография: представлялось, как обветренные ребята в штормовках поют красивые песни у костра. Конечно, оказалась, что все не так совсем, но это отдельная история.
Мне кажется, Хемингуэй у нас застрял надолго, потому что семидесятые годы своих героев не предложили, жили по инерции оттепельным героем. Своей мифологической концепции Брежнев не сумел создать. Были книжки про войну, а я про войну не любил ни кино, ни книжки. Ее было так много, и все советское, реалистическое, тяжелое, как в жизни. Идет в кино партизан, допустим, по лесу, десять минут идет, двадцать. Тьфу ты, глаза бы не глядели! Вот поколение моих родителей любило про войну, да потяжелее, собственно, для них это и делалось. А нам уже было про гражданскую войну гораздо интереснее смотреть, потому что там уже мифологизированная, сказочная, романтическая реальность. Ну и вообще интереснее: Махно, атаман Козолуп, господа офицеры, голубые князья.
А потом все пошло, как и должно было идти, Серебряный век и так далее. Мандельштама синего не было, мать брала его в библиотеке, а, допустим, двухтомник Цветаевой, белый, конца семидесятых, уже стоял. О Мандельштаме я прочел впервые у Эренбурга в книге «Люди. Годы. Жизнь». К тому же я повадился «голоса» слушать, там было достаточно много литературных передач. Музыка меня совершенно не интересовала. Я как-то делал вид, что я как все — битлы, роллинги. Себя насиловал просто, чтобы дураком не казаться. Магнитофона не было, родителям тоже на музыку было глубоко накласть всю дорогу. Политика и культура меня интересовала в «голосах».
Значит, поступил я в МИИГАИК. В школе я, как ни странно, при всем этом был твердый троечник. Родители меня постоянно гнобили, что я вообще никуда не поступлю, пойду в армию, а поскольку руки из жопы растут, а голова не на месте, из армии я просто не вернусь — однако экзамены я сдал почти на одни пятерки. Оказавшись в институте, я первое время не очень понимал, где я, что это за люди вокруг, я таких никогда не видел: москвичей в группе было три человека, а остальные из других городов, и эти ребята очень серьезно от нас отличались. Вообще дикое было место этот институт, на первом занятии по математике студенты не могли график синуса построить. Самое смешное, что одним из трех москвичей в группе кроме меня был Ваня Зубковский. Он оказался всего-навсего племянником Дмитрия Бобышева, который увел Марину Басманову у Бродского. Зубковский уже из настоящей, с интеллигентными запросами, семьи — отец у него работал в Академии наук. У них, конечно, водился самиздат-тамиздат. В итоге Зубковский мне первым принес стихи Мандельштама, на машинке напечатанные. Он мне давал «Раковый корпус» из собрания сочинений Солженицына — в твердой обложке с золотыми буквами. «ГУЛАГ», Гумилев, «Реквием» Ахматовой — в общем, стало с кем поговорить, долгое время мы с ним были самыми близкими друзьями. Бродского я узнал благодаря ему — помню, первое, что я прочел у Бродского, был «Рождественский романс», мне ужасно понравилось. Вообще для меня чем больше было запрещено, тем лучше. Солженицын был лучше Набокова, «Архипелаг ГУЛАГ» был интереснее «Лолиты». В поэзии я сразу понял, что круче Мандельштама нету, а из современных — только Бродский. Возникло сразу какое-то снобистское презрение ко всем этим Вознесенским, Евтушенко, которые мне прежде вроде как нравились. Тут я уже вышел за пределы своей компетенции, грубо говоря. Я, сын читающих советских служащих, всего этого читать был не должен. Я не должен был знать, кто такой Мандельштам. Мне должны были нравиться Вознесенский и Евтушенко (и долгое время они мне нравились), а я увлекся диссидентщиной и Серебряным веком.
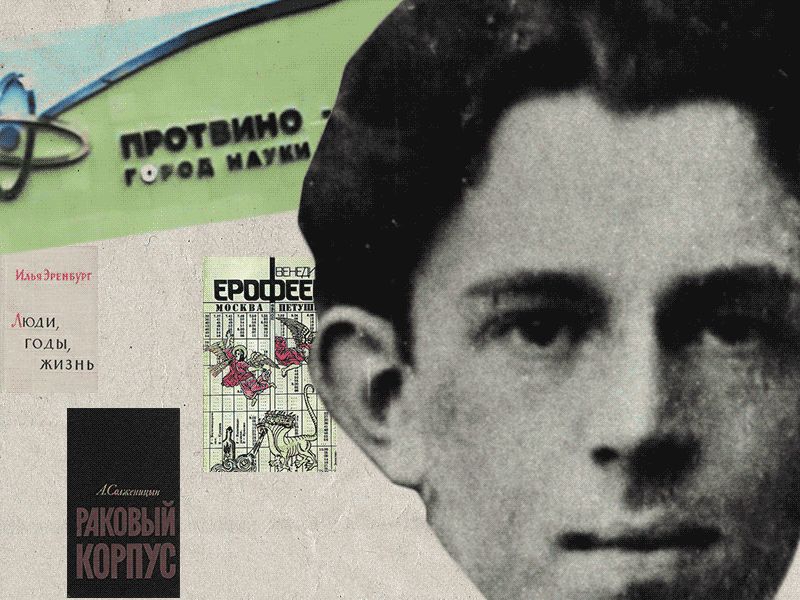
Очень вовремя подвернулась мне «Москва-Петушки» Венедикта Ерофеева. Между четвертым и пятым курсом я проходил производственную практику в городе Протвино, где тогда строили коллайдер, который должен был быть больше того коллайдера, который потом построили в Швейцарии (его, конечно, не запустили, перестройка началась). Мы, собственно, орбиту для него через леса рубили, он под землей должен был быть. Город Протвино, научный город якобы, — посреди него стояла доска с надписью «Опять подобраны», а на ней фамилии тех, кто в пьяном состоянии был не первый раз подобран на улице. Там я впервые по-настоящему запил, там реальные геодезисты работали, и я узнал, что такое запой, когда на несколько дней просто выпадаешь из жизни. А на выходные мы ездили в Москву — все эти электрички, тамбуры с водкой. Как раз после практики Зубковский дал мне «Москву-Петушки», переплетенную машинную копию. Я прочел, разорвал на себе рубаху и сказал: «Это я должен был написать!» Дальше уже бессмысленно жить, если эта книжка уже написана. Вот еще одна из тех книг, которые перевернули меня, как Ленина «Что делать?» Чернышевского.
«Стихи я показывал только очень близким друзьям»
Писать я начал в двенадцать лет. Я тогда надолго загремел в кремлевскую больницу с какой-то непонятной желудочной болезнью, лежал в отдельной палате со стеклянной стеной. Вокруг лес, к стене подходит лось. Зима была, снег. Телевизора, правда, не было. А советскому человеку без телевизора, надо сказать, было очень неуютно. Меня, конечно, родители постоянно навещали, таскали книги, бумагу, чтобы рисовать. Я посмотрел на бумагу — рисовать я никогда не умел и не любил — и написал стихотворение. Я даже помню начало и конец и, самое главное, понял недавно, что всю жизнь так и пишу. Одно это стихотворение продолжаю писать. Оно было про Кеннеди, начиналось так: «Над Техасом солнце жарко грело, // Пыльный Даллас замер в тишине, // Напряженность в воздухе висела // И винтовка щелкала в окне». Возьмите все мое остальное творчество — вы там ничего, кроме этого, не найдете. Заканчивалось оно словами: «Но стрелял не в президента Освальд, // В совесть он Америки стрелял.» Мне тогда было двенадцать. А потом, когда в тринадцать-четырнадцать лет начитался Блока, я уже писал что-то про лазури и пурпуры, писал и под Мандельштама.
Стихи я показывал только очень близким друзьям. Старался, конечно, в себе таить, но иногда делился — с тем же племянником Бобышева, который, естественно, сам писал стихи. Мне очень важно было мнение Зубковского, а он сказал: «Ты пишешь лучше меня. Ты вообще пишешь так, что можешь стать профессионалом».
Публиковаться я не пытался, понимал, что такое в Советском Союзе официальный поэт и писатель. Я видел, что печатают в толстых журналах, видел всех этих, пишущих про БАМ, отливку чугуна. Мне представлялся диссидентский путь: там-то будут девушки, которые понимают толк в поэзии, мужики умные будут рукоплескать. Проблема в том, что я не знал, к кому стучаться. Я вообще человек застенчивый, необщительный, не могу просто прийти к кому-то, как Эдуард Вениаминович, волевой и рвущийся к цели по любым трупам. Хотя я, конечно, фамилии знал из «голосов», знал, что есть где-то «Лианозовская школа», которая мне, положа руку на сердце, совершенно не нравилась. Я был типичный человек, оторвавшийся от своего круга и не прибившийся к настоящей интеллигенции.
Институт я закончил в 1981 году и поехал в экспедицию, покорять Север: четыре года беспробудного пьянства, из которого я вышел уже вполне сформировавшимся алкоголиком. После второй или третьей белой горячки я понял, что дело кончится плохо, и уволился.
«А что там четырнадцатилетнему парню втюхивать про Наташу Ростову и про Раскольникова»
На пятом курсе я познакомился с людьми Александра Меня, которые вели религиозные кружки. Они занимались тем, что называется катехизацией — привлечением людей в церковь. Катехизация была запрещена, хотя сам отец Александр Мень служил совершенно легально в действующем храме. Потом начались серьезные гонения, Меня таскали на допросы в КГБ, двоих его учеников посадили, причем они на него тоже настучали. В общем, такая деятельность реально светила тюрьмой. Это не «Лолиту», извините, нашли у тебя в квартире. Этого они почему-то по-настоящему не любили.
Благодаря этому я сблизился с действительно образованными людьми. На меня обрушился гигантский массив книжной информации, прежде мне незнакомой: Бердяев, Розанов и так далее. Я знал Соловьева, естественно, читая Блока, а тут мне открылся весь гигантский массив русской религиозной философии Серебряного века, которая на самом деле, по-моему, полная белиберда. Сейчас я считаю, что это белиберда бесившихся с жиру странноватых людей. Хотя, Розанов, конечно, крупный писатель, что говорить (я бы даже сказал, поэт), какие бы там ни были у него взгляды. Ужасно талантливый литератор.
Оказалось, что в Москве есть курсы экскурсоводов — без отрыва от производства можно вечером закончить. Я устроился на очень смешную работу, какой-то материнский родственник меня пристроил в Институт повышения квалификации работников советской торговли, и поступил на эти курсы — они восьмимесячные, там я сразу на всех произвел хорошее впечатление. Меня взяли в литературную секцию, сразу начали готовить экскурсию «Высоцкий в Москве». Где-то до 1991 года я работал экскурсоводом. А потом наступила свобода, и людям стало не до экскурсий.
В школе я ни одной книжки из программы, естественно, не прочел, учебника по литературе хватало. Всерьез я за все это взялся только когда оказался в экскурсоводах. Тщательно перечитал Толстого и Достоевского. Лескова пораньше прочитал, потому что был пятитомник дома. Очень многое понравилось. Тургенева я терпеть не мог, неинтересно. «Анну Каренину» и поздние рассказы Толстого читал с восхищением, «Бесов» и «Братьев Карамазовых» сумел оценить. Самое главное — опять же вовремя читал, а что там четырнадцатилетнему парню втюхивать про Наташу Ростову и про Раскольникова. Кроме ненависти, это ведь ничего не может вызвать: портвейна хочется и бабу, а вы мне такое предлагаете.
Меня, однако, не бросили, меневская тусовка устроила младшим научным сотрудником в музей-усадьбу Мураново. Этот дом построил поэт Баратынский, потом его купил сын Тютчева, это было достаточно модное место в интеллигентских кругах. Я работал в отделе пропаганды и теоретически должен был ездить с лекциями, рассказывать о музее-усадьбе Мураново по всяким домам отдыха профсоюзным, но они стали закрываться стремительно, не повыступаешь. Там и водопровода толком не было, я воду носил, дрова колол — в общем, там требовалась неквалифицированная рабочая сила. Перестройку я встретил там, где-то еще с полгода в усадьбе проболтался, потом на баррикады — у Белого дома в 1991 году те три дня отстоял. С баррикад сунулся обратно — там уже вообще ничего нет, ни зарплаты, ничего. И тогда все те же люди мне предложили работу в Храме Космы и Дамиана в Шубине, это на Тверской улице, под хвостом у статуи Юрия Долгорукова, где один из выкормышей отца Александра Меня, отец Александр Борисов, был настоятелем. Мне предложили там поработать без отрыва от основного производства, а основное производство в начале девяностых — это от курьера до монтажника, все что угодно. Где-то срывались большие деньги, где-то вообще не платили. А я был ночным сторожем в этом храме. Потом там произошел некоторый скандал между двумя группами людей, мою группу выгнали. Они перешли через улицу в Газетный переулок, в Храм Успения Пресвятой Богородицы на Успенском Вражке, в коем я до сих пор функционирую в роли разнорабочего. Трудовая книжка у меня там лежит, я рабочий при храме. Идет реставрация, постоянно что-то нужно: замесить раствор, погрузка-разгрузка, да и чтобы некоторые лампочки ввинтить, надо собрать туру высотой восемь метров, иначе ты до нее не доберешься. Кто-то должен это делать.
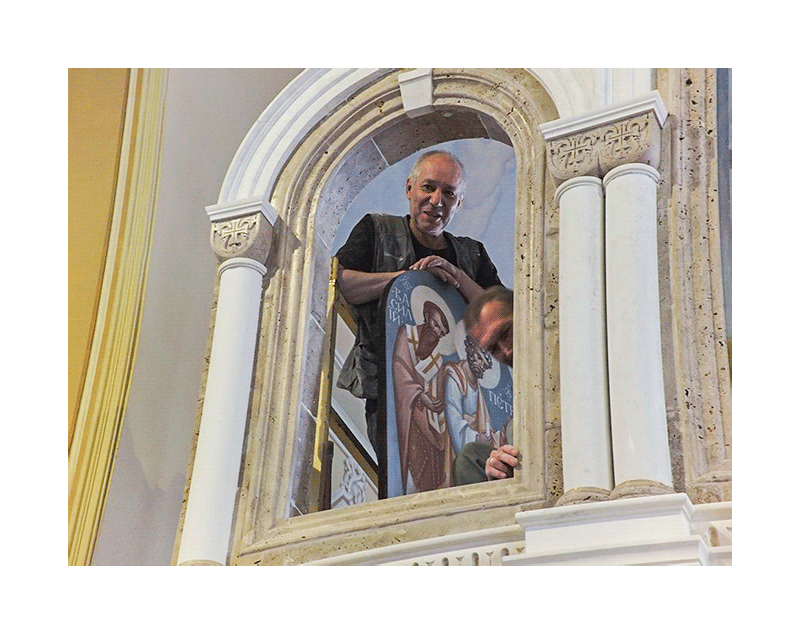
Фото: Наталья Романова
В церкви я познакомился с Натальей Леонидовной Трауберг, уникальным человеком. Слово «святой» мне ничего не говорит (жития я читал — в общем, неинтересно и не трогает), а вот Наталья Леонидовна была святой. Трауберг любила чудных, ну то есть она всех любила, но чудных особенно. Скажем так, она была ко мне добра. Сказать, что я нашел с Трауберг общий язык — сильно себе польстить, но она ко мне она хорошо относилась, хотя мои тексты ее очень расстраивали. И сейчас я понимаю, что она в чем-то была права. Некоторые мои тексты готовили 2014 год — так сказать, тот пожар и мы немножко разжигали, все это нынешнее «Крымнаш, можем повторить, всех пидоров поставим раком». Недаром я после 2014 года лишился очень большой части своей аудитории. «Здравствуй броня горячая, // Сладкий запах солярки. // Каждый нормальный мальчик // Должен смотреть на танки». А она была ужасно мудрая и понимала это. Она вообще не понимала этих игрушек, постмодернизма — игры, спектакля, — считала все это чистым дьяволом.
«В сентябре 1991 года я перестал писать о прекрасных дамах или, наоборот, проклятых большевиках»
В литературное пространство меня вывел все тот же Иван Зубковский. Он взял мои стихи и отнес их в редакцию какого-то непонятного «Журнала литературных дебютов», выходившего в 1997–1998 году. Потом случился дефолт, деньги в стране кончились, и журнал перестал существовать. А самому нести стихи мне было неудобно почему-то: то ли от гордыни, то ли от застенчивости, то ли от того и другого.
Редактор журнала передал мои стихи Виктории Шохиной, работавшей в «Независимой газете» — они ему понравились, но у него было издание для дебютантов, а я уже раз опубликовал через каких-то безумных людей в никому не нужном сборнике 1990 года стихи типа таких: «Идут большевики, // А мы примкнем штыки», антикоммунистическое что-то.
Мне оттуда позвонили, попросили принести фотографию, чтобы стихи мои опубликовать — напечатали полным разворотом в рубрике «Кулиса». Потом мне оттуда позвонили еще раз и говорят: вообще мы в «Кулисе» никого два раза не печатаем, но на ваши тексты пришло столько откликов, что не могли бы вы дать еще стихов? Я думаю, ну теперь-то дело пойдет — и в результате полная тишина.
Прошло сколько-то времени, я впал в депрессию, платили в церкви мало, а внук Натальи Леонидовны стал тогда директором книжного магазина О.Г.И. на Чистых прудах и позвал меня товароведом работать, это был 2001–2002 год. Я пошел, хотя оставался при этом в церкви ночным сторожем. Работал я там с одной девушкой, которая стала всем известным людям, которые туда во множестве ходили, совать мои стихи. Понятно, что большинство их доносили до ближайшей урны, я бы и сам так сделал, а вот критик Лев Пирогов, который был тогда литературным обозревателем в «Независимой», не выбросил — оказалось, он хотел со мной познакомиться. Они тогда пытались с Мирославом Немировым, который завязал к тому времени с изобразительным искусством, сколотить литературную группу. Он мне позвонил, мы встретились с ним и с другими людьми. У них была связь только с одним издательством, маленьким питерским, «Красный матрос», его до сих пор возглавляет Михаил Сапего, радостно ухватившийся за мои стихи и издавший первую мою книгу «Песни аутсайдера» в 2002 году.
Я как поэт начался в сентябре 1991 года, перестал писать о прекрасных дамах или, наоборот, о пытках и палачах, проклятых большевиках и героях-дроздовцах, и написал по горячим следам «Песню ветерана защиты Белого дома». Отец мой покойный почитал тогда и сказал, что мои стихи похожи на пародию на мои стихи. Я сам тогда этого так не формулировал конечно, но понял, что, кажется, нащупал то, что у меня есть, а у других, возможно, нет. Это не ирония, потому что грань между субъектом и объектом иронии стирается.
Я участвовал в учреждении группы «Осумасшедшевшие безумцы» («ОсумБез»), у истоков которой стоял Мирослав Немиров. В собрании участвовали Лев Пирогов, Павел Басинский, которые хотели процессом руководить, но быстро отпали. Делалось все это в пику поэтам круга Дмитрия Кузьмина, который в то время сказал знаменитую фразу: «Поэтом будет тот, кого я назначу» — то есть мы по сути боролись против монополии. Я там никого не знал, потом пришел Владимир Нескажу, заказал семьсот водки, мы их раздавили, и так появился «ОсумБез». Он тогда писал хорошие стихи, печатался в «Независимой». И вот Немиров мне сказал: ты себя с Нескажу не путай, между вами разница как между рокером и бардом. Рокер может и играть толком не умеет на гитаре, но у него это навсегда, дело жизни, а бард — геолог там или биолог — играет может и лучше рокера, но в основном в свободное время под рюмку.
Когда вышла моя книга, Немиров с компанией устроили грандиозную презентацию в дорогом кабаке, его держала ростовская мафия, с которой у Мирослава оставались связи. Народу набежало тьма, сейчас мы всем надоели, а тогда интерес к поэзии был другой совсем. А потом состоялась презентация в недавно открывшемся магазине «Фаланстер», меня там познакомили с Ильей Кормильцевым, и он сказал: Всеволод, я тут в поисках спонсоров набрел на Шабтая фон Калмановича (крупный бизнесмен, сидел в израильской тюрьме за шпионаж в пользу СССР, был убит в 2009 году. — Прим. ред.), мне его жена дала вашу книжку и попросила что-нибудь сделать, чтобы ваши стихи услышала не только аудитория издательства «Красный матрос», поэтому я хочу вас издать (по словам Бориса Куприянова, одного из основателей «Фаланстера», книгу Емелина Кормильцеву на самом деле дал он. — Прим. ред.). Так в 2004 году в «УльтраКультуре» вышла книга «Стихотворения» — в девяностые годы я написал довольно много всего в стол, лучшие мои стихи «Колыбельная бедных», «Кровельщик», «Маша и президент» относятся к тому времени. Тогда я видел в метро людей, читающих мою книгу, потом мы с женой как-то были на пляже в Судаке, там проходил съезд библиотекарей, и видели двух дам явно с этого съезда — одна другой сказала: «И Крыма всяческие вина», то есть меня цитировала (тогда еще Крым был не наш). Видимо, я тогда действительно поймал нерв времени, а теперь его потерял: пытаюсь что-то писать, но людям это неинтересно. Последняя моя книга, вызвавшая определенный интерес, — «Болотные песни» (2012), а 2014 год все добил.